"Эротические приключения в некоторых отдаленных частях света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей" - читать интересную книгу автора (Свифт Джонатан)
ПУТЕШЕСТВИЕ В БРОБДИНГНЕНГ
 |
 |
Да дорогой читатель, эти слова взяты из опубликованной версии моих путешествий, но написал их не я и даже не вымышленный мною бедняга Симпсон. На самом деле книга стала вдвое тоньше по воле издателей, выкинувших из нее целые главы, посвященные, как далее станет очевидным, вовсе не «приливам и отливам»… Скажите откровенно, кто, находясь в доброй памяти и здравом рассудке, будет на сотнях страниц расписывать маневры корабля? Кто станет это читать? Издатели же руководствовались тем сомнительным соображением, что надобно всенепременно считаться с ханжеской моралью нашего общества, парадоксальным образом уживающейся с крайней распущенностью его нравов, и не смущать ограниченные умы слишком дерзкими или тем паче фривольными высказываниями и картинами, касающимися образа жизни великанов, среди которых волею судьбы, решившей меня испытать, я оказался. Как и в Лилипутии, здесь, в Бробдингнеге, я был свидетелем, а то и участником, поразительных событий, рассказ о которых впоследствии был вычеркнут ради якобы моего же блага. Какой гнев своих соотечественников, говорилось мне, навлек бы я на себя, познакомься они с моими подлинными живописаниями, сделанными непосредственно с натуры, иногда по горячим следам, и в какой ужас пришли бы они, особенно их нежная половина, узнай они о нравах и обычаях, царящих в этой стране. Хотя, если прямо посмотреть правде в глаза, в великаньем сообществе я ни разу не встретил и не наблюдал ничего такого, что в том или ином виде не было мне известно по прежней моей «нормальной» жизни среди подобных мне, чего не творилось бы за глухими стенами домов родного мне Ноттингемпшира, да и в нашей славной столице, повсеместно знаменитой не только своими королевскими дворцами, но и, смею сказать, злачными местами, а точнее – притонами, где воистину дают пышные всходы злаки наших человеческих слабостей, где и я, бедный раб страстей своих, проводил часы своей молодости… Удивительно устроен человек – он предается пороку легко и безоглядно, с чистой совестью и невозмутимостью во взоре, пока сей порок не назван и не показан ему в подобии зеркала, коим может служить назидательная литература. Когда же оное происходит, то человек чаще всего не направляет взор внутрь себя, не корит себя за содеянное, не обращается с молитвой ко Всевышнему, дабы получить отпущение грехов, нет - чаще всего он обрушивается с проклятиями на того, кто поднес ему это зеркало… Ибо давно замечено: ничто людей так не оскорбляет, как правда…
Тщательно описывая все, что произошло со мной в Бробдингнеге, я велел себе следовать одному завету, а именно – говорить только правду, ничего, кроме правды. Только она, в этом я глубоко убежден, преодолевает время, сковывающее наши умы и сердца, нашу дерзость, наше желание идти дальше отцов по пути истины, – только она, правда, и дорога мне в том, о чем я пишу. И если, рассуждал я, этим запискам суждено пережить своего автора, то в немалой степени этому будет способствовать его намерение мужественно описывать то, что было на самом деле, не опускаясь до сиюминутных соображений выгоды, до корыстного желания сорвать аплодисменты низменной толпы… Нет, – рассуждал я, – гораздо достойнее и дальновиднее поступить так, чтобы тебе аплодировало будущее! Вот с какой целью я благоразумно сохранил главы, изъятые издателями из моей книги, и передал их на надежное хранение. Правильно ли я поступаю? Уверен, что да. Признаюсь, меня весьма согревает мысль, что спустя какую-то сотню лет, когда человеческие нравы, несомненно, исправятся, когда на земле наконец-то восторжествуют истина и справедливость и воцарится разум, обуздав плоть, а о самом плотском грехе и некогда бытовавших нравах будущий читатель едва ли сможет узнать из старых книг, чаще всего лишь вводящих в заблуждение на сей предмет, мое письменное свидетельство сослужит ему в этом верную службу. Встреча с этим будущим читателем заставляет сейчас, в промозглый зимний день 1727 года, когда я пишу эти строки, взволнованно биться мое сердце.
Итак, укрепив оное мужеством, я приступаю к сей деликатной теме, которую запретило мне мое время, лишенное многих добродетелей, зато исполненное многих пороков…
 |
Истинные обстоятельства моего пленения несколько отличались от тех, что опубликованы в печатном варианте моих приключений. В действительности же работник, который оказался возле меня на том злополучном ячменном поле, был далек от того, чтобы ненароком растоптать меня или разрубить серпом. Все на самом деле выглядело трагикомичнее, ибо тот работник отошёл в сторонку от своих сотоварищей, чтобы справить крайнюю нужду, для каковой цели он и присел среди колосьев ячменя… Воле провидения было угодно, чтобы он затеял сей акт, естественный для живого существа, будь оно даже гигантских размеров, над тем самым местом, на котором я тогда находился, а именно – в борозде, напоминавшей мне ров с меня ростом. Представьте себе мой ужас, когда я увидел, как надо мной, закрыв все небо, нависли две огромные половины зада и оттуда, предваряя естественное извержение переваренной пищи, раздался оглушительный выстрел, подобный залпу всех орудий одного борта королевского фрегата, результатом коего явилось то, что меня сбило с ног и унесло зловонными ветрами в сторону… Это скорее всего и спасло мне жизнь, ибо, когда изрядно помятый и перепачканный в земле, со звоном в ушах, на время заменившим мне все естественные звуки живой природы, я поднялся на ноги, то стал свидетелем возникновения на борозде исходящей паром горы высотой не менее чем в четыре человеческих роста. Гора источала такие миазмы, что голова моя закружилась, и я потерял сознание, а когда оно вернулось ко мне, я был уже на высоте, намного превышающей высоту грот-мачты, стиснутый пальцами этого опроставшегося работника. На меня смотрел его огромный, с суповую тарелку, глаз, зрачок которого напоминал дуло судовой пушки, при том, что постоянно менял направление, дабы получше меня разглядеть. Да, таковы были истинные обстоятельства моего пленения…
Позволю себе также занять внимание читателя и некоторыми подробностями первой ночи, проведенной мною в доме фермера. Дело в том, что дочки хозяев, заботам которой меня препоручили в дальнейшем, в ту пору по причинам, мне неизвестным, не было дома, и ночевать меня оставили в спальне хозяев, где мне было постелено на полке, дабы я снова не стал приманкой для крыс, с парочкой которых я столь доблестно расправился днем (о чем читатель, знакомый с моими изданными записками, должен помнить), но которые могли попытаться отомстить мне ночью за гибель своих сестер. И вот, с этой весьма высокой точки, как если бы с башни городской ратуши, я стал невольным свидетелем ночных плотских утех моих простодушных хозяев. Посчитав, что я сплю, а то и вовсе забыв про меня или же обращая на меня не большее внимание, чем мы на своих домашних любимцев кошек и собак, когда совокупляемся в их присутствии, мои хозяева предались удовольствиям известного толка… Естественно, я тогда ещё не знал, что это первый день здешней осени, когда вся страна занимается тем же. Но не буду забегать вперед – обо всем по порядку.
Надо сказать, что как врач и хирург я был немало захвачен открывшимся зрелищем, тем более что на тот момент ещё далеко не полностью составил себе представление, с какого рода живыми существами столь гигантских размеров свела меня моя поразительная судьба, и насколько их манеры, повадки, образ действий и мыслей соответствуют привычным мне, свойственным нашему человеческому обществу. В этом смысле лилипуты были как бы сильно уменьшенной копией нас самих, и я надеялся, что и эти великаны, кроме как размерами, не слишком будут отличаться от нас, в противном случае меня ждала бы пугающая неизвестность. Представить себя среди существ с иными, чем у нас, ценностями и предпочтениями было бы крайне затруднительно да и смертельно опасно – ну как если бы я оказался, скажем, Одиссеем в пещере циклопа Полифема, спокойно пожирающего моих несчастных товарищей. В этом смысле акт, которому предались мои гостеприимные хозяева, уверил меня, что сии великаны представляют собой просто некую аномалию в виде гипертрофированных человеческих особей, ибо в их плотских утехах я не обнаружил ничего исключительного и выходящего за рамки привычного или, точнее, известного мне. А я повидал разное да и, грешен, часто сам не проходил мимо соблазна, тут и там предоставлявшегося мне, здоровому мужчине, полному жизненных сил и тяги ко всему новому и неизвестному.
Как наблюдатель я был, конечно, свидетелем удивительной картины, когда в свете ночника, как при готовящемся к ночи небосклоне, с которого недавно ушло за обложенный облаками горизонт дневное светило, оставив среди них лишь одну полную багряного сияния прореху… когда при таком вот театральном освещении стали спариваться две горы. Они то и дело меняли свои очертания, мыча, стеная и охая; при сем одна гора, скорее – хребет, что сверху, вклинивалась в другую гору, что снизу, разделяя её на две широко отстоящие одна от другой вершины и находя удовольствие между ними в некой седловине, а точнее расселине, откуда раздавались чмоканья и хлюпанья, как будто там плескалось стадо бизонов… Этот природный катаклизм продолжался довольно долго, так что я даже стал зевать, задавая себе вопрос – не другая ли в этой стороне света мера времени? Но, поразмыслив, я решительно отмел эту досужую мысль, ибо мера времени у нас, обитателей земли, может быть только одна. Тем удивительнее было признать, что на земле, на коей мы, я имею в виду себя и этих великанов, одновременно обитали, наличествует столь широкая шкала физических размеров живого мира. Впрочем, меня, естествоиспытателя, это не должно было особо удивлять и шокировать, ведь в сравнении с человеческим миром, к коему я уже отнес моих великанов, мир животных давал нам ещё более поразительные примеры образцов бесконечно большого и малого…
Я хочу сказать, что время соития показалось мне слишком затянувшимся лишь по той причине, что это были мои первые сутки пребывания в Бробдингнеге (самого названия страны я, естественно, ещё не знал), и я порядком устал от впечатлений и был душою опустошен. В противном случае я бы не удержался от удивленных восклицаний, увидев при перемене мест, когда верхняя горная система стала нижней, огромное орудие удовольствия, представшее перед моим взором, прежде чем на него опустилась вторая горная система, то бишь обнаженная хозяйка, – орудие это в буквальном смысле им и являлось, – этакий шестифутовый ствол главного калибра, стоявший на вооружении королевского флота Англии… Возможно, оно было не столь большим, как таран, коим ещё в славные времена Древней Греции и Рима били в главные ворота осажденных крепостей, принуждая последние к сдаче, а пропорционально размерам самой горы выглядело и вовсе скромно, но все же, даже находясь от него на расстоянии тридцать ярдов, я отдавал себе отчет о его размерах - оно явно превосходило меня и в росте, и ширине. Только теперь я вполне осознал, какое впечатление производил мой собственный детородный орган на милых моему сердцу лилипуток.
Итак, не издав ни звука, частично ради собственной безопасности, частично из-за избыточности впечатлений, я крепко заснул и не видел, чем кончилась эта схватка-игра верха и низа, но легко мог это себе представить. Дальнейший мой опыт действительно подтвердил первичное, наспех сделанное предположение, что плотским утехам здесь предаются хорошо известным мне образом. Поначалу я даже испытывал легкое разочарование, ибо в глубине души был готов к чему-то новому, неизвестному… Увы, в этом смысле, мои новые впечатления были вызваны лишь самими гигантскими размерами, с которыми я столкнулся, то есть – голой формой, но не содержанием. Но и это, как оказалось, было немало…
Больше мне ни разу не пришлось лицезреть любовные схватки моих хозяев, ибо на следующий день меня препоручили заботе их объявившейся девятилетней дочки. Это ей я обязан своим именем Грильдриг, хотя, признаюсь, оно мне перестало нравиться с тех пор, как я узнал, что на языке великанов оно обозначает «карлик». Ведь карликом я себя не считал, особенно после встречи с настоящим карликом при дворе короля… Но об этом речь впереди. Я её ласково называл Глюмдальклич, то есть «нянюшка» по-бробдингнежски. Да, ей было всего девять лет, но в этой стране, как вскоре я узнал, созревали рано, весьма почтенного возраста достигали в сорок лет, а до пятидесяти доживали немногие, считаясь при этом глубокими старцами. Поэтому девять лет здесь – это был возраст умственной и физической зрелости, и в том, что Глюмдальклич, в отличие от её сверстниц не выдали замуж, была лишь одна причина – заботы обо мне, которые вскоре стали её основной обязанностью.
Здешние брачные традиции заметно отличались от наших. Королевский указ предписывал каждой девятилетней девице создавать собственную семью, ибо с каждой семьи в королевскую казну взимался солидный налог, трижды превышающий тот, который, начиная с пятилетнего возраста, выплачивался подушно до самого вступления в брак. Это серьезное налоговое бремя плюс огромный разовый взнос в казну за право вступления в брак само собой отсекали от невест юношей того же возраста. Последние могли заработать на брачный взнос не ранее, чем по достижении пятнадцати лет, почему в брак вступали только зрелые по местным меркам мужчины, уже накопившие соответствующий капитал. «Недорослям» же предписывалось, окончив учебные заведения, служить в армии, а также работать на соляных копях или на королевских рудниках, где добывалась медная и железная руда в основном для нужд той же армии. Женщины же занимались лишь домашним хозяйством и воспитанием детей, и хотя двери учебных заведений были для них открыты, лишь немногих привлекал мир отвлеченных знаний, посему семьи здесь были, как правило, крепкие и дружные, как если бы бробдингнежки догадывались, что во многом знании много печали, и предпочитали радость, пусть даже они и платили за нее неведением.
Реально получаемое бробдингнежцами жалованье составляло почетную десятую часть от всего заработанного – девять же десятых отдавалось в казну, треть которой всемилостивейший король затем щедрой рукой выделял в помощь нуждающимся, таким образом уменьшая разницу между бедными и богатыми и тем самым выкорчевывая один из главных пороков - зависть, ведущую к революциям и гражданским войнам, столь пагубно отражающимся на благосостоянии общества и его нравах. Как и в Лилипутии для лилипутов, вступление в брак было основным событием в жизни бробдингнежцев и их главной целью. Не вступившие в брак считались неудачниками, их не принимали на государственную службу, над ними смеялись, о чем свидетельствовала бробдингнежская поэзия и литература. Быть мужем здесь считалось престижно, каждый муж носил на золотой цепочке отличительный знак в виде рогов марала, отлитых в золоте, – священный марал считался здесь символом супружеской верности.
Однако было бы чудовищной нелепостью предположить, что не имеющие ни права, ни возможности вступать в брак до пятнадцати лет половозрелые, способные к детовоспроизводству мужчины, вынуждены поститься – нет и ещё раз нет! Неусыпная королевская забота распространялась в равной мере на всех подданных Его Величества без исключения, и потому «недорослям» было даровано всемилостивейшее право неограниченно заниматься самоуслаждением. Единственным узким местом этого более чем разумно устроенного общества было лишь то, что воспользоваться вышеназванным правом почему-то стремилась и мужская половина представителей узаконенных брачных союзов, что ей было категорически запрещено под страхом кастрации, в случае которой согрешившие и пострадавшие переходили, независимо от дарований, в категорию поэтов, и были обязаны до конца своих дней сочинять оды, эклоги и мадригалы во славу своего короля. Быть поэтом, литератором здесь считалось наказанием, поскольку эта категория граждан получала такие крохи за свой труд, что практически находилась на иждивении государства.
Глюмдальклич устроила мою постель на навесной полке, сшив мне постельные принадлежности из лоскутков для кукол, подушку же набила нитью непарного шелкопряда, - это был самый нежный материал, который ей удалось найти окрест, ибо пух местных кур оказался слишком жесток, и о его в первую же ночь вылезшие из подушки иглы я весьма болезненно оцарапал себе лицо и плечи. Сначала я укладывался в постель без участия моей доброй нянюшки, – ей оставалось лишь перенести меня к кровати от моего умывальника, где она ставила для меня блюдце с водой, которое было с хорошую ванну, и кружку размером с нашу бочку, но в дальнейшем, посмотрев, как я раздеваюсь, она выказала желание помогать мне, и, признаюсь, я получал удовольствие, ощущая своей обнаженной кожей прикосновение её пальцев, каждый из которых хотя и был размером с мою ногу, но источал в моем направлении такие нежность и тепло, что несовместимость наших размеров отходила на второй план…
Как-то она, неловким движением зацепив ногтем вместе со штанами мое исподнее белье, случайно (если не намеренно) обнажила нижнюю часть моего тела, и жадно впилась глазами в то, что имелось у меня между ног. В тот момент наших соприкосновений, которых я, слабое и грешное человеческое существо, ждал каждый вечер, мое естество было в слегка приподнятом состоянии, и Глюмдальклич, догадавшись, даром что была юной и неопытной, в чем дело, протянула указательный палец и осторожно прикоснулась к нему, будто это был хоботок неведомого ей насекомого. Хоботок, разумеется, подпрыгнул, и Глюмдальклич испуганно отдернула палец, словно опасаясь быть ужаленной. Она тут же посмеялась над собой и повторила опыт. Хоботок, поскольку жил своей собственной жизнью, ей охотно ответил. Тогда она высунула трепетный кончик своего языка и прикоснулась к уже полностью открывшейся головке моего желания. Ни с чем не сравнимое ощущение охватило меня при этом соприкосновении с большой, горячей и влажной подвижной плотью её языка. Сравнения тут невозможны и неуместны, но если все же прибегнуть к образам, то в голову прежде всего приходит большая добрая корова, вылизывающая своего только что родившегося теленка. Именно счастливым теленком, тающим от материнской нежности и ласки, почувствовал я себя в тот незабываемый момент. Раскинув руки, я обнял её язык, прижался к нему, опустил на него голову, и вдруг Глюмдальклич, осторожно взяв меня, открыла рот и вобрала в себя мою нижнюю часть, полностью уместив её на своем языке, тогда как выше пояса я остался снаружи. Девочка охватила губами мою талию и, придерживая двумя пальцами за бока, стала тихонько посасывать то, что было у нее во рту. Поначалу я запаниковал, решив, что она ненароком может меня проглотить, но затем, видя, что ничего плохого со мной не происходит, а даже наоборот – в нижней части тела разливается приятная истома, я целиком и полностью отдался охватившему меня чувству. Видимо, подобное чувство испытывает тот, кто достиг единения с Богом. Могу смело утверждать, что теперь я знаю, что это такое. Мне известно, что некоторые восточные учения, сведения о которых принесли нам наши отважные мореплаватели, используют соитие для выхода в состояние просветления. Не буду лукавить – то, чем догадливая Глюмдальклич занималась со мной по своей собственной прихоти, что, кстати, снимало с меня всяческие могущие возникнуть у моих соплеменников обвинения в мой адрес, я считаю именно просветлением, то есть высшим состоянием наших разума и чувства. К тому же должен отметить, что, судя по поведению моей нянюшки, ей были уже знакомы те приемы галантной любви, которым обучают наших невест перед первой брачной ночью. И пусть ханжи и моралисты попридержат свои языки – никакого совращения с моей стороны не было и быть не могло, – это был обмен высшей нежностью, на какую только способен мир, между очень маленьким и очень большим, ну, как если бы, скажем, ящерка полюбила муравья…
 |
Я потому говорю о любви и нежности, что не прошло и пяти минут её влажных горячих посасываний, чуть втягивающих меня в недра её рта и тут же отпускающих, как я почувствовал сильнейший прилив жизненных соков к своему паху и в следующий момент разразился выбросом семени, может быть, самым изрядным за всю мою жизнь. Не знаю, то ли моя нянюшка ощутила на своем языке капельку исторгнутого из меня вожделения, то ли уловила перемену в состоянии моего естества, уже не такого крупного и задиристого, но она вынула меня изо рта и нежно обтерла от слюны краем моей же простыни. Ещё трепеща от испытанных мною чувств, я стоял обнаженный перед ней – слезы благодарности навернулись мне на глаза – и дребезжащим голосом, с трудом сдерживаясь от рыданий, причиной которых по парадоксальности человеческого поведения бывает состояние исключительного счастья, я по-бробдингнежски спросил, могу ли каким-то образом отблагодарить мою нежную госпожу за доставленные мне минуты наивысшего блаженства. Вместо ответа Глюмдальклич, которая сидела передо мной на стуле, снова взяла меня и, подняв, осторожно опустила прямо в вырез платья, приподнятый её хорошо сформированными грудями. Поначалу я судорожно ухватился за край этого выреза, боясь сорваться и упасть то ли ей в подол, до которого было никак не менее двадцати футов, то ли соскользнуть внутрь по животу, прямо туда… но тут же ощутил, что она сделала мне опору в виде подставленной ладони, так что я оказался между тканью платья и обнаженной грудью. Преодолев страх и осознав, что мне желают только добра и ждут от меня только ласк, я тронул её сосок, размером с небольшую дыню. Обе мои ладони почти прикрывали его. При желании я мог уцепиться за него и повиснуть в воздухе, болтая ногами, но я тут же подавил в себе приступ ребячества, каковые мы иногда испытываем перед лицом чего-то очень большого… Заметив, что ткань её платья стесняет меня в движениях, Глюмдальклич ослабила тесемку выреза и платье, державшееся на плечах благодаря сборке, сползло ей на бедра, открыв обе груди, которые были прелестны в своей юной красе, несмотря на то, что размерами превосходили все пределы, мыслимые самым сладострастным воображением. По форме они были действительно девичьи, а соски озорно торчали чуть ли не вверх, видимо, возбужденные нашей игрой… Моя прелестница подносила меня на ладони то к одному, то к другому соску, чтобы я пощупываниями и покусываниями (ничего иного просто не приходило мне в голову) засвидетельствовал им свое почтение и восторг. Нельзя было не заметить, что, несмотря на свои смехотворные размеры, я ухитряюсь доставлять своей нежной подруге массу удовольствий, – она то и дело закрывала глаза, шумно выпускала воздух трепещущими ноздрями, и над верхней губой у нее выступили капельки пота.
Тут у меня и мелькнула впервые мысль, что я, пожалуй, был бы готов на нечто большее по отношению к своей нянюшке, и только я подумал об этом, как она, словно прочитав мои мысли, взяла меня и перенесла на свою кровать, благо мы с ней спали в одной комнате. Опустив меня возле своей подушки, Глюмдальклич медленно на моих глазах разделась, оставшись в одних исподних панталонах такого тонкого шёлку, что сквозь него в причинном месте проступала темная растительность, покрывавшая холм Венеры, то бишь лобок. Поколебавшись, раздеваться ли ей совсем, моя юная подруга все же не решилась на это, просто опустилась на простыню рядом со мной, так промяв, видимо, уже отслуживший свое матрас, что я кубарем покатился по склону прямо к её бедру. Это так насмешило мою нянюшку, что она подхватила меня и, словно для безопасности, сунула под шёлк своих панталон. Я, конечно, прекрасно понял намек. В спальне было довольно светло от огня двух толстых свечей, горящих по углам её кровати, тем более что каждая из них была вдвое больше меня, так что и под шёлковым исподнем света хватало. Во всяком случае, я довольно прытко миновал заросли, покрывавшие её выпуклый лобок и напомнившие мне высокую траву на солнечной поляне в августе месяце, когда она уже, вымахав в полный рост, позолотев и подсохнув, клонится к земле, и оказался в преддверии того, к чему я всегда стремился… Но то, что ожидало меня теперь, требовало осмысления и каких-то иных, доселе неопробованных мною подходов, ибо любое мое неосторожное движение грозило мне если не гибелью, то, во всяком случае, членовредительством. Когда моя нянюшка, глубоко вздохнув, раздвинула ноги, я, глянув вниз с бугорка, который мог быть ничем иным, как кожной складкой, прикрывающей clitoris, определил, что до простыни, прямо между ног, откуда ко мне восходил влажный чистый жар девства, по меньшей мере, шесть с половиной футов, что превышало мой рост, коим я гордился, считаясь среди своих соплеменников довольно высоким человеком.
Не скажу, что когда до моих ноздрей донесся знакомый и желанный дух, мною овладела нестерпимая похоть, – ведь, как помнит читатель, она уже была удовлетворена более чем экзотическим образом, но тем не менее я весь трепетал от азарта первооткрывателя и первопроходца, ибо стоило, опираясь руками о внутренние стороны бедер моей скромницы, спуститься и раздвинуть её большие створки, что далось мне на удивление легко, как я тут же обнаружил, что передо мною чистая и непорочная дева. Да, вход в священную обитель нашего неугасимого желания был сверху целомудренно прикрыт девственной hymen, то есть плевой, имеющей несколько отверстий неправильной формы, и я испытал сильнейший искус заглянуть сквозь них внутрь. Однако, почитая сдержанность одной из высших добродетелей, я позволил себе лишь слегка погладить открывшиеся мне прелести, пусть и невероятных размеров, что делало их на мой вкус ещё более влекущими и загадочными. Так порой наше желание мысленно увеличивает предмет нашей страсти настолько, насколько велико само. Должен признаться, что дефлорация никогда меня особо не прельщала: кровь, боль – её неотъемлемые спутники, делали таковую в моем понимании лишь хирургической операцией без хотя бы примитивных инструментов, где роль хирургического ножа доставалась довольно грубому и тупому орудию. Более того – признаюсь, что я никогда близко не рассматривал сей цветок: во-первых, для этого он обычно был недостаточно освещен, а во-вторых, для подробного изучения понадобилась бы лупа, которой, читатель, надеюсь, со мной согласится, обычно не бывает под рукой в нужный момент… Теперь же как раз такой случай мне и представился, я как бы глядел через оптическое стекло с двенадцатикратным увеличением – напомню, что именно во столько раз великаньи размеры превосходили обычные человеческие… Устройство этого органа, явленного передо мной в подобном увеличении, показалось мне чудом природы, точнее – искуснейшим произведением Творца, потрудившегося на славу, дабы оно, это чудо, никогда никому не приедалось и обретало все новых и новых поклонников, почитателей и обожателей, дабы цепочка рода живых существ в человеческом обличье никогда не обрывалась, дабы воплощался великий завет Творца: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю!».
Позднее в королевской библиотеке я провел немало часов и потратил немало сил, чтобы докопаться до истоков происхождения этих гигантов, не без основания полагая, что это некая умершая ветвь человечества, сохранившаяся в данных местах лишь благодаря их географической удаленности и обособленности. Ведь и в Англии в известняковых откосах южного побережья не раз уже находили скелеты древних животных, многократно превосходящих размерами нынешних. Гиганты и лилипуты – это, видимо, отвергнутые самим Творцом опытные образцы, выжившие лишь кое-где по исключительному стечению обстоятельств, как бы вопреки мировому закону развития, что ещё раз подтверждает идею умеренности как основополагающего условия продолжения жизни. Развитие в сторону гигантизма – несомненная ошибка природы, поскольку, подобно власти в лице мудрого короля или двухпалатного парламента, института, в Бробдингнеге абсолютно неизвестного, она по преимуществу стремится к экономному и рациональному устройству, дабы все в ней – от муравьев до слонов – находилось в круговороте взаимной пользы и выгоды. Опять же закон земного тяготения, открытый моим великим соотечественником Исааком Ньютоном, позволяет сделать вывод, что всему гигантскому труднее преодолевать притяжение земли, нежели тому, что находит себя в разумных размерах, посему, на мой взгляд, у великанов Бробдингнега в принципе не было и не могло быть того лучезарного будущего, которое предрекали нормальному по своей физической кондиции человечеству наши лучшие умы. У бробдингнежцев же, если они хотели жить, не было иного выбора, как постепенно уменьшиться в росте, иначе их существование на земле должно было прекратиться за какие-нибудь несколько десятков поколений. В этом смысле им следовало бы уже теперь сделать ставку на карликов и карлиц, чтобы те рожали как можно больше детей, тогда как всем остальным позволить не более одного ребенка. Один ребенок не восполняет уход двух родителей – таким образом со временем число гигантов существенно сократилось бы, а карликов - возросло. Примерно так наши терпеливые любители домашних животных выводят маленьких собак или лошадей…
Но вернемся к Глюмдальклич, у причинного места которой, как помнит читатель, я стою, замерев в непреходящем восторге… Она с благосклонностью приняла мои ласки, направленные на поверхностные части её удивительного естества, опушенного дорожкой довольно жестких волосков, но, когда я прекратил свои скромные посягательства на её целомудрие, которое я не смел да и не смог бы нарушить, она аккуратно, чтобы не повредить, обхватила меня всеми пальцами, как подсвечник, чтобы я не смог пошевелить ни рукой, ни ногой, и сначала потерла мною clitoris, размером с голову спрятавшегося под капюшоном монаха, разве что гораздо мягче и приятнее, а затем, к полной моей неожиданности, стала погружать меня ногами вперед в нижнюю часть своей юной vulva, не перекрытой девственной плевой. Мне ничего не оставалось как подчиниться этой новой прихоти своей нянюшки, и я заботился лишь о том, чтобы держать руки крепко прижатыми к бокам (чуть не написал – по швам, но читатель помнит, что я давно уже полностью обнажен, и швы остались на снятых с меня камзоле и рубашке). Предосторожность эта оказалась далеко не лишней, так как моя скромница довольно энергично окунала меня в свое отверстие и пока оно в достаточной мере не увлажнилось, я рисковал получить вывих своих конечностей. Отверстие это отчасти походило на рот моей возлюбленной, разве что в нем не было зубов, которые, честно признаюсь, в первом случае столь близко оказывались возле моего обнаженного тела, что, казалось, вот-вот перекусят меня пополам… Теперь же, если поискать аналогий, это походило на принятие ванны из бьющего из-под земли горячего источника, которыми начали столь увлекаться мои современники, специально для этого съезжающиеся на курорты Висбадена и в другие места германских княжеств, где некогда ещё лечили свои члены воины Древнего Рима.
Мое безропотное послушание, видимо, хотя и нравилось Глюмдальклич, но было недостаточным для осуществления её желаний, и, быстро догадавшись, чего же недостает ей в конфигурации моего тела для того, чтобы испытать весь набор чувств, закономерно приводящих к пику сладострастия, я стал по вхождении в vagina с вытянутыми носками ног, как при нырянии в воду солдатиком, тут же распрямлять их внутри, так что на пути обратно мои ступни торчали в разные стороны, а ноги даже слегка раздвигались, чтобы увеличить трение, в котором нуждалась моя скромница, ведь именно оно, как известно, и споспешествует возгоранию чувственного огня. С той же целью я по входе внутрь расставлял локти и растопыривал пальцы рук. По усилившимся вздохам своей любимицы я понял, что оказался сообразительным угодником, и спустя ещё минуту-другую моя нянюшка разразилась жалобным стоном, давая мне знать, что достигла желаемого. Она несколько раз судорожно дернулась, оставив меня наполовину в себе, и я почувствовал, как мышцы её vagina попеременно охватывают меня своими кольцами. Слава Богу, что сокращения эти были не настолько сильны, чтобы сломать мне тазобедренный сустав, но ощущение было такое, словно я попал в объятия нежного удава, с той лишь разницей, что они были горячи.
Однако моя нянюшка не совсем потеряла голову, и если и забыла обо мне и особенностях моего телосложения, то лишь на краткий миг, после чего она осторожно вынула меня, перенесла прямо в блюдце, полила на меня из чашки остатками воды, ещё теплой, и, запеленав в лоскут холста, уложила на моем законном месте, хотя я готов был остаться с ней. Потрясенный пережитым и чувствуя крайнюю усталость и легкую ломоту во всех членах, я вскоре заснул.
Так я стал возлюбленным моей заботливой и нежной Глюмдальклич, но наше ничем не замутненное счастье продолжалось недолго, потому что далее начались утомительные поездки по этой бескрайней стране с моими цирковыми выступлениями, которые иногда длились по десять часов в день и крайне отрицательно сказались на моем здоровье. По вечерам у меня не оставалось ни сил, ни желаний, чтобы предаваться утехам со своей возлюбленной, да и она чувствовала себя не лучше, – от верховой езды у нее начались боли в спине и она плакала по ночам на казенных кроватях в гостиницах, где мы останавливались. О своих выступлениях я рассказал достаточно подробно в опубликованной версии, где издатель опустил один номер, который я исполнял по специальному зрительскому заказу за отдельное вознаграждение, втрое превышающее входную плату на мой аттракцион, и без того немалую. Номер этот придумал мой хозяин-фермер, отец Глюмдальклич, человек одержимый неизбывным желанием разбогатеть. Фермерский труд, содержание работников и всего хозяйства, видимо, утомили его и представились бессмысленными с того момента, как он начал зарабатывать деньги на мне. И теперь все силы своего небольшого, но весьма практичного ума он направлял на то, чтобы извлекать как можно больше материальной выгоды из владения мною…
Так вот, однажды, когда Глюмдальклич только опустила меня под вырез платья потеребить её соски, в комнату неожиданно вошёл отец, – девочка забыла закрыть дверь на щеколду. Услышав грохот и не поняв его природы, я имел глупость высунуться наружу, где и был увиден изумленным родителем. Надо отдать ему должное – он не стал устраивать скандал своей дочери: то ли действительно не представлял себе, насколько далеко мы с ней зашли в галантных отношениях, то ли решил, что такое крохотное существо, как я, не представляет никакой опасности для невинности его дочери, то ли в тот момент корысть и алчность пересилили в нем все прочие чувства. Он только, ухватив пальцами левой руки меня под мышками, поднял высоко в воздух и, помахав перед моим носом указательным пальцем правой руки (задень он меня хоть раз – и я бы остался без головы), рявкнул: «Вместо того, чтобы лазить по моей дочери, старый развратник (о моем возрасте он судил по моей бороде, которую вскоре мне пришлось сбрить, хотя в родной мне Англии она была отнюдь не символом старости, как здесь, а признаком мужественности), лучше бы уж ты щекотал моих зрительниц!».
К несчастью, несмотря на бурные протесты его дочери, моей нянюшки, её слезы и объяснения, что под её платье я попал исключительно по её неосторожности, выскользнув у нее из рук при переносе с пола на полку, фермер сдержал свое слово, и к представлению прибавился ещё один номер, исполнявшийся по специальному заказу за тройную плату. Номер этот имел среди моих зрительниц исключительный, просто ошеломляющий успех, хотя сопровождался не громом аплодисментов, а слухами, которые передавались шепотом на ушко…
В Бробдингнеге общество было устроено по патриархальному принципу, у власти во всех её видах и разновидностях находились особи мужского пола, отсюда даже в вопросах полового воспитания и удовлетворения половых чувств господствовала исключительно мужеская точка зрения, в каковой интересы женщин учитывались лишь в самой малой мере, или скорее всего – вообще не учитывались. Быть свободными в любви и выбирать себе любовные развлечения и удовольствия, как я вскоре узнал, здесь могли лишь представительницы высшего света, графини, маркизы и прочие, подобные им богатые дамы. Остальные же, а таких, естественно, было большинство, находились в зависимости от мужеских интересов и были, по сути, вынуждены продавать себя и свои чувства в обмен на ту или иную степень благополучия. Да, меня поразило, что хотя рабства в стране не было, почти все жены в Бробдингнеге продавались и покупались. Поскольку же они по мудрому указу короля были вправе сами назвать свою цену, суды были завалены жалобами истцов (бывших или настоящих мужей), с этой ценой не согласных.
Неравенство полов порождало много проблем, и хотя более чем справедливо высказывание древних римлян, согласно которому мы меняемся вместе с переменой времен, здесь же общественная мысль и господствующая мораль давно застыли на месте. Негласно считалось, что равноправие полов неизменно приведет к размыванию государственных устоев, зиждившихся на последнем слове, сказанном Его Величеством, как если бы оно было и самым первым. Дуализм официально провозглашенного мироустройства, когда, обозначив мужское начало, следовало сразу же поискать и начало женское, существовал только теоретически, на бумаге, в основном для потакания умам, бредящим реформацией и идеями никому не нужной личной свободы. На самом же деле для образцово устроенного государства не было лучше идеи, чем монизм или даже монотеизм, когда король как наместник Бога на земле, равнозначен ему, и любить своего короля так же естественно, как и дышать. Вообще человеку как существу, вынужденному принимать решения, живется гораздо легче с Богом или королем, поскольку человек боится себя самого. Подозревая, что женщина не совсем человек и, скорее всего, сильней его, как сама Мать-Природа, мужское начало Бробдингнега благоразумно держало женский пол на безопасном расстоянии от власти.
Таким образом, для бробдингнежек в этом мире было не столь уж много удовольствий и развлечений, особенно если, например, учесть, что любовь женщины к женщине под принятым у нас названием трибадия, каралась здесь усекновением clitoris, без которого женщина, не теряя своей способности к деторождению и половому удовлетворению мужчины, становилась бесчувственной. Поэтому слух о том, что можно за определенную плату поместить себе под платье некое маленькое существо, отчасти похожее на местного зверька сплекнока, но только разумное да ещё мужеского полу, и разрешить ему там делать, что заблагорассудится (даже в строгом бробдингнежском кодексе полов такая ситуация никак не регламентировалась), вызвал настоящую прибойную волну охотниц изведать неизведанное, и очередь из них к нашему балагану выстраивалась ещё с вечера. Все эти энтузиастки были из зажиточных семей, ибо выложить за десять минут удовольствия сумму, равную стоимости на рынке трех полугодовалых поросят, могла позволить себе далеко не каждая.
Номер же заключался в том, что зрительница входила в специально отведенное для этого помещение, украшенное флажками из тонкой рисовой бумаги и мишурой, садилась на скамейку, и моя верная Глюмдальклич (ее имя до сих пор ласкает мне слух в моих ностальгических воспоминаниях) запускала меня под платье посетительницы, строго-настрого предупредив, чтобы та по возможности оставалась неподвижной и не шевелила руками, дабы случайно меня не повредить. Моя же задача заключалась в том, чтобы пощекотать грудь посетительницы и любым доступным мне способом хотя бы немного её воспламенить. Никогда, ни до ни после, не имел я (чуть не сказал – удовольствия, что было бы неправдой и лишь вежливо-формальной фигурой речи) возможности лицезреть и трогать столь большое количество грудей разнообразных форм, размеров, оттенков и запахов, – на их описание у меня ушло бы слишком много времени. Я не жалею, что видел их, касался их, садился на них или висел, ухватившись за сосок, мял, щипал, даже кусал (о, им нравились мои укусы…), как не жалею и о том, что теперь напрочь лишен такой возможности. Впрочем, со мной случилось то, что и должно было случиться, когда проводишь слишком много времени в обстоятельствах, которые ты не в силах ни изменить, ни преодолеть, – я полюбил эти обстоятельства, я прикипел к ним душой, сердцем и своими чреслами, и по возвращении в Англию так и не смог найти себе подругу, соответствующую моим новым запросам. Так долгосрочный узник, выпущенный на свободу, тяготеет к своему узилищу. Чтобы возбудиться, мне теперь нужна была женщина-гора, но где я мог такую найти? Мои друзья-острословы, знающие о моем тайном несчастье (жена, конечно, ни о чем не подозревала), то ли в шутку, то ли всерьез, советовали завести мне зоофилический роман со слонихой или бегемотихой, или на худой конец, если я хорошо плаваю, с самкой финвала… Что, между прочим, было бы не лишено смысла, отзовись эти гигантские твари на мужской призыв моего тоскующего естества. Но я для них наверняка представлялся бы ничтожеством, и даже обычный осел с их точки зрения был бы много более подходящим самцом.
Итак, я делал все возможное, чтобы за небольшой отрезок времени доставить каждой даме максимум удовольствий и отработать сумму, оставляемую ею в кошельке бывшего фермера, а теперь успешного антрепренера, но длилось это недолго, недели две. А потом мой хозяин, хотя его алчность и росла с успехом его предприятия, вынужден был отказаться от данного номера. Получилось так, что пока моя Глюмдальклич пересчитывала целую горсть монет, чтобы передать их отцу, очередная посетительница, на грудь которой меня посадили, то ли ненароком, то ли намеренно стряхнула меня вниз. Я кубарем прокатился по животу, слава Богу, округлому, что замедлило мое падение протяженностью по меньшей мере в пятнадцать футов и, ещё не успев осознать случившееся, оказался у дамы прямо в исподнем белье, точнее, в её панталонах, о чем нетрудно было догадаться по специфичному запаху, ударившему мне в ноздри. Впрочем, он был не столь специфичен, сколь характерен, из чего можно было заключить, что в лоно дамы незадолго до этого пролилось мужское семя, и от густоты этого запаха у меня закружилась голова. Я стал подпрыгивать, чтобы ухватиться за обширную жесткую растительность и вылезти хотя бы на лобок, где можно было бы перевести дух, но хитрая дама, видимо, не желая, чтобы я ускользнул из её заветного местечка, пальцем, сквозь материю платья надавливала мне на затылок, и я ничего не мог поделать. Чувствуя, что теряю сознание, я отчаянно закричал, зовя Глюмдальклич, и хотя зов мой был тих и приглушен тканью платья и нижними юбками, моя нянюшка его услышала, и, догадавшись, в чем дело, тут же пришла мне на помощь. В следующий момент она, без лишних церемоний задрав даме подол платья, вызволила меня на свет. Дама в конфузе убежала. Я же был почти недвижим и покрыт холодным потом – явный признак асфиксии и сердечного недомогания. Прибежавший на шум фермер, решив, что я при смерти, и не желая терять такой верный и безотказный источник доходов, завернул меня в носовой платок и бегом отнес к лекарю, по счастью, жившему неподалеку, где мне сделали примочки и напоили настоем ромашки, по заверению лекаря, немедленно выводящим яды из организма, включая те, что вызваны летучими миазмами, повредившими мне трахеи и бронхи. Выздоровление длилось всего четыре дня, но после этого ещё с неделю по настоянию непреклонной Глюмдальклич я был освобожден от выступлений и проводил время или на её руках, или в своем ящичке-домике на гостиничном подоконнике, вдыхая свежий воздух маленького, по здешним меркам, внутреннего сада, занимавшем часть территории заднего двора, куда выходило окно.
По моим наблюдениям, народ в Бробдингнеге не был избалован развлекательными зрелищами… Кстати, ни в одном доме, где мне довелось потом побывать, я не видел картин на стенах, коими столь кичатся мои именитые соплеменники в родной мне Англии, собирая целые коллекции из полотен знаменитых художников прошлого и настоящего, тратя на это огромные деньги, ибо знают, что таковые предметы только растут в цене от времени… Ничего подобного здесь не было – эта нация не имела тяги к изображению эстетически прекрасного… Здесь в основном процветало лишь военное искусство, которое в отсутствие реального противника (ученые и философы Бробдингнега давно уже сделали вывод, что их народ – один во всей Вселенной и потому является законоправным хозяином ее), проявляло себя в самых разнообразных формах физических упражнений с булавами, мечами, саблями, алебардами, копьями и ядрами метательных орудий. Стрелкового оружия здесь не знали, поскольку не имели никакого представления о том, что такое порох, мое же предложение назвать его состав было королем категорически отвергнуто.
Военное искусство возникло здесь ещё в глубокой древности, когда, как гласили местные предания и легенды, мифы и исторические хроники, у бробдингнежцев был реальный враг в лице соседнего государства под названием Брибтибрея. Брибтибрейцы, естественно, тоже были великанами, имели свой язык и свою письменность и, как говорят хроники, на протяжении столетий поддерживали дружеские отношения с Бробдингнегом. Там тоже была монархия, и королевские дворы соединялись узами родства, так чтобы на корню гасить гипотетические распри. Так и жили эти два народа в благости и процветании, не зная, что такое холодный лязг мечей и предсмертный крик зарубленной жертвы… Но, как гласит дошедшая до наших дней летопись Бробдингнега, пятьсот пятьдесят пять лет назад брибтибрейский король Иуфбр XII (Темный), взявший в жены принцессу бробдингнежского царствующего дома Здрупу-Затворницу, обнаружил в первую же брачную ночь, что его невеста не девственница, а созванный наутро консилиум врачей, обследовавший рыдающую невесту, лишь подтвердил открытие разгневанного жениха… По законам Брибтибреи такой брак не мог быть признан, а потому развенчанная Здрупа была заключена под стражу и отправлена в тюрьму, где её посадили в одну камеру с самыми отпетыми бандитами и разбойниками, которые не преминули воспользоваться предоставившейся им возможностью и надругались над ней, а затем, простоволосая, в одной ночной рубашке она была отпущена на родину, до которой шла, босоногая, девять ночей и дней под насмешки и улюлюканье толпы, которой было позволено плевать в нее и бросать гнилые овощи (только мягкие, чтобы не повредить её членов и не нанести ей поверхностных ран, как будто они могли быть существенней её внутренней раны…). Так Иуфбр XII (Темный) мстил за вероломный удар, нанесенный ему в самое сердце бробдингнежским двором, видимо, настолько погрязшим в пороке и разврате, что даже нареченную невесту не мог сохранить в надлежащей целости и невинности. Остаток своей жизни Здрупа-Затворница провела за семью дверями, в келье монастыря… Медицинские же светила Бробдингнега, освидетельствовавшие её причинное место, и в самом деле не найдя никаких следов разрыва плевы, ни её самой, пришли к однозначному выводу, что таковой у Здрупы не было от рождения, – невинность же её и непорочность была подтверждена на Втором церковном соборе Бробдингнега, после чего ещё при жизни Здрупа была причислена к лику святых, и к ней, пока она была жива (еще целых тридцать три года из отпущенных ей сорока шести), не прекращался поток страждущих и алчущих исцелиться, – в основном женщин. И действительно, даже прикосновение к краю одежды Здрупы излечивало бесплодие, останавливало или наоборот, если в том была нужда, вызывало месячные, снимало болевые ощущения, вызванные разрывом девственной плевы. Её поруганная ночная рубашка стала священной реликвией страны (изображение оной вошло в герб) и раз в год в день Святой Здрупы выставлялась в главном храме столицы для обозрения. Прикасаться к ней, чудотворной, уже было нельзя по причине её крайней ветхости, но и лицезрение её творило чудеса, реестр которых велся в специальной книге.
У этой до основания потрясшей страну истории была и другая сторона. Когда на девятый день Здрупа, переступив условную границу своего государства, была узнана своими согражданами и, прикрытая попоной, доставлена во дворец, её отец, король Бробдингнега Дакельблюр III объявил Брибтибрее войну. Первые сражения проходили на кулаках, палках и дубинках, которые вырубались из ствола дерева кракрок, имевшего такую плотность и вязкость, что дубинка не трескалась даже при встрече с лобной костью черепов брибтибрейцев, отличавшейся невероятной прочностью (потом из нее победившие бробдингнежцы будут вытачивать гребни для волос). В дальнейшем же в связи с открытием железа возникло и холодное оружие, в силу чего поражаемость противника многократно возросла (у твердолобых брибтибрейцев железа не было).
Уже в нынешние времена, когда в умах началось легкое брожение (если одни идеализируют прошлое, то другие тут же начинают смотреть на него свысока), были предприняты попытки ревизии той давней истории, объединившей бробдингнежцев в борьбе с обидчиками. Нашёлся безумец, который утверждал в своем исследовании на основе изучения мемуаров и документов эпохи Дакельблюров, что принцесса-заточница действительно досталась Иуфбру XII (Темному) недевственницей, но что причиной тому были вовсе не поползновения некоего её тайного возлюбленного, имя которого история не сохранила, а исключительно собственная неосторожность принцессы в юном возрасте, когда она, получая удовольствие известным способом, скорее всего, сама повредила себе плеву. Но когда слухи о новых материалах, связанных с этим давно уже ставшим сакральным событием, дошли до ушей правящего монарха, пытливый исследователь по приговору суда получил два легких удара по голове дубинкой из дерева кракрок и, отпущенный на свободу, немедленно прекратил свои изыскания, поскольку лишился памяти и должен был начать жизнь сначала, с чистого листа… Кстати, этот приговор был вполне гуманный, поскольку критическое число легких ударов дубинкой по голове равнялось четырем, что означало неминуемый смертельный исход.
В результате кровопролитной войны, спустя всего лишь одно поколение Брибтибрея лишилась своей независимости и превратилась в колонию, поставлявшую метрополии все необходимое, в том числе и рабочую силу. Но смежность границ и этническая общность привели к тому, что победители и побежденные перемешались, растворившись друг в друге и в конце концов Первой унией был закреплен новый статус Бробдингнега как единого государства, вобравшего в себя прежнюю Брибтибрею, с новыми границами, которые являлись естественными границами полуострова, с трех сторон омываемого мировым океаном, а с севера перегороженного непроходимыми вулканами. Парадоксально, но факт, – у бробдингнежцев, в отличие от лилипутов, морского флота не было, ибо ещё на Первом Сходе ученых-географов и математиков, создававших карты и математические модели своей страны, было официально провозглашено: «За морем жизни нет!». Эта историческая фраза стала крылатой и тут и там использовалась в пословицах и поговорках. Если, например, в нашем сознании вечной занозой застряло выражение: «Там хорошо, где нас нет», то у бробдингнежцев оно звучало с точностью до наоборот: «Там хорошо, где мы есть». Самодостаточность этой второй тезы вкупе с первой, основополагающей, на века породила в нации географическую индифферентность - здесь не было путешественников, никто не стремился открывать новые земли. Всем было хорошо и без того.
Поначалу, как и было закреплено в пунктах знаменитой Унии, государственных языков у новой исторической общности было два – бробдингнежский и брибтибрейский, но так как на последнем говорило лишь низшее сословие бывшего противника, поскольку высшее было полностью истреблено, а литература, наука и культура чувствовали себя комфортнее на языке победителя, то постепенно язык покоренных был вытеснен из обихода и в настоящее время представлял интерес разве что для кучки лингвистов. От языка брибтибрейцев осталось лишь несколько междометий, которые мне не воспроизвести вслух по причине их труднопроизносимости, но которые вполне по силам речевому аппарату бробдингнежца, привыкшего артикулировать любые гортанные звуки, вроде «гкхххфрпго!» или «фптхргкххххкпу!» – кстати, первым междометием здесь выражают восторженное удивление, а вторым – брезгливое неприятие, что-то вроде наших «Ого (о-ляля)!» и «Фу (бе)!» Лингвисты же скрещивали копья в основном по поводу того, есть ли у этих двух языков некие общие корни, или же они порождены разными праязыками, соотносящимися лишь по принципам дуальности, как левое и правое, верх и низ, мужское и женское. Само собой, что язык побежденных был классифицирован как более слабое, женское начало…
Как читатель уже знает, мои злоключения закончились в один прекрасный день, когда за сумму, равную тысяче гульденов, я был продан королеве Бробдингнега, и в придачу при дворе была оставлена моя любимая Глюмдальклич, ибо никто, как она, не мог знать столь хорошо мои нужды и потребности, никто иной не мог бы окружить меня такой заботой и вниманием, и (между нами) никому иному она не стала бы чуть ли не каждый вечер поверять свои девичьи тайны.
Моя жизнь во дворце столицы Бробдингнега, города под названием Лорбрульгруд, описана довольно подробно, и у читателя может сложиться приятное заблуждение, что, стало быть, есть, пусть и в очень удаленной части земли, где-то между Японией и Калифорнией, хотя бы один королевский двор, где жизнь полна мудрости и достоинства, где члены королевской семьи своими нравами и манерами демонстрируют подданным достойные образцы для подражания. Но таковым заблуждением любезный читатель обязан тем, кто вымарал добрую половину моих страниц и таким образом утаил истину. Не будем забывать правило, которое действует везде, не исключая и запредельных королевств, затерянных в океане столь основательно, что среди представителей нормальной человеческой расы, обладающей средними физическими размерами, я был первым, кто их открыл, - правило, гласящее, что если ты нашёл левое, то поищи и правое, а на всякое белое найдется столько же (если не больше) черного. В данном случае я имею в виду мораль этого общества и прежде всего – его двора, которая оказалась такой же двойной, или, скажем по-философски, – дуальной, как и во многих королевствах Европы, по дорогам которой я немало потрясся в карете или верхом на лошади. Увы, об этом я знаю не понаслышке и даже больше, чем мне бы хотелось.
Как понял я позднее, именно из-за испорченности дворцовых нравов я и был куплен у моего фермера, ибо вероятней всего, слава моя как существа, дарящего здешним дамам новые неслыханные ощущения, успела достичь королевских покоев, обычаи которых – говорю об этом как впоследствии свидетель и участник нескольких непристойных действ – были весьма далеки от нравственного целомудрия. Но поначалу я об этом даже не подозревал и тешил себя надеждой, что наконец-то вижу перед собой идеальных страноуправителей, высокообразованных и милосердных, терпимых к слабостям других и нетерпимых по отношению к своим собственным, кои выжигались на костре самопожертвования исключительно ради блага народа, судьба которого была вверена отцам нации по велению Творца. Ведь сказано в Писании – кому много дано, с того много и спросится. А с великанов и спрос должен был бы быть великий… Во всяком случае, мое первое впечатление о королевской чете было превосходным, и я хоть и сильно тосковал по утраченной мной родине, все же утешал себя тем, что год-другой, проведенные в этих никому не известных краях, сослужат мне немалую службу, и знаниями, которые я здесь с благодарностью приобрету, я смогу щедро и безвозмездно поделиться со своими менее счастливыми и благополучными соотечественниками, в обычае которых было вздыхать о прошлом и молиться о будущем, при этом никак не замечая настоящее или разве что хуля его, и пуская язвительные стрелы критики, словно таким образом можно исправить его или отделиться от него, завернувшись в мягкий белый кокон собственных фантазий.
Здесь же, мнилось мне, и найден ответ на проклятые вопросы бытия. Если хорошо не где-нибудь, а там, где мы есть, то это означает, что мыслящее существо вполне довольствуется сущим; ему, мыслящему существу, хорошо просто так – просто оттого, что оно благодарно осознает проживание собственной жизни как подарка Творца.
Бробдингнежцы были от рождения фаталистами и со школьной скамьи знали таблицу периодичности времен. Периодичность эту ещё за сто лет до моего появления здесь открыл один из величайших светил Бробдингнега, философ и математик, фамилию которого мне все равно не воспроизвести даже на бумаге, настолько она экзотична. Он заявил, и впоследствии это подтвердилось, что история Бробдингнега имеет свою цикличность, а события - последовательность, и если однажды выстроить всю их цепочку от начала и до конца, то можно с легкостью предсказывать подобную же череду событий и на будущее. Историческая длина этой цепочки равнялась, приблизительно, жизни одного поколения с небольшой подвижкой туда-сюда, поскольку возраст жизни поколения колебался в пределах плюс-минус семи лет; так что, изучив звенья этой цепочки, можно было больше не мечтать, не гадать, не ждать неизвестно чего, не надеяться на Бог знает что, а просто жить, время от времени освежая память с помощью разнесенных по годам предначертаний, которые неизменно сбывались. Так, например, каждый бробдингнежец знал, что он обязательно умрет и не искал эликсира бессмертия или способов продления жизни, дабы не нарушать предустановленного таблицей порядка вещей.
Как это прекрасно, размышлял я, глядя вокруг умиленным взором, что счастье здесь обретается просто так, а не в результате долгого пути преодоленных страданий и испытаний, не высокой ценой самоограничений, принесенных на алтарь внутренней свободы, и не через принятия на себя всех грехов человечества, дабы собственной жертвой их затем искупить… Ведь такое – думаю, читатель со мной согласится – не по силам не только обыкновенному рядовому сознанию, но и даже сознанию выдающемуся, гениальному, иначе бы мы имели многих и многих, подобных Иисусу Христу, в то время как он один… Да, таких, как он, среди представителей рода человеческого больше не оказалось, хотя канонизированных нашей церковью святых (я ничего не имею против них) – как комаров в июне…
Во дворце мне жилось хорошо и спокойно. Более нигде и никогда я не видел столько одновременно улыбающихся лиц, не слышал столько шуток и смеха, пусть последний и был, если вдруг раздавался возле меня, опасен для сохранности моих барабанных перепонок. Ведь известно, что канониры изрядно теряют слух, почему во время выстрела им и рекомендуется зажимать уши руками, чего я, сами понимаете, не мог себе позволить, ибо иначе как актом крайней невежливости и невоспитанности веселые великаны, окружающие меня, не восприняли бы этот жест.
Глюмдальклич всегда была при мне, за исключением тех часов, когда она относила меня на аудиенцию к королеве или королю. У меня не было, да и не могло быть врагов, если не считать тех, совершенно для меня неожиданных, принадлежащих природе, которые в силу своих размеров могли представлять для меня немалую опасность – грызунов, насекомых, птиц. К ним же, то бишь врагам, можно было отнести и те случающиеся время от времени естественные катаклизмы в виде порывов ветра, града или дождя, что невозможно было предусмотреть, даже если неотрывно смотреть в таблицу событий, которой украшали стены домов, трактиров, гостиниц и даже королевских покоев. Ибо не могли же бробдингнежцы, как я, считать событием вторжение гигантских ос в мой деревянный домик в то время, как я ел яблочный пирог, или оводов-кровососов, каждый размером с жаворонка, от которых я отбивался палкой или кортиком. Для примера расскажу лишь об одном случае, произошедшем со мной в ту начальную пору моего пребывания во дворце.
В саду, где я часто проводил послеобеденные часы, было много цветов и соответственно бабочек и стрекоз, вечно носящихся над ними. Но если первые не обращали на меня никакого внимания, то вторые, будучи хищниками, не давали мне покоя. Некоторые особо крупные особи даже превосходили размахом крыльев размах моих рук, поэтому неудивительно, что однажды огромная стрекоза, судя по поведению, самец, напала на меня сзади. Схватив меня клещами челюстей за ворот нового камзола из переливающейся на солнце парчи, самец поднялся со мной в воздух, при этом его прозрачные перепончатые крылья страшно трещали, оглушая меня. Поскольку он ухватил меня за шкирку, я ничего не мог поделать и висел под ним, как кукла, беспомощно болтая ногами и руками. Ни шпаги, ни кортика при мне не было, да и вряд ли бы они пригодились – убей я на лету это чудовищное насекомое, и мне пришлось бы расстаться с жизнью, упав со страшной высоты. К счастью, я так растерялся, что долго не предпринимал никаких попыток освободиться. Так мы носились в воздухе, делая головокружительные пируэты, от которых меня вскоре стало мутить. С детства я мечтал летать, как птица, но в те страшные минуты я навсегда отказался от этой мечты. Я потерял тогда всякое представление, где верх, где низ, и что со мной происходит, когда же самец стал настойчиво тыкать мне в тыльную часть тела кончиком своего хвоста, я понял, что он принимает меня за самку, которую вознамерился оплодотворить. Догадаться об этом было нетрудно – кто же не видел носящихся в воздухе спаренных стрекоз, да и не только их… Поскольку штаны на мне не позволяли самцу успешно осуществить свое намерение, а я не собирался ему в этом потворствовать, то он носился со мной в челюстях, как бешеный, вверх и вниз. Спасло меня лишь то, что я оказался для него слишком тяжелой ношей. Устав, он опустился на цветок, чтобы передохнуть, – это была садовая ромашка с крупными лепестками. Я же, чувствуя, что другого такого шанса у меня больше может и не быть, изо всех сил схватился за эти лепестки обеими руками, решив дорого отдать свою жизнь. Но в этот момент самец, видимо, осознав свою оплошность, поскольку я вел себя совершенно неподобающе для самки стрекозы, разжал свои челюсти и, надавав мне по уху своими трескучими крыльями, сердито поднялся в воздух.
 |
А вообще мне было действительно хорошо во дворце. И все же, несмотря на спокойствие и благость, я понимал, что безмятежное мое житье – величина непостоянная, и что в любую минуту все может перемениться, – где правое, там и левое, где радость, там и беда. Поистине такой бедой стал для меня королевский карлик, не только самое низкорослое, но и самое низменное существо Бробдингнега, ростом всего в тридцать футов – до моего появления он извлекал из своего уродства всевозможные выгоды, ибо, как я уже упомянул, исключительному, выходящему из ряда вон в малом или большом здесь уделялось первостепенное внимание.
Естественно, что во мне этот карлик сразу увидел конкурента и возненавидел меня всеми фибрами своей мелкой, коварной и завистливой душонки, начисто лишенной таких добродетелей, как честь, достоинство и благородство. Сойтись с ним в дуэльном поединке я не мог, ибо, как ни малоросл он был, все же превосходил меня размерами в пять раз, и потому все, что мне оставалось, это побеждать его в поединках словесных, что для меня было тоже затруднительно, поскольку, особенно поначалу, я слишком плохо владел бробдингнежским языком, чтобы ещё шутить на нем, – ведь, если бы у языка были части тела, то шутка, несомненно, оказалась бы его сердцем. К тому же смех здесь вызывали совсем не те приемы речи, что в родном мне английском: тонкий юмор и изысканность намека, разнообразие речевых фигур, будто то синекдоха, метонимия, оксюморон или литота, я уже не говорю об элементарной метафоре, здесь не были бы восприняты как шутка. Природа юмора здесь была иной и строилась исключительно на сравнении чего бы то ни было с органом отправления естественных надобностей, расположенном на тыльной стороне нашего тела. У нас подобные шутки можно услышать разве что из уст простого народа, от грубых, необразованных и неразвитых душ, - здесь же он звучал по преимуществу в великосветских салонах и считался тем изысканней, чем был грубее. Заранее испросив извинение у читателей, поясню, что такое, например, выражение, как «Пошёл в задницу!» означало вовсе не ругательство, а самую изысканную шутку, ибо здешний здраво и прямолинейно мыслящий высший свет прекрасно понимал, что в физическом смысле отправиться в упомянутое место просто невозможно, что само по себе крайне смешно. Нужно ли добавлять, что в отношении меня подобная шутка, наоборот, приобретала самый реальный и угрожающий смысл.
Впрочем, я отвлекся. Так вот, карлик этот стал воистину моим мучителем, и если бы не постоянное присутствие рядом со мной моей верной и любимой Глюмдальклич, не знаю, имел ли бы я сейчас возможность выводить гусиным пером эти строки. Кто прочел опубликованную версию моих путешествий, конечно, уже знаком с его подлыми проделками, которые я вынужден был терпеть, тем более что они обычно сходили ему с рук. Я долго не понимал, почему он пользуется такой благосклонностью у королевы, прощающей ему самые дерзкие выходки, пока однажды не стал свидетелем невероятной картины, вызвавшей у меня шок и перевернувшей все мои представления о королевской семье.
Это случилось в саду, где я по своему обыкновению гулял после обеда. Король после принятия плотной и на мой вкус довольно тяжелой пищи, поглощаемой им за столом в количествах, которых хватило бы, чтобы насытить целый полк гвардейцев Вестминстера, удалился в свой кабинет, где он, под видом неусыпных занятий государственными делами, был не прочь соснуть часок-другой на своей софе из кожи местного буйвола, рога которого красовались там же, в изголовье. Королева же вышла в сад, якобы для того чтобы подышать свежим воздухом. Завидев ее, я было набрал в легкие воздух, чтобы своим криком, который был не громче комариного писка, оповестить её о своем присутствии, – Глюмдальклич рядом со мной не было, она удалилась по своим естественным надобностям, полагая, что за пять-десять минут её отсутствия со мной ничего дурного случиться не может. В этом она оказалась абсолютно права, если не принимать во внимание то дурное, печальным очевидцем которого я стал. Итак, едва я набрал в легкие воздух, напоенный ароматами цветущих персиковых и абрикосовых деревьев, как увидел, что из-за кустов барбариса, который уже успел отцвести и дал теперь маленькие, величиной с мой большой палец, красненькие весьма кислые плоды, появился карлик. Двигался он крадучись и почему-то оглядывался назад, словно не желая, чтобы его увидели рядом с королевой. Решив, что он замышляет что-то недоброе в отношении ее, я, полный отваги, обнажил шпагу, и на цыпочках двинулся следом. Меня смутило лишь то, что её Величество, явно слыша его шаги и покашливания, которыми карлик давал о себе знать, тем не менее ни разу не обернулась, а вместо этого медленно шла в сторону тенистой части сада, где ещё цвели кусты жасмина, благоухающие так, что у меня даже слегка закружилась голова. Впрочем, я любил запах жасмина – так пахло и от королевы, которая пользовалась душистой эссенцией из этих цветов, так между прочим пахло и от моей Глюмдальклич – вообще запах жасмина в Бробдингнеге ассоциировался с соитием, и женщины, жаждущие такового, специально подвешивали между грудей маленькую, набитую лепестками душистую подушечку размером с нашу реальную подушку, дабы кавалер знал, что его час под девизом: «Делай это сейчас» пробил, для чего полагалось взять из рук дамы эту подушечку и в знак согласия сунуть в гульфик своих панталон. К ужасу своему, я увидел, что именно такая подушечка и торчит из гульфика карлика.
Но я непростительно забегаю вперед – о здешнем кодексе полов у меня ещё будет время рассказать моему терпеливому читателю, на снисходительное отношение которого к моим записям я покорнейше рассчитываю, прекрасно отдавая себе отчет в том, что мое повествование лишено хронологической последовательности, и я бессистемно скачу от предмета к предмету, из завтра во вчера, подобно кузнечику, перескакивающему со стебелька травы на стебелек без всякого отчета о том, зачем он это делает, и почему он выбирает для очередного прыжка запад, а не восток.
Итак, заинтригованный странным поведением королевы, прямая спина которой и гордо вскинутый подбородок явно указывали на то, что она знает о происходящем за её спиной, но по каким-то причинам предпочитает сохранять видимость неведения и удаляется в неизвестном направлении, я пустился следом, скрывая свое присутствие за обильной растительностью сада. Хотя королева двигалась медленно и с той же скоростью крался за ней карлик, который тоже притворялся, что гуляет сам по себе, мне стоило немалых усилий поспевать за ними. Упусти я их из виду, и уже едва ли нашёл бы – ибо расстояние в любую сторону, которое мои великаны покрывали за несколько десятков шагов, стоило мне сотен, и лишь на одном, неправильно выбранном направлении поиска иссякли бы все мои силы, тогда как любопытство мое, к которому примешивалась непонятная мне самому ревность, только разгоралось. Таким образом, спустя какое-то время королева и шут за её спиной оказались возле тенистой беседки, окруженной со всех сторон, кроме входа, густыми кустами уже отцветшей сирени. Понятно было, что заботы садовника на этот самый удаленный уголок сада не распространяются, на что, видимо, и был расчет. День был прекрасный, солнечный, в листве щебетали птицы, самые мелкие из которых были размером с индюка, и легкий ветерок приятно ласкал щеки. По правде говоря, легким он был лишь по здешним понятиям – мне же, чтобы он не опрокинул меня навзничь, приходилось сильно нагибаться вперед и придерживать левой рукой шляпу, поскольку в правой была шпага. Королева, сделав шаг, скрылась в беседке, за ней, ещё раз оглянувшись у входа, последовал и карлик, я же, маскируясь сорванным листом подорожника, нанизанном на шпагу наподобие паруса, осторожно подкрался к беседке, которая до самого купола была обвита плющом. К несчастью, ступени у входа оказались слишком высоки, чтобы я мог преодолеть их самостоятельно, и, не зная, что предпринять, я поднялся на всхолмие, на котором стояла беседка, с тыльной стороны и, спрятавшись за одной из огромных балясин, огораживавших внутреннее пространство этой беседки, осторожно высунул голову. То, что увидел я внутри, раздвинув широкие ворсистые листья, мне никогда не забыть: королева сидела на деревянной скамейке, откинувшись назад, парчовый подол её роскошного платья был поднят, белые лядвеи широко раскрыты, а меж ними, опираясь ногами на подставленную табуретку, и руками – на груди королевы, высвобожденные из расшнурованного корсажа, орудовал мой заклятый враг, злобный похотливый карлик. Впрочем, злобы сейчас не было на его лице, – наоборот, его искажала гримаса угодливого удовольствия, и он урчал и жмурился, как кот, дорвавшийся до сметаны. Но что моя королева? Я вынужден констатировать, ибо обещал сообщать моему читателю только правду, что ей это нравилось. Она закатила глаза, и на губах её блуждала счастливая улыбка, а пальцы ее, на одном из которых отчетливо сверкал самый крупный в королевстве бриллиант, размером с нашу тыкву – пальцы её обхватывали обнаженный зад карлика, спустившего штаны, как бы управляя его движениями, то нарочно замедляя, то ускоряя их, то требуя паузы, чтобы, видимо, подробнее пережить миг предоставляемого наслаждения; карлик же был послушен этому капельмейстерству её Величества, даже прекращая урчать в те моменты, когда по её прихотливому капризу должна была воцаряться тишина…
Не помню, сколько минут наблюдал я эту возмутительную картину, оскорбившую меня до глубины души и разом разрушившую все те категории добра и справедливости, которые я до того приписывал бробдингнежской венценосной чете. Ведь неверность королевы королю была более, чем неверностью супругу. Она не могла не распространяться на все прочие структуры государственного устройства. Может быть, прошло десять, может, даже пятнадцать минут – это я, всегда стремящийся к точности и пунктуальности, на сей раз не смог определить, ибо часто, когда мы чем-то сильно увлечены или захвачены, время для нас летит незаметно и часы мелькают как мгновения, и наоборот – когда мы чего-то нетерпеливо ждем, тяготясь настоящим моментом, время растягивается для нас до размеров пытки, из чего я давно сделал для себя вывод, что время – категория не столько физическая, сколько эмпирическая, а эмпирея есть величина переменная. Это мы в своей возмутительной по самоуверенности и невежеству попытке обуздать его, разбили его на сегменты под названием часы, минуты и секунды, до которых оно само никогда бы не додумалось, потому что представляет собой реку вечности, текущую из ничто в никуда, несущую нас, как щепок, на себе. Вряд ли кому пришло бы в голову нарезать Темзу на мелкие части, чтобы таким образом вычислить её величину. Время не имеет величины, как даже сравнительно небольшая Темза, ибо мы не можем измерить её объем, даже заключив её в трубу и закупорив с двух сторон, – ведь это будет уже не Темза, а лишь её часть, безотносительная к истоку и устью, в реальности связывающих реку с остальным водным бассейном Земли, включая тот, что временно переходит в пар облаков…
 |
Так или иначе, но непристойная и оскорбительная для моего чувства прекрасного сцена не могла длиться целую вечность, о которой я только что размышлял вместе с моим любознательным читателем, – издали раздался громкий зов Глюмдальклич, которая разыскивала меня, и королеве, дабы не быть застигнутой врасплох, не оставалось ничего иного, как, вскочив, накрыть своего ничтожного фаворита обширным колоколом платья и одновременным движением двух рук затянуть на своей роскошной, без малейших изъянов белоснежной груди шёлковую шнуровку корсета. И вот уже Глюмдальклич возникла на пороге этой дальней беседки и, низко поклонившись, почтительно спросила её Величество, не при ней ли я, её маленький Грильдриг, оставленный на аллее и неизвестно куда запропастившийся. Королева, изобразив на лице искреннее беспокойство, что было мне хоть слабым, но все же утешением, велела девочке тут же меня разыскать и величественным взмахом руки дала понять, чтобы её больше не беспокоили. Глюмдальклич в низком поклоне развернулась и устремилась обратно по аллее, окликая меня, я же бросился ко дворцу напрямик, через подстриженные на английский манер газоны (где трава была мне всего лишь по пояс), чтобы оказаться на центральной аллее, – там меня легко будет увидеть… Таким образом, я не знаю, что происходило в беседке после того, как я покинул пост наблюдения – продолжила ли королева свое галантное свидание или же отпустила карлика, чего я всем сердцем желал. Впрочем, вполне допускаю, что карлик, это грязное похотливое животное, довершил то, для чего был приглашен в беседку…
Разные чувства обуревали меня – я прекрасно отдавал себе отчет в том, что стать свидетелем такой сцены, значит, в некотором роде взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу государства, в королевских садах которого (и, видимо, не только в них!) возможно подобное, и в то же время я испытывал вполне объяснимое чувство тревоги за свое дальнейшее благополучие.
Ибо прекрасно быть фаворитом, но что может быть хуже, чем зависимость от фаворитов царствующих особ, – тогда ты становишься игрушкой, которую ничего не стоит отправить в огонь камина… Да, только став любовником её Величества, я мог не опасаться своего успешного соперника. И я начал вынашивать план его дискредитации. В план этот входило обольщение королевы. Мной, естественно, двигала не жажда новых любовных приключений (моей дорогой Глюмдальклич было мне в этом смысле более чем достаточно), но исключительно соображения собственной безопасности. Вообще в Бробдингнеге, в отличие от Лилипутии, где я мог позволить себе беспечность и легкомыслие, это было главное и постоянное мое чувство, напоминающее легкое жжение под ложечкой. Впрочем, теперь я допускал, что, зная о моем эротическом номере в аттракционе фермера, её Величество рано или поздно позовет меня в свои покои, чтобы на себе испытать мое искусство (как потом выяснилось, та коварная дама, сбросившая меня в свои панталоны, была фрейлиной королевского двора и более того - сводней, подбирающей королеве любовников). Единственное, что, возможно, мешало королеве приступить к делу, так это явно завышенное представление о своем достоинстве, обратную сторону которого я воочию лицезрел в садовой беседке.
Но вот как-то вечером королева попросила принести меня в её спальню под тем благовидным предлогом, что она хочет послушать, как я исполняю на спинете народные английские мелодии, настолько, де, ей понравилась джига, которую я недавно играл. Королева добавила, что страдает бессонницей, и в прошлый раз моя джига оказалась для нее прекрасным снотворным. Как всегда меня принесли в домике, который смастерил мне лучший королевский плотник и обставил лучший королевский мебельщик, и в котором при малейшем намеке на опасность я скрывался, как рак-отшельник.
Я услаждал слух её Величества своей игрой около четверти часа, что было весьма непростым делом, так как каждая клавиша была величиной с меня, и мне приходилось бегать туда-сюда, как угорелому, колотя по ним двумя дубинами, благо, что музыкальный гений английского народа сочинял музыку простую и безыскусную, умещающуюся в пределах одной октавы. Попробуй я исполнить более изощренные мелодии Франции или Испании – и столкнулся бы с непреодолимыми трудностями. Итак, поиграв для королевы, причем она уже заняла свой альков, возлежа головой на подушке в своем пышном ночном убранстве, подготовленная для отхода ко сну фрейлинами, которых при моем появлении она попросила удалиться, я изрядно устал и остановился в нерешительности, так как по лицу королевы, лежавшей с закрытыми глазами, не мог с точностью определить, спит ли она или ещё бодрствует. Я же находился на скамье, поставленной перед клавишами спинета, и не мог самостоятельно спуститься на пол – мне оставалось только ждать, когда Глюмдальклич придет за мной. Но девочка, видимо, получив некое дополнительное распоряжение, не шла. Проведя какое-то время в полном молчании и видя, что королева не шевелится, я решил подать голос, поскольку стал беспокоиться из-за перспективы провести ночь на голой деревянной скамье, так и не совершив надлежащего вечернего туалета и не очистив организм перед сном от накопившихся в нем излишеств. На звук моего голоса, впрочем, почтительно сдержанный, королева никак не откликнулась, и тогда я заорал во всю глотку. Королева открыла глаза, с минуту смотрела перед собой в недоумении, как если бы пытаясь осознать, что её разбудило – муха или комар? – и наконец её глаза остановились на мне, хотя в полумраке огромной опочивальни, освещенной лишь четырьмя свечами, разглядеть меня было не так-то просто.
– Прости, Грильдриг, – ласково сказала она, приподнимаясь со своего одра, – ты слишком хорошо играл, и я чуть было не заснула.
Чтобы дотянуться до меня, ей пришлось встать на колени, и хоть я скромно потупился, я не мог не заметить, что на ней длинный пеньюар, сквозь полупрозрачную ткань которого видны соски высоких грудей, а ниже – затемь курчавого места, которое отважусь назвать лобным… Я хочу, чтобы читатель, не теряя чувства реальности, хотя бы на миг представил себя в моей шкуре, тогда он увидел бы, что эти прекрасные груди были подобны вечерним облакам, а то, что я называю лобным местом, точнее – лобок, с обширным треугольником курчавых волос, столь явно читаемых в льнущих к паху складках ткани, походило на островок ржи, несжатой косцами по той лишь причине, что в минуты полуденного отдыха они могли обрести здесь спасительную тень. Я делаю такое необычное сравнение и предлагаю читателю мысленно исполнить мою роль только лишь для того, чтобы он мог сполна оценить мое мужество и нечеловеческую дерзость, вооружившись которыми я далее стал осуществлять взлелеянный мной план соблазнения её Величества. Впрочем, догадливый читатель и без того знает, что соблазнить женщину можно лишь в том случае, если она сама хочет быть соблазненной, будь то даже венценосная особа…
Тем временем королева, потянувшись ко мне, осторожно сняла меня с лавки и опустила на простыню возле своей пуховой подушки.
– Спой мне что-нибудь, Грильдриг, – сказала она. – Никогда не слышала, как ты поешь. Я прилягу, а ты спой мне на ухо.
Она действительно тут же легла, так что передо мной возникла раковина уха, отчасти напоминавшая таз из моего дома в Ноттингемпшире, в котором, налив воды, я совершал утренние и вечерние омовения. Певец, конечно, из меня никудышный, хотя в компании за столом после обильного ужина и четырех пинт эля я мог и запеть, но сейчас у меня и выбора не было. Воспитанный в полном и беспрекословном подчинении власть предержащим, я бы запел, даже если бы был нем и глух. Посему я готовно завел то, что хорошо помнил с детства - колыбельную, которую мне певала ещё моя покойная матушка. Послушав с минуту, королева закрыла глаза, и я, решив, что изысканной речью, полной восторженных эпитетов, восхваляющих мою королеву, добьюсь ещё большей благосклонности, продекламировал ей на ухо, чтобы быть хорошо услышанным, несколько витиеватых фраз. Известно, что женщины любят ушами, и без словесной преамбулы подчас невозможно рассчитывать на успех в деле обольщения. Однако вопреки моим ожиданиям, королева тут же открыла глаза и стала безудержно смеяться, глядя в шёлковый купол своего алькова. Она никак не могла остановиться, и я в отчаянии почувствовал, что все мое смелое предприятие на грани краха, ибо прекрасно знал – ничто так не обескураживает любовника, как несвоевременный смех. Последний буквально лишает нас любовного оружия, потому я смущенно замолчал на середине фразы, покорно ожидая своей участи. Я уже понял, что мой писклявый голос никак не сможет вскружить голову столь высокородной избраннице.
– Какой ты смешной, Грильдриг, – переведя дух, сказала, наконец, королева, словно прощая мне мою неловкость и, подняв меня левой рукой, опустила перед своим лицом прямо на ткань пеньюара между всхолмиями своих грудей, которые я мог бы одновременно трогать, широко разведя руки в стороны.
От её тела исходило приятное и одновременно душистое тепло, напоенное ароматами жасмина и лаванды.
Далее её Величество в действительно величественной и милосердно-снисходительной манере, присущей только венценосным особам, коих назначение – нести на себе бремя ответственности за сей мир, поинтересовалась, готов ли я оказать королеве, почетным гостем которой являюсь, маленькую услугу, в чем немедленно получила мои самые горячие и искренние заверения. Тогда её Величество попросила меня раздеться, поскольку по её словам, ещё ни разу не видела обнаженным такое маленькое существо, как я, и желала убедиться, что я устроен подобно мужской половине её страны, о чем я сам неоднократно заявлял. Дабы представить ей доказательства, мне не оставалось ничего иного, как исполнить её каприз.
Полностью разоблачившись, я не ощутил холода, так как весь был окутан теплом, исходящим от тела моей королевы, как от обетованной земли, на освещенный и согретый солнцем берег которой ступила нога счастливого паломника. Королева же, внимательно осмотрев меня со всех сторон, перекладывая с ладони на ладонь, изъявила желание, чтобы я на деле доказал, что я действительно мужчина, так как признаки моего пола, по её мнению, проявлены неотчетливо. Как ни горько мне было согласиться с этим, но я вынужден был вслух признать, что так оно и есть, если смотреть на вещи глазами жителя Бробдингнега, и тут же в свое оправдание сказал, что тем не менее у меня на родине есть не только жена, но и дочь, каковую я мог зачать только при условии своего мужеского пола. На это королева лишь загадочно усмехнулась, словно давая понять, что готова предоставить мне возможность для доказательства моей состоятельности, после чего, потянув на себя нижний край пеньюара, перенесла меня на обнажившийся теплый живот, прямо к тому месту, где я видел холм с несжатой рожью, колосья которой уже частично полегли под тяжестью спелого зерна. Мне пришлось спускаться прямо по ним, приятно пружинящим под моими голыми ступнями, туда, где, как я понимал, королеве и хотелось меня обнаружить. Меня била дрожь волнения, поджилки мои тряслись – я чувствовал себя так, как, вероятно, не чувствовал себя ни один мужчина на свете, при том, что мое естество уже поднялось самым натуральным образом, и если я тут же не обернулся лицом к королеве, чтобы продемонстрировать ей свою боевую готовность, то лишь из сомнения, что ей удастся разглядеть разительные перемены, произошедшие в нижней части моего тела. Итак, в три шага одолев несжатую полосу, я замешкался, соображая, как мне действовать далее, но, вспомнив опыт, приобретенный с Глюмдальклич, оперся руками на внутренние стороны бедер королевы, мягких и пышных, и спрыгнул на простыню. Королевские ноги были похожи на мраморные колонны древнегреческого храма, обрушенные на землю во времена варваров, а ступни её выступали из полутьмы, как зубчатые башни знаменитой китайской стены. Одна из горевших в изножье свечей имела достаточно пламени, чтобы осветить мне вход в чувствилище королевы, представлявший собой, как и у Глюмдальклич, две мягкие замкнутые створки, только более крупные, мне по пояс, и как бы слегка опаленные на огне испытанных ею страстей… И ещё одно – в отличие от пышной поросли на холме Венеры, здесь у королевы было абсолютно гладко – ни волоска, ни даже торчащей из кожи стернинки… Потом я узнал, что нежелательную растительность в известных местах здесь удаляют с помощью специальных паст и масел, сдобренных ароматами различных трав и цветов, наподобие того, как это принято в гаремах экзотического Востока.
 |
Я смиренно замер возле входа, полагая, что, как это делали мы с Глюмдальклич, меня возьмут в руку и используют наподобие инструмента любви, но ничего подобного не произошло. Пауза затягивалась и грозила мне непоправимыми последствиями, вплоть до изгнания из дворца. Нет ничего опасней неудовлетворенной женщины – она превращается в фурию. Поэтому я решил действовать на свой страх и риск – стал гладить и теребить большие створки лона со всей фантазией, на какую только был способен. Тут же я с удовлетворением отметил, что они живо откликаются на мои прикосновения – слегка подрагивают и увеличиваются в размерах; они должны были бы также и покраснеть, но при свечах мне это было не видно. Понимая, что они вступили в диалог со мной и черпая в этом добром знаке свое вдохновение, я раздвинул их и оказался перед полуоткрытой розовой пещерой, слегка влажной и обрамленной с двух сторон тем, что в анатомическом атласе называется «малыми губами». Взявшись за них, как за ставенки, и разведя их в стороны на ширину моих плеч, я осторожно сунул голову внутрь. Из глубины чувствилища королевы шло паркое тепло, будто из бани, с приятным запахом розового масла. Во всяком случае, обонянию моему нечего было опасаться, обморок мне не грозил, - недра королевы были ухожены и орошены, свидетельствуя о том, что меня здесь ждали. Поскольку королева по-прежнему бездействовала, явно испытуя меня, я предпринял следующий шаг, а именно – оперся правым коленом на нижний край подвижной и податливой пещеры и пополз внутрь. Голова моя то и дело задевала свод, однако сразу за лобковой костью он стал выше и на ощупь – плойчатым; все же это, вместе со стенками и полом, естественно, представляло собой вагину, по-латыни vaginus genitalis. Поначалу мягкая и податливая, она по мере моего продвижения на четвереньках внутрь, становилась все более упругой и увлажненной. Обернувшись, я убедился, что уже полностью нахожусь в вагине, – вход в нее теперь представлял собой изогнутую щель, за которой в отдалении трепетало оранжевое пламя свечи. Однако здесь было душно, поскольку я собственным телом перекрывал приток воздуха, и я сделал попытку развернуться, чтобы выползти головой вперед, и попутно ощупать наиболее чувствительные места в нежной пещере королевы, каковые должны были быть – о них я встречал упоминания в восточных трактатах, составленных знатоками любовной игры, - сделать же это, двигаясь задом наперед, было затруднительно. Однако такой маневр в обратном направлении мне не удался, поскольку стенки королевской вагины основательно напряглись и чуть ли не стали охватывать меня наподобие весьма горячих объятий. Пришлось мне вылезать задом. Причем я так и не знал бы, закончена моя любовная миссия или нет, если бы не догадался по характерной качке и по тому, как с тыла в меня с ритмическими повторами стал утыкаться палец королевы, что она активно помогает мне, дополнительно стимулируя себя, как это делают жрицы любви, слишком привыкшие к одному и тому же, чтобы испытывать вдохновение подлинных чувств. Тогда я стал коленями, локтями, ладонями, головой, даже ступнями активно проминать окружающие меня своды, как бы простукивая их на предмет сокрытых там сокровищ, что между прочим было не только метафорой – поскольку, как известно, именно таким образом и извлекается из материальной плоти миг последнего содрогания, принадлежащий к высшей субстанции, каковая есть дух и полет.
Когда все кончилось, когда отзвучал сладострастный стон королевы, огласивший своды её тела, и прекратились его, тела, содрогания, я наконец вылез из пещеры, совершенно мокрый от королевских секреций, солоноватых на вкус и отдающих запахом морской травы, только что выброшенной на берег морским прибоем, и тут же был обнят пальцами королевы, которые поднесли меня к королевским губам, и эти губы прошептали: «Ты просто прелесть, мой маленький Грильдриг…» Королева выглядела утомленной, но довольной, и она нашла в себе силы, встав на колени, обтереть меня насухо краем своего пеньюара, найти мою изрядно помятую одежду, помочь мне облачиться в нее, а затем перенести меня в мой домик, оставленный Глюмдальклич в углу опочивальни, после чего королева, дернув шнур звонка, вызвала мою нянюшку…
Первая победа, явившаяся частью моего плана отлучить карлика от двора и занять его место, имела, естественно, свои весомые последствия. Теперь перед отходом королевы ко сну, не реже двух раз в неделю, мой домик оказывался в углу её опочивальни, а возле спинета уже стояла прислоненная к клавишам лавка. Для вида я играл королеве, впрочем, недолго, ибо она не желала, чтобы мы тратили время даром, а ещё из опасения заснуть и пропустить удовольствие более изысканное, чем слушание народных английских мелодий. О пении же ей на ухо речь вообще больше не заходила, – скорее всего тембр моего голоса напоминал ей писк комара, которых она смертельно боялась. Я её прекрасно понимал – случись подобные, величиной с майского жука, кровососущие у меня на родине, и вполне могли бы заморить даже племенного быка, ведь за один свой укус местные комары высасывали чуть ли не нашу рюмку крови.
Два раза в неделю в опочивальне королевы было для меня более чем достаточно, поскольку в остальные дни, за исключением выходного, который здесь приходился на середину недели, подобно тому, как послеобеденный отдых приходится на середину дня, меня использовала уже известным читателю способом моя Глюмдальклич, и если я не испытывал при такой нагрузке крайнего истощения своих сил, то лишь потому, что моим возлюбленным по большому счету не было дела до состояния моего детородного органа, тем более до моего семяизвержения, разовую порцию которого они едва ли разглядели бы даже в лупу. О, золотые дни в Лилипутии, когда я был царь и бог всем её женщинам, когда они уходили от меня – Нового Парацельса – с ведрами животворной влаги… Но тем и величественно мыслящее существо, к коим я не без веских оснований себя относил, что оно умеет думать и приспосабливаться. Ведь как я ни берег от опасностей среди этих гигантов свое маленькое тщедушное тельце, мысленно и духовно я вскоре стал наравне с ними. И этому немало споспешествовал мой любовнический постриг.
Этот период был достаточно безмятежным для меня, поскольку под покровительством королевы я, её тайный любовник, мог хотя бы ненадолго забыть о треволнениях дня грядущего, что для бробдингнежцев было полным абсурдом, ибо вместе с настоящим, которое можно увидеть, пощупать и попробовать, и прошлым, в котором они имели правила и образцы для подражания, грядущее по-бробдингнежски лишь повторяло уже хорошо известное. Строго говоря, здесь жили без ощущения истории, и потому предки бробдингнежцев, как у древних греков, превращались в богов. А коль скоро речь зашла о правилах и образцах, то с позволения читателей коснемся наконец «Хартии соития», огромного тома на сто тяжеловесных страниц, которые я с милостивого разрешения короля просматривал в его библиотеке в часы отдыха от обхаживания обеих моих возлюбленных. Впрочем, огромный этот том был по количеству слов много короче любого из документов обеих палат английского парламента, денно и нощно озабоченного лишь тем, как новой регуляцией ещё более осчастливить жизнь моих сограждан, вплоть до того, с какой ноги им следует вставать и что готовить на завтрак, особенно если в кошельке нет ни пенни… Ведь, как известно, предписанные сверху правила и создают видимость жизни, независимо от её истинного содержания, и если народ им не следует или следует не вполне, то это вина его, народа, а не тех, кто все для него так хорошо придумал. Так живут там, где властвует тирания, но как ни удивительно, народы этих стран более счастливы, чем те, где им дарованы свободы, потому что объединены единым порывом любви к тирану, а свобода разъединяет. Свобода народу пригождается лишь на то, чтобы ставить над собой новых тиранов, потому что быть свободным – это наказание Господне, и надо обязательно пред кем-нибудь преклониться. Если же человек не преклонился и остался себе на уме, то он опасен и лучше его посадить за решетку, сжечь, или объявить умалишенным. И получается, что даже если народ состоял бы из одних мыслящих существ, вместе они все равно остались бы стадом баранов. Итак, кодекс полов под названием «Хартия соития» начинался уже известными читателю словами: «Делай это сейчас». Поначалу они имели расширительное толкование, касающееся всех сторон жизненного цикла бробдингнежцев, имевших право не только трудиться, не покладая рук, но и хранить супружескую верность, или, если это невозможно, перепродавать жен для поддержания оной. Однако постепенно, поскольку страна процветала, и в отсутствие естественных врагов ежегодно вдвое увеличивала свой доход, здесь не осталось никаких иных дел, кроме получения известных удовольствий, и смысл знаковых этих слов низвелся до самого заурядного. Кстати, даже огромная армия, которую король продолжал содержать для того, чтобы воины благодаря ежедневным упражнениям на конях, с мечами и пиками пребывали в добром физическом здравии на тот невероятный, но все же теоретически возможный случай нападения извне, даже, повторяю, армия, вернее, расходы на нее, не могли заметно сказаться на состоянии королевской казны. И все же нация, имея, казалось бы, такой огромный запас прочности, испытывала глубочайший кризис и клонилась к своему закату, предначертанному в знаменитой таблице периодичности событий, о которой я уже имел честь рассказать. Мое невольное вмешательство если и пошатнуло впоследствии догму о периодичности, то ненадолго, ибо ничто нам так не дорого, как собственные предрассудки.
Тогда же, в период, о котором я веду речь, нация действительно была на ущербе, что проявлялось прежде всего резким падением рождаемости, и лозунг «Делай это сейчас», толкуемый даже в узком смысле, никак не мог исправить существующее положение, ибо специальной буллой главы церкви ещё за шестьдесят лет до описываемых мною событий мужскому населению Бробдингнега было запрещено семяизвержение в лоно женского населения под страхом смертной казни через получение четырех ударов дубинкой по голове. А до того бробдингнежцы так увлекались подобным актом, что дети выскакивали, как грибы после дождя. В каждой семье было по десятку ртов, и все силы родителей уходили на добывание средств к их прокормлению, от чего в церковь почти никто не ходил, на нее просто не оставалось времени, и доходы духовенства падали. В стране существовало двоевластие, и прапрадед нынешнего короля находился с церковным иерархом в постоянной, хотя и скрытой вражде. В ту пору церковь была сильнее королевского двора, в котором по причине все той же высокой рождаемости оказалось восемнадцать наследных принцев, спорящих между собой за право надеть корону, что представляло собой смертельную угрозу целостности страны. К тому же, ни одного из них нельзя было считать полноценным, ибо любвеобилие короля Ниспендрифа Ненасытника, видимо, пагубно сказалось на качестве его семени, и королева приносила ему одних уродов. Отсюда, кстати, и берет свое начало бробдингнежское выражение: «В семье не без урода», имеющее настолько широкое хождение и в нашем привычном мире, что есть смысл подумать, не одни ли у нас исторические корни. Когда же один из многочисленных отпрысков Ниспендрифа все же взошёл на престол, то в силу его слабоумия, выражавшегося в том, что он, как и другие его братья, посвящал все свое время рукоблудию, нимало не заботясь о славе и процветании вверенного ему государства, то реальную власть в стране взял в свои руки сам глава церкви. В бытность его у кормила государства и возникла та знаменитая булла, предписывавшая проливать семя в женское лоно лишь два раза в году – в первый день весны и в первый день осени, которые по нашему календарю соответственно приходились на последние дни зимы и лета. Опыт регуляции прироста населения оказался более чем удачным, ибо как ни трудилась в эти два дня в поте лица своего над своим воспроизводством половозрелая часть бробдингнежского народа, вскоре смертность в стране стала намного превышать деторождение, и церковь расцвела, поскольку весь обряд похорон, включая отпевание, приносил ей гораздо больше барышей, чем обряд крещения младенцев, не говоря уже о том, что каждая семья стала богаче настолько, насколько не увеличивалось количество едоков. Нужно ли добавлять, что у родителей появилось свободное время, и, ища себе занятие, они потянулись в церковь, оставляя в ней свои серебряные монеты… Результаты проведения в жизнь данной буллы были настолько блистательны, что заключенная в ней формула полового поведения накрепко вошла в сознание бробдингнежцев.
Поначалу были, конечно, недовольные, поскольку проливание семени вне женского лона во все остальные дни года не сопровождалось тем чувственным восторгом, не испытав который, невозможно было достигнуть духовных высот откровения, пробуждающих творческие силы, – почему нация и стала постепенно терять своих героев, ученых и музыкантов (художников же, как помнит читатель, тут и вовсе не было, а в писатели и поэты направляли по приговору суда). Но нет худа без добра – те же редкие творцы, что все же появлялись время от времени, ещё при жизни стали нарекаться гениями и бессмертными.
Нарушение же предписаний буллы было практически исключено, так как дети обязаны были рождаться строго через девять месяцев после первого дня осени или весны, и любое нарушение этого срока подвергалось расследованию, и если родителям в связи с преждевременными или затянувшимися родами младенца не удавалось доказать свою законопослушность, несчастного новорожденного убивали. Та же участь в виде четырех ударов дубинкой по голове ждала и отца. Матери же, как пассивному началу при акте семяизвержения, оставляли жизнь, что было гуманно, так как кто-то ведь должен был растить тех детей, что уже имелись в семье.
Однако со сменой поколений становилось все более и более очевидным, что вышеназванная булла не способствует процветанию нации, так как, с одной стороны, ограничивает деторождение, а с другой – ведет к различного рода душевным расстройствам как мужской, так и женской части населения, порождаемым необходимостью прибегать к различным заменителям последней фазы полового акта, то есть извержением в тряпочку, извержением анальным или оральным, а также в руку, в домашних животных, в овощи или фрукты, в которых с этой целью проделывалось отверстие, несколько напоминавшее вагинальное… В этом смысле особенно популярны были дыни с бывших брибтибрейских бахчей, имеющие характерное раздвоение, напоминавшее женские чресла… Понятно, что несмотря на буйную фантазию исполнителей, такие подмены природной естественности нравились далеко не всем. Даже, казалось бы, более или менее адекватная оральная эякуляция зачастую приводила здесь к летальному исходу, так как у неопытных бробдингнежек семя то и дело попадало в дыхательное горло, по причине своей особой вязкости, наглухо перекрывая его… Мужская же часть населения, вынужденная перед семяизвержением вынимать из женского лона орудие детовоспроизводства, настолько привыкала к этому за полгода, что и в те два разрешенных дня, по привычке разрешалась мимо – и бробдингнежки оставались неоплодотворенными…[6]
Так или иначе, но по прошествии нескольких десятков лет стало очевидным, что нация клонится к упадку, тем более что дала обильные всходы неизвестная ранее однополая любовь, поскольку о её запрете в булле не было ни слова. Тут мнение преемников раскололось, хотя все они оправдывали автора знаменитой буллы. Только, по утверждению одних, он якобы считал, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, а, по утверждению других, автор – как раз наоборот – в своей мудрости намеренно умолчал о таком виде любви, считая его абсолютно безвредным, поскольку дети от него не рождаются. Умолчал, поскольку надеялся на сообразительность бробдингнежцев, имея в виду великий принцип любого законодательства – что не запрещено, то разрешено. Если так, то он оказался прав, и бробдингнежцы, наблюдая повадки животного мира, часть которого представлял домашний скот, довольно быстро сообразили, как приспособить к своим нуждам имеющиеся в теле прочие углубления и входы. По первоначалу это были женские дополнительные входы, а поскольку они абсолютно ничем не отличались от соответствующих мужских, то в спросе вскоре заодно оказались и последние. Таким образом аборигены своим умом довольно скоро дошли до тех же нравов и обычаев, которые практиковались, скажем, в Древней Греции, где не возбранялось любить одновременно оба пола себе в удовольствие. Такое же невозмутимое целомудрие души демонстрирует и мой великий соотечественник Уильям Шекспир, написавший немало любовных сонетов, обращенных к его юному другу. Имени оного мы, к сожалению, не знаем, и только по фамилии их автора, которая при буквальном переводе, обретает реальное значение (то есть Потрясающий копьем)[7], можем догадаться, каким же «копьем», выражаясь фигурально, наградил его Творец. Я первым готов был бы припасть к подножию памятника тому безвестному юноше, сам бы воздвиг таковой в благодарность за то вдохновение, которое оный юноша дарил великому кудеснику английской сцены. Разве в конце концов не безвестному возлюбленному обязаны мы рождением таких бессмертных творений, как «Король Лир», «Макбет» или «Гамлет, принц датский»?!
В общем, повторюсь ещё раз, к моменту моего появления интимная жизнь бробдингнежцев выглядела удручающе. Естественная природа любовных отношений была искажена до неузнаваемости, и теперь мне стало понятно, почему натуры здоровые и страстные, такие как моя Глюмдальклич или та же королева, шли ради удовлетворения своих естественных чувств в мои объятия или в объятия таких уродов, как карлик, который если и сохранил свою мощную мужскую силу (в чем я ещё буду иметь случай убедиться), то лишь благодаря своему уродству. Я, конечно, понимаю что «мои объятия» – это сильно сказано, поскольку нельзя объять необъятное, но данная оговорка свидетельствует лишь о том, что я давно уже не в стране бробдингнежцев.
И все же представьте, каково мне было однажды услышать, что король манкирует своими супружескими обязанностями и предпочитает играть в дюч (подобие наших шахмат) со своим премьер-министром, которого он сделал в государстве вторым лицом после того, как в результате затянувшейся тяжбы с двоевластием было покончено, церковь наконец отделилась от государства, потеряв весь свой моральный вес вместе с казной, и король объявил себя полновластным правителем, получив такие высокие титулы, как Награда Вселенной и Улыбка Вечности. Но как беспристрастный свидетель не могу не отметить, что его склонность к лицам мужеского пола лично для меня имела несомненно положительную сторону, ибо я на его письменном столе, где он работал над проектом нового государственного устройства, был всегда желанный гость и собеседник, и многое из моих слов легло в основу указов, написанных им в бытность мою в Бробдингнеге. Я уже не говорю о том указе, который совершил революцию в умах бробдингнежцев, вернув им Бе Бу – Бесконечное Будущее, которого они ранее были лишены из-за своих периодических таблиц.
Но вернемся к карлику, этой злобной твари, проклятию рода бробдингнежского, не оставлявшему меня в покое и насмехавшемуся надо мной по поводу и без повода. Мое вынужденное купание в миске со сливками, яблоки в саду, обрушенные на мою голову, мое пребывание в мозговой кости, в результате чего был безнадежно испорчен мой лучший камзол, сшитый для меня лучшим королевским портным, – это невинные детские забавы по сравнению с тем, что это циничное ничтожество попыталось однажды утворить в отношении бедной Глюмдальклич прямо на моих глазах, считая, что я для него абсолютно безвреден и безопасен, так как со мной можно покончить одним хлопком мухобойки. Читатель сейчас узнает, насколько заблуждался этот шелудивый пес… Но прежде считаю своим долгом упомянуть, что, заботясь о чести королевы, я свято хранил тайну наших интимных отношений с ней, и моя Глюмдальклич ни о чем не подозревала, да мне и не хотелось осложнять свои отношения с ней, этой девочкой-женщиной, от вечной разлуки с которой мое сердце кровоточит до сего дня… Как-то под вечер, убедившись, что вызова к королеве не будет, Глюмдальклич после нашей прогулки вернула мой домик-ящик, который проветривался на балконе, в свою комнату, где я и жил, разоблачилась, оставшись в полупрозрачной нижней сорочке, соблазнительно подчеркивавшей её прелести, и уже перенесла меня на свою кровать, на которую и прилегла для любовной игры, каковой мы оба были большие любители, как дверь вдруг скрипнула, и не успели мы сообразить, в чем дело, как на пороге возник карлик, любовник королевы. К горечи своей, я имел случай убедиться, что она продолжает встречаться с этим уродом. Я даже знал причину такой её привязанности и постоянства – феноменальные способности карлика в услаждении женщин: он мог делать это до пятнадцати раз на дню, как маньяк, при том, что орудие, которым он владел, было отменного размера и, если говорить о пропорциях, то превосходило нормальные размеры у моих соотечественников не в двенадцать, а во все двадцать раз. Такое соотношение величины мужского естества и самой фигуры, коей оно принадлежало, я встречал разве что на росписях древнегреческих амфор. Как известно, древние греки, как, впрочем, и древние римляне не гнушались изображением сцен соития, и если мерзкий карлик мне кого-то напоминал, то прежде всего похотливого Приапа с его огромным вздыбленным фаллосом.
О намерениях карлика, появившегося у Глюмдальклич, которая имела неосторожность оставить дверь незапертой, не могло быть двух мнений – этот мерзавец уже успел расстегнуть свой гульфик и из его порток торчал мощный жезл, услада королевы, скипетр негласного могущества карлы. Безмолвно, не издав ни единого звука, карлик тут же набросился на Глюмдальклич, возлежащую на постели с ногами, раскрытыми вовсе не для него. Глюмдальклич была по его представлению лишь никчемной служанкой, даже не фрейлиной, к которым королева, по моим наблюдениям, время от времени подсылала его, дабы среди её дам постоянно царили веселье и довольство, – для него, как он полагал, Глюмдальклич – легкая добыча, а потому он, баловень женской половины королевского двора, безо всяких церемоний навалился на мою нянюшку, одной рукой задрав ей подол длинной ночной рубашки, а другой нацеливая свое ужасное орудие, даже не зная, что перед ним девственница… Хотя я был возле нее, он меня не удостоил даже взглядом.
Опомнившись от неожиданности, Глюмдальклич оказала карлику яростное сопротивление – она была выше его ростом и лишь немногим слабее, так что раза два удачными ударами ног, которые он хотел ей задрать, она отправила его на пол. Но карлик не унимался – он был уверен в конечной победе и имел на то все основания: с каждым его новым приступом моя подружка сопротивлялась все меньше, может, ещё и потому, что, как и я, могла бы впоследствии ожидать от него любых козней. Она быстро теряла силы и, похоже, готова была уже смириться со своим нежданным несчастьем.
Видеть это мне было непереносимо – я не мог позволить, чтобы зло таким наглым и циничным образом торжествовало над добром, и, пока ещё шла борьба, я успел соскользнуть на пол по складке простыни и, добежав до своего домика, к счастью, стоящего неподалеку, вынуть из ножен шпагу, которую, вдобавок к имеющемуся у меня кортику, выковал мне из женской заколки для волос королевский оружейных дел мастер. Размахивая шпагой, я бросился на моего заклятого врага и обидчика Глюмдальклич, но едва ли причинил бы ему хоть сколько-то заметный вред, если бы моя девочка, которой он уже ухитрился задрать ноги, не взбрыкнула в последнем отчаянном усилии, отправив его снова на пол. Карлик упал на спину, на сей раз настолько неудачно для самого себя, что крепко приложился об пол затылком. Пока он, сидя и почесывая ушибленное место, изрыгал проклятья, я, уцепившись за его расстегнутый гульфик, успел по его порткам взобраться на него и, оказавшись рядом с его чудовищным тараном, которым он собирался пробить нежные воротца моей возлюбленной, размахнулся и что было сил двумя руками по самый эфес вонзил в этот восьмифутовый срам шпагу.
Раздался страшный вопль, во все стороны брызнула кровь, карлик дернулся и шпага переломилась – у меня в руке осталась лишь рукоятка, сам же я кубарем полетел в угол… Карлик вскочил на ноги, схватившись за свой раненый орган, и с воем ринулся вон. Моя шпага так и осталась в его естестве… Понять, что он испытывал, может лишь тот, кто волею судеб сам получал шило или швейную иглу в причинное место.
Хотя было довольно поздно, и беспокоить королеву не смел никто, я все же имел в этом смысле некоторые преимущества: вход в её покои в часы ночного отдыха, как уже знает читатель, был мне доступен дважды в неделю, посему мне удалось убедить горько плачущую Глюмдальклич тут же поставить в известность королеву о происшествии, не забыв упомянуть о моем участии в нем, – именно последнее могло послужить оправдательной причиной столь позднего появления моей нянюшки в опочивальне её Величества. Я правильно рассчитал ходы – королева поначалу крайне встревожилась, поскольку почему-то решила, что именно я стал объектом посягательств карлика, но потом, уяснив суть дела, сначала сильно побледнела, потом покраснела и повелела сбежавшимся на шум стражникам найти карлика и привести к ней.
Того нашли не сразу, а найдя, волоком притащили к королеве, ибо сам он то ли не хотел, то ли не мог идти… Тут явилось и доказательство моего рыцарства в схватке за честь непорочной Глюмдальклич – шпага, которую обнаружил в естестве несчастного вызванный королевский эскулап. Тот специальными щипцами, величиной с мои каминные, без всякого болеутоляющего средства вытащил из рыдающего карлика клинок моей шпаги, наличие которого в своем к тому моменту уже изрядно воспалившемся органе карлик никак не смог объяснить. Впрочем, в его объяснениях королева не нуждалась – все было ясно, как божий день, и я внутренне торжествовал.
Однако, не желая развития скандала, королева поступила мудро, отправив карлика в дальнее имение той самой фрейлины, которая во время представления якобы случайно уронила меня в свое исподнее. Фрейлина эта по причинам мне неизвестным была отлучена от двора, но тут о ней вспомнили, в знак милости сослав к ней карлика, который, выздоровев, мог бы действительно оказывать ей известные услуги, поскольку фрейлина была одинока…
На следующий день за обедом, на котором, естественно, присутствовал и я со своими скромными по части аппетита запросами, что всегда вызывало улыбки сидящих вокруг царственных особ, а также тех, кто был допущен к царскому столу, включая первых сановников государства, король обратил внимание на отсутствие карлика и поинтересовался, где он. На что королева, которая, как я имел возможность убедиться, прекрасно держала себя в руках и умела управлять своими чувствами, ответила, что карлик заболел неизвестной болезнью и, дабы не подвергать опасности здоровье членов царского двора, был изолирован в надежном месте, где ему оказывается лечебная помощь и надлежащий уход, каковым ответом король был вполне удовлетворен и больше о карлике не вспоминал. О моем подвиге чести, естественно, не было произнесено ни слова.
Но карлику не повезло, хотя он и выжил. Как позднее я узнал, рана, нанесенная ему моей шпагой, имела плачевные для него последствия. Она долго не заживала, и карлик испытывал невообразимые мучения при опорожнении своего мочевого пузыря, пока ему не отсекли воспаленную часть, после чего боли прекратились, а само естество получило размеры, вполне пропорциональные росту карлика, и с тех пор перестало интересовать каких бы то ни было дам.
Как-то король в очередной раз пригласил меня для беседы в свой кабинет. Он собственноручно перенес к себе на стол мой домик, из которого я вынес кресло. Имея почетное право сидеть в присутствии короля, каковое было предоставлено не более чем десяти его приближенным, я стал подробно отвечать на вопросы, которые для каждой такого рода встречи король предварительно заносил на бумагу. Уже наслышанный от меня о том, каким удивительным оплотом всяческих добродетелей является родная мне Англия, на сей раз король решил досконально узнать все об отношениях у нас мужчин и женщин… Тут мне было что сказать королю, и я не преминул воспользоваться предоставившейся мне возможностью. Я, считая Англию фрегатом, возглавляющим флотилию государств, стремящихся к развитию и процветанию, каковые возможны только при разумном государственном устройстве, обрисовал широкую и красноречивую панораму политических и экономических свобод, дарованных моим гражданам, где никто не мог зависеть от другого, иначе как через отношения собственности и труда, где каждый имел право пользоваться плодами своих деяний, получая за них соответствующее вознаграждение. Я рассказал о мануфактурах и банках, о коммерции и торговле, о суверенности права на частную собственность, как залоге успешного экономического развития. Поскольку каждый отдельно взятый гражданин наконец осознал, что теперь его благополучие как и благосостояние зависят исключительно от него самого, это породило предпринимательский пыл, какого прежде нация ещё не знала.
Этот повсеместный энтузиазм, продолжал я, видя нетерпеливое движение бровей короля, не любившего долгих преамбул, натуральным образом сказался и в такой важнейшей сфере общественного устройства, как отношения мужчин и женщин. Гласность и открытость в прежде умалчиваемых областях жизни способствовали возвышению нравов и формированию в связи с этим новых традиций. Например, продолжал я, Англия, будучи родиной газетного дела, очень скоро перенесла на страницы газет, выходящих тысячными тиражами, добрую часть этих отношений. Я самолично встречал в газете «Обсервер» объявления о желании состоятельных мужчин и женщин вступить в законный брак, дабы объединить чувства и состояния. И естественно, вдохновлялся я, что тон отношениям между мужчинами и женщинами задает двор, где царят абсолютно свободные нравы и где каждый свободен настолько, насколько ему хватает фантазии и средств. «Все можно!» – как сказал великий Томас Гоббс. Человек, получивший полную свободу, стряхнувший с себя феодальный прах и вериги средневековых догм, когда одна лишь церковь (я знал, что моя ссылка на бробдингнежскую историю будет по сердцу королю) решала, что можно и чего нельзя, – такой человек стал поистине венцом творения. Отныне человек живет под девизом: «Наслаждайся!», что и есть основная его потребность, вмененная ему самим Творцом; человек рожден для счастья и старается извлечь таковое из всего, с чем сталкивается в быстротекущей жизни. Человек оставил за собой единственную обязанность – быть счастливым! Нетрудно догадаться, что таким образом и вся страна пребывает в эйфории непрерывного обретения счастья. Однако хорошо известно, что нельзя достаточно долго наслаждаться одним и тем же – повторяющееся приедается, поэтому вторым условием счастья стал поиск всего нового. Это несказанным образом разбудило дремлющие в человеке силы, и общество стало стремительно обновляться, обратясь от известного к неизведанному. Семья в прежнем своем узко трактуемом смысле перестала существовать, материально независимые супруги получили одинаковые права на адюльтер, и за званым столом теперь нередко рядом с законными супругами восседают их любовник или любовница… И разве не сам Бог указал человеку направление его чувств своим знаменитым повелением «плодитесь и размножайтесь», я уже не говорю о его «населяйте землю» – что выразилось в беспримерном географическом и военном подвиге моей великой страны, начавшей покорение отсталых стран и народов и в этом смысле отнявшей пальму первенства у Испании и Франции…
«Вдумайтесь, – витийствовал я в порыве вдохновения, которое всегда охватывало меня, стоило мне подумать о моем отечестве, – разве в слове «плодитесь» не содержится в слегка завуалированном виде призыв к наслаждению, – ведь, как каждому прекрасно известно, только совершенно определенные наслаждения и дают искомые плоды, равно как в слове «размножайтесь» разве не содержится сокрытая лишь от непосвященных рекомендация делать это часто, делать это много, делать это с разными дамами или кавалерами, ибо одна женщина, одна супруга – это не бездонный сосуд и редко может принести более десятка детей?»
Король слушал меня чрезвычайно внимательно, но я не мог не отметить, что с какого-то момента в его взгляде возник немой вопрос, который король удерживал в себе лишь для того, чтобы не прерывать вдохновенного потока моего красноречия. Однако, проявив учтивость, я сам прервал свой рассказ, дабы уяснить себе причину недоуменного выражения, написанного на его лице. Его Величество ответствовал, что хотя, по моим заверениям, они и мы и живем в одном подлунном мире, но Творцы у нас, видимо, разные, потому что их Творец ничего подобного не говорил и сказать не мог, так как он всего лишь дух животворящий, и осуществляет свою миссию молча, через Природу, ничего никому не объясняя и, тем более, не предлагая. Возвращаясь же к предыдущему нашему разговору (речь тогда шла о наших прародителях Адаме и Еве), король твердо указал мне на то, что в священных книгах Бробдингнега нет также и догмата о первородном грехе и изгнании из Рая, и он не совсем понимает, что такое грехопадение, и почему наш Творец так сурово наказал наших прародителей, если сам же велел им плодиться и размножаться, на каковые вопросы я, смущенный и одновременно восхищенный проницательностью Его Величества, не нашёл вразумительного ответа, в чем честно и признался. Мне и вправду показалось трудно найти разумную целесообразность в деяниях нашего Творца, поскольку, не вкуси Адам и Ева плода от древа познания и не узнай стыда, то род человеческий до сих ничем бы не отличался от рода животных, которые спариваются, не ведая ни приличий, ни греха. Если же, продолжал король, наш Творец, велев нашим прародителям плодиться и размножаться, затем столь сурово наказал их за то, что они перестали быть наивными, как дети, то, видимо, он просто решил снять с себя всякую ответственность за дальнейшее, образно говоря, переложив вину с больной головы на здоровую. В той ситуации мне ничего более не оставалось, как поаплодировать Его Величеству, что я и сделал со всей искренностью, на какую был только способен.
Однако король выказал живейший интерес к моим словам и просил меня продолжать, и тогда я, желая отдать дань восхищения его мудрому правлению, обнимающему своей заботой, радением и попечительством вверенные ему пределы и всех подданных, их населяющих, стал приводить ему красочные примеры наших собственных монархий, как в ту же эпоху правления Людовика XIV, когда на земле действительно воцарился рай, поскольку понятие не только грехопадения, но и самого греха, напрочь исчезло. На лице короля изображалась целая гамма чувств, как если бы он мысленно сопоставлял нравы и обычаи при Дворе Короля-Солнце с господствовавшими здесь, одни беря на заметку, а другие отвергая. Так я рассказал королю про дворцовых метресс, то есть королевских возлюбленных, многие из которых были столь влиятельны, что, по сути, вершили судьбы государства при попустительстве Людовика XIV, не умевшего ни читать, ни писать, и управлявшего Францией исключительно данными ему от самого Бога талантами… При Короле-Солнце (нужно сказать, что король Бробдингнега каждый раз при упоминании такового титула начинал ревниво хмуриться и кусать нижнюю губу) окончательно утвердились права человеческих чувств и желаний: кто хотел, тот имел полную свободу самовыражения. Раскрепощением чувств были заняты все слои от верха до низа, ибо именно при таком условии можно было создать новую человеческую общность, живущую в мире непрерывного счастья и способную к великим дерзаниям. Чтобы брак не казался пресным, поощрялись измены супругу или супруге, быть любовником считалось доблестью, а любовницей - добродетелью. Во всех европейских столицах, в Лондоне, Париже, в германских княжествах и даже в таких варварских странах, как Московия, существовали многочисленные дома для галантных свиданий, устроенные на любой вкус – от роскошно обставленных особняков до скромных номеров, куда можно было зайти с избранным для свободной любви предметом своего свободного вожделения. То же самое можно было делать и в трактирах или гостиницах, где для гостей всегда была припасены лакомые угощения в виде девиц.
– Бесплатно? – поинтересовался король.
– Нет, конечно, за определенную плату, – ответил я, – ибо теперь все имело свою цену, чем и прекрасна была новая эпоха, утвердившая за каждым из нас право покупать и продавать, хотя бы и самого себя. Мало того, – добавил я, – оные девицы, называвшиеся жрицами любви, кокотками, гризетками и многими другими словами, играли огромную и незаменимую роль в обществе, снимая напряжение у его мужской части, давая выплеск неутолённым мужским страстям, кои в противном случае стали бы искать себе выхода в неподчинении закону, а то и в разбое. Если человек подавляет то, что у него между ног, он становится общественно опасен. Женщина в парадоксальном смысле заменила Бога, и галантное служение ей превратилось в молитву, с тем лишь отличием последней от литургии, что молящийся в нашем случае чаще всего бывал подобающе и недвусмысленно вознагражден. Ответственность за благоволение, то бишь, чувственное приятие, возлагалось на нее же – на то она и провозглашалась божеством. Понятие же разврата, собственно, перестало существовать с тех самых пор, как оный сделался модным и непременным атрибутом галантных отношений. На сцене появился совершенно новый, не представимый ранее тип любителя известного рода приключений, не имеющий ничего общего с рыцарями круглого стола короля Артура, воспевавшими культ Дамы и совершавшими подвиги в её честь, как тот же сэр Ланселот. Нет, более никогда! Рыцарство – нелепый предрассудок, как и самопожертвование! Наслаждение себялюбиво! Носитель новых нравственных устоев, позволяющих безраздельно служить вожделению и сладострастию, тем несомненней имел успех в галантном обществе, чем более числилось за ним совращенных и погубленных душ. Такому развратнику были открыты двери самых изысканных салонов, ему завидовали, ему пытались подражать, ибо он, воплощение всех человеческих пороков, взошёл на Олимп, преодолев все ограничения и условности нормы, что причисляло его к небожителям. Нужно ли уточнять, что пол такого божества мог быть не только мужеским, но и женским.
Далее я обратился мыслью к эпохе Людовика XV[8], который по свидетельству моих современников имел большую любовь к невинным девочкам-подросткам, каковых специально для него выискивали по всей стране и, содержа при дворе, откармливали, дабы придать им соблазнительные формы. Срывать цветы невинности было высшей усладой для короля, и нужно ли добавлять, что его тяга к чистоте и непорочности сама по себе вызывала восхищение, свидетельствуя о его духовном здоровье и нежелании идти на компромисс, каковым всегда является особа женского пола, уже побывавшая в чьих-то объятиях.
Когда король поинтересовался, что же дальше происходило с теми лишенными невинности девочками-подростками, я ответил, что они наверняка чувствовали себя счастливыми, ибо это ли не счастье – получить знаки внимания от самого короля! Далее девочек отправляли в приюты или воспитательные дома или же они сразу начинали самостоятельную жизнь, продавая за деньги свое умение дарить людям телесную радость…
О многом говорил я в тот вечер с королем – о проститутках в лондонском сент-джеймском парке, о карнавалах при дворе, на которых знатные дамы щеголяли лишь в масках, не имея больше ничего на теле, – нетрудно догадаться, что карнавалы эти заканчивались оргиями, по сути, чистилищами, ибо на них высвобождались наши темные инстинкты, делая нас выше, чище и лучше. Рассказывал я и о казнях, которые в отличие от тайных, застенных бробдингнежских, были у нас публичными, гораздо более изощренными и всегда являлись праздником для народа, – на них стекались не только простолюдины, но и знать, покупая за бешеные деньги помещения с окнами и балконами, выходящими на эшафот. Умерщвление жертвы прямо на глазах зрителей вызывало у них эротический экстаз, а знатные дамы, украшавшие собой балконы, начинали трогать чувственные места – свои или своих кавалеров - и тут же отдавались им, одним глазом продолжая завороженно следить за подробностями казни. Ибо давно замечено, что смерть это наслаждение, и, наслаждаясь, мы умираем, чтобы возродиться вновь. Вспомнив о казнях, я вспомнил и о флагеллации и флагеллантах, то есть о возбуждении чувств с помощью розог, – верное средство для многих, пожилых или пресыщенных, кого только боль подвигала к сладострастному наслаждению… Нигде как в Англии бичевание розгами не практиковалось столь широко и охотно. Порку можно было заказать и получить в известных домах терпимости – и для многих мужчин не было ничего желанней, чем понести наказание из нежных женских рук. Быть униженным, растоптанным, стать жертвой палача, картинно корчиться у его ног от терпимой боли, притворно молить о пощаде, – в этом и проявлялась суть верноподданичества, альфа и омега абсолютизма, когда высшим счастьем было раствориться в божественной воле Господина, предаться ему без остатка. Эта игра в унижение тем ещё была утонченно сладострастна, что позволяла выхватить розгу из рук наказующего и в свою очередь стать палачом, услышать те же стенания жертвы и испытать тот же горячий прилив самоутверждения к своим чреслам. Как нам подчас хочется побыть беспомощным ребенком, заголенный зад которого охаживают розгами, и как иногда туманит нам мозг сознание нашей безраздельной родительской правоты! Лучше этой обольстительной обоюдоострой игры в палача и жертву человечество ничего не придумало. Так уж оно устроено…
И если в эпоху Возрождения личность объявлялась высшей добродетелью, то в эпоху Абсолютизма добродетелью же стал полный отказ от себя. И это, поспешил добавить я, самое разумное, что только могло произойти с личностью, ибо право на нее дается только от Бога и лишь Его Величеству.
Рассказ мой занял немало времени и сопровождался примерами из моей собственной жизни, ну, скажем, когда я, гуляя вечером по городскому парку, натыкался тут и там на совокупляющиеся прямо на траве газона парочки, или когда в компании четырех студентов задирал ножки некой замужней даме, согласившейся провести с нами вечер, в то время как её муж пережидал за дверями, не отлучаясь никуда, чтобы заполучить от нас обещанное вознаграждение. Сдержанно смеясь, я вспоминал, как нам удалось оставить его с носом, выпрыгнув в окно.
После этой беседы король впал в задумчивость, и я самодовольно решил, что мне-таки удалось показать ему образцы, к которым он теперь будет стремиться. Если бы я мог предполагать, насколько окажусь прав…
У королевы, как и у дам, известных мне по моей прежней жизни в местах, заселенных такими же человеческими существами, как я сам, были, естественно, и менструации. По прихоти провидения они совпадали с месячными циклами моей возлюбленной Глюмдальклич, что имело как положительные, так и отрицательные стороны, поскольку вынуждало меня воздерживаться в течение двенадцати дней – такова была продолжительность местного женского цикла. В этот период я, надо признаться, весьма приохотившийся к выполнению желаний обеих своих возлюбленных, каковые – желания – в равной степени разделялись и мною, откровенно тосковал и не мог дождаться, когда снова начну оказывать им свои нежные услуги.
Как-то раз в такой период, а именно в день разрешенного семяизвержения, одна из фрейлин королевы с высочайшего дозволения попросила аудиенции со мной – её интересовал женский вопрос в столь фантастически описанной мною Европе. Я не сразу понял, откуда ей известны мои описания Европы, которыми я поделился лишь с самим королем, но я не подал и вида, что слегка озадачен. Глюмдальклич по велению не подозревавшей ничего предосудительного королевы перенесла ящик со мной в апартаменты фрейлины, в правое от покоев королевы крыло дворца, где их хозяйка, уединившись со мной, задала мне несколько вопросов о том да сем, в частности, о нравах в наших женских монастырях, и являются ли они рассадниками женского благочестия, как у них в Бробдингнеге. Довольно рассеянно выслушав мои обстоятельные ответы, она спросила, готов ли я оказать ей услуги, наградой за которые послужит информация, могущая меня заинтересовать, если мне небезразлична моя собственная дальнейшая судьба при Дворе Его Величества. Встревоженный этими намеками и желая получить положительное разъяснение того, что за ними стоит, я, изобразив горячность кавалера, пришедшего на свидание с предметом своего обожания, отвечал, что выполню любую просьбу фрейлины, будь она мне по плечу.
Тогда дама – она была молода и хороша собой, её роскошные белокурые волосы, из которых она за разговором уже успела вынуть шпильки размером с наши фермерские вилы, водопадом лились на её плечи, – а голубые глаза мерцали, как озерца, отражающие безоблачный небосвод – осторожно приблизила меня к своей левой груди, которую она, пока несла меня одной рукой, успела обнажить другой. Сосок у нее был, как каравай, и показался мне настолько восхитительным, что я с большой охотой, демонстрируя свою понятливость относительно пожеланий фрейлины, стал его мять, теребить и покусывать. Мои усилия и старания привели к тому, что спустя какое-то время фрейлина стала жмуриться, вздыхать, открывать рот и тихонько постанывать, в каковом состоянии она вдруг другой, свободной рукой, подняла подол своего платья, под которым оказалась абсолютно обнаженной в той части, к которой, видимо, и намеревалась меня переместить. Глянув поверх задранных нижних юбок на её веющий ароматами свежести ухоженный и пышный газон, я почувствовал, что ничего не имею против.
Оказавшись в преддверии её душистого лона, которое произвело на меня отличное впечатление своей величиной, превосходящей ту, что я промерил собой у королевы, я, не мудрствуя лукаво, смело проник внутрь и стал пробираться на корточках, пригибая шею и поддерживая плечами влажные складки верхнего свода… Я уже пытался описывать свои ощущения от пребывания в оном, но, боюсь, был неточен. Лоно бробдингнежки представляло собой подвешенный горизонтально, скользкий, будто из-под свежей рыбы мешок, по которому было довольно трудно передвигаться, так как он проминался под ногами, подобно рыбацкой сети, натянутой над цирковой ареной, куда падают сорвавшиеся канатоходцы. Скажу только, что если вы не гурман, и не привыкли благоговеть перед распахнутым к вашим услугам женским началом, то лучше вам не оказываться на моем месте. Но я был гурман, к тому же прошедший школу утонченной любви среди крошечных лилипуток, и весь этот влажный всхлип внутренней плоти, взыскующей моих ласк, был мне и желанен, и дорог. Далее моя фрейлина, словно догадавшись, что в её вместилище мне может стать жарко и душно, принялась, двумя пальцами придерживая открытым свое устье, обмахивать его веером, от чего я почувствовал себя и вовсе превосходно.
Полагаю, я доставлял фрейлине немалое удовольствие – её сладострастные стоны доходили издалека до моих ушей, тело вздрагивало, как земля под ударами грома… Решив, что услуги, о которых меня просили, оказаны сполна, я уже решил выбираться наружу, когда услышал доносящиеся оттуда какие-то новые посторонние звуки, по тембру похожие на мужской голос. Эти звуки то усиливались, то слабели, как если бы кто-то взволнованно ходил по помещению, и в ответ им звучал голос фрейлины, полный почтения и преданности. Потом меня вдруг резко тряхнуло, потом ещё раз, и я почувствовал, что выход, к которому я пятился задом, приподнялся, и я стал соскальзывать обратно, как с крутой горки. Не понимая, в чем дело и как подать знак, чтобы моя фрейлина опустила причинное место и позволила мне выползти наружу, я уперся ногами и руками в стенки, и вдруг получил сильный толчок в зад, как если бы меня атаковало какое-то крупное животное. От толчка я отлетел вглубь, но это не спасло меня от следующего довольно полновесного удара, и я с ужасом осознал, что это вовсе не пальцы фрейлины и даже не её веер, которым в любовной игре она, может быть, шутки ради решила проверить крепость моего зада. На корточках я поспешно устремился внутрь, чтобы избежать очередного удара, но оный тут же не преминул последовать, и был такой увесистый, что я отскочил, как мячик. Было ясно, что мою фрейлину кто-то пользует, хотя я и без того уже имел ее. Или она была столь извращена, что хотела принимать у себя двух любовников одновременно, или не смогла кому-то отказать… Но если и так, это было чревато для меня самыми печальными последствиями. Получив ещё один более чем ощутимый удар, я понял, что жить мне осталось недолго. Вокруг было жарко, влажно и невероятно душно, а атаковавший логово зверь, возможно, даже не подозревавший о моем присутствии, был невероятно силен. К счастью, логово это, то есть лоно, оказалось довольно вместительным, и я схоронился в маленьком закутке возле того, что по-латыни называется culvis, то есть шейкой матки, за которую ухватился руками, чтобы не потерять равновесия от сумасшедших толчков, следовавших один за другим. Не знаю, сколько длилось это испытание и сколько раз возле меня в абсолютной темноте, едва не расплющивая о стенку, объявлялся сей зверь, – я уже стал задыхаться, у меня кружилась голова – когда вдруг на меня хлынул горячий, липкий поток с характерным грибным запахом, который я легко бы мог распознать как семенную жидкость, если бы к тому моменту ещё оставался способен к какому бы то ни было распознаванию. Я же, почти теряя сознание, подумал, что это потоп, конец света – во всяком случае, для меня.
Вероятно, спасло меня лишь то, что в следующий момент зверь покинул логово, и донесшийся до меня свежий воздух снаружи наполнил мои склеившиеся легкие. По пояс заляпанный липкой субстанцией, я поначалу не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, но затем ко мне вернулось чувство реальности, придавшее мне сил, и я стал медленно пробираться к выходу. Мои движения не остались незамеченными, и фрейлина, видимо, уже, смирившаяся с моей печальной участью, решившая, что я погиб, теперь, довольно глубоко погрузив в себя пальцы, осторожно извлекла меня на свет Божий.
О, как здесь было хорошо! Это было второе мое рождение! Вот так мы и являемся в сей мир, мокрые, испуганные, покрытые слизью, хватая жабрами легких горький глоток свободы…
Прижав палец к губам, чтобы я молчал, фрейлина незаметным движением опустила меня на пол, я же, скосив глаза, успел в неверном свете свечей разглядеть того, кто теперь недвижно лежал с ней рядом. Этот мужественный профиль нельзя было спутать ни с каким другим, он украшал собой самую крупную здешнюю золотую монету весом в двадцать фунтов, – это был король собственной персоной.
Забравшись в свой домик, которого король, судя по всему, не заметил, иначе Его Величество едва ли стал бы действовать столь предосудительно, будь даже и воспламенен моими рассказами о метрессах, я как мог привел себя в порядок и ничего так не желал, как поскорей исчезнуть с глаз. Но только когда король заснул, моя фрейлина неслышно поднялась с любовного одра и, на цыпочках прокравшись к моему стоящему в углу домику, вынесла его за дверь и за угол. Тут в коридоре я и был оставлен ночевать. По полу гуляли сквозняки, и мне пришлось наглухо закрыть не только дверь и окна, но и ставни, чтобы не выстудить свою комнату. Я полагал, что фрейлина каким-то образом даст знать Глюмдальклич, чтобы та меня забрала, но так и не дождавшись своей доброй попечительницы, забылся тревожным сном.
В середине ночи меня разбудили толчки, сотрясавшие мой домик, и спросонья я подумал, что все ещё нахожусь в лоне фрейлины, и испытания мои продолжаются, но страшный скрежет, доносящийся снаружи, заставил меня подумать совсем о другом… Осторожно приоткрыв ставню, я увидел в мрачном свете ночных светильников спины трех огромных крыс. Не знаю, зачем я им понадобился – как лакомое блюдо я значительно уступал пищевым отходам, которые в огромном количестве выбрасывались каждый вечер, разве что был живой, двигал ногами и руками, да к тому же от меня теперь исходил несвойственный мне запах женского лона и чужого семени. Допускаю, что вкус этих крыс был настолько извращен изобилием разнообразного съестного, что они приняли меня за какой-нибудь новый экзотический деликатес. Но если вспомнить эпизод в спальне фермера, где мне в первый же день пришлось дать смертный бой этим тварям, то в озабоченной целеустремленности, с которой они таскали туда-сюда мой домик, грызя его углы, было что-то неподдающееся простому толкованию. Допускаю, что это была жажда мести… А может, они, владычицы подпольного мира, через свои тайные ходы сообщались с моим Старым Светом, и теперь хотели донести до меня какое-то послание оттуда, – скажем холодок из подвала в моем доме в Ноттингемпшире, где я хранил французские вина, или запах капель валерьяны из аптечного ящика, которыми пытается успокоить себя на ночь моя безутешная жена… Или же они распознали во мне свое Высшее начало и скреблись, прогрызая деревянный цоколь моего домика, чтобы возвести на подпольный престол, объявить королем крыс? Может, стоит мне только распахнуть дверь, и они, водрузив меня на инкрустированные золотом и драгоценными камнями носилки, тайными ходами отнесут на мою милую родину… Но мы живем в невежестве и порой не замечаем руки провидения, протянутой нам… Нет, это я явно бредил от ужаса, усталости и недосыпа и все-таки, хотя в моем бедственном положении трудно было отличить правду от фантазий воспаленного мозга, мне хватило здравого смысла, чтобы более не высовываться, а, вооружившись кортиком (новую шпагу мне так и не выковывали), ждать последнего боя…
Испытание это длилось чуть ли не до утра, когда я впал в забытье, а утром челядь, разбудившая меня, никак не могла взять в толк, каким образом мой домик оказался на кухне за бочкой с помоями, где нашли огромную дыру, в которую он не пролез лишь по той причине, что зацепился одним углом, каковой был настолько обгрызен, что внутри, отодрав мягкую ткань обоев, я обнаружил отверстие с мою голову величиной и кучу древесных опилок. Будь ночь подлиннее, и моя жизнь стала бы короче…
Ни тогда, ни позже я так и не узнал, что имела в виду фрейлина, обещая сообщить мне некую тайну, касающуюся сугубо моих интересов, – скорее всего, это была лишь приманка, на какую легко клюет каждый из нас, поскольку ничто в жизни не заботит нас в такой мере, как собственное благополучие, и мы становимся до глупости наивны и доверчивы, вверяясь тем, кто делает вид, что знает о нас больше, чем мы сами. Однако случай этот имел для меня последствия, обратные моим надеждам и оправдавшие мои худшие опасения, о чем читатель в свое время непременно узнает.
Как показали дальнейшие события, интерес ко мне проявляли не только крысы (о местных насекомых читатель уже знает), но и другие существа животного мира, в частности сплекноки, на мое разительное сходство с которыми мне не раз указывали при Дворе. Встречу со сплекноками я никогда не забуду.
Дальним своим концом, по другую сторону от беседки, в которой я однажды наблюдал непристойное зрелище, сад выходил к большому озеру, по которому придворные катались на лодках, каждая размером с наш фрегат. Иногда на прогулку брали и меня. Противоположный берег этого озера, к которому мы в тот раз направились, был песчаный, возвышающийся над поверхностью воды на три ярда, и в нем кое-где виднелись норы, выкопанные, как мне сказали, сплекноками, то есть в переводе с бробдингнежского – голопузиками. Существа эти, пояснил мне один из придворных, сопровождавших нас с Глюмдальклич, были безвредными и питались подножным кормом да всякими там насекомыми и червячками. Увидев, как вытянулось при этих словах мое лицо, он засмеялся. Сплекноки вели ночной образ жизни и редко попадались в руки, поскольку были пугливыми и весьма юркими, хотя в основном прямоходящими и, что интересно, не имели хвоста. Признаться, меня давно смущало сравнение с ними, и я хотел на них взглянуть хотя бы одним глазом. И вот – такая возможность мне представилась.
Естественно, я скрыл свои намерения даже от Глюмдальклич, которая старалась не обращать внимания на нашего кичливого спутника, желавшего меня унизить, дабы выглядеть предпочтительней в глазах моей нянюшки, ему явно приглянувшейся. Когда мы наконец высадились на песчаный берег, придворные затеяли игру в жмурки, которая всем нравилась и у меня на родине, поскольку давала возможность не только поймать за платье ускользающую слегка вспотевшую даму или разящего мускусом кавалера, но и хорошенько их пощупать в разных местах, чтобы с завязанными глазами определить, кто есть кто. Я же, воспользовавшись тем, что очередь водить выпала Глюмдальклич и что у нее на глазах темная повязка, поспешил к ближайшей пещере и осторожно заглянул внутрь.
День близился к вечеру, солнце стояло уже низко, и потому косые лучи проникали в глубину, освещая неровные стены коридора, из которого веяло приятным теплом. Не испытывая ни малейшего страха, готовый встретиться с существами, столь напоминавшими по словам аборигенов меня самого, я смело пошёл навстречу неизвестному, полагая, что это, возможно, мои одичавшие сородичи, каким-то образом оказавшиеся здесь ранее меня и укрывшиеся от великанов, дабы жить своей собственной, пусть и полудикой, жизнью. У меня мелькнула мысль, что, может быть, мне стоит присоединиться к ним и провести остаток жизни в естественности и простоте, в непосредственной близости с самой природой - опроститься не только в привычках, одежде и образе жизни, но и - главное – в мыслях и чувствах, стать естественным существом матери-природы, от коей человек давно отделился из-за ошибочного представления о себе самом, как её высшем достижении, её конечной цели.
И вот без страха, хотя и с трепетом в сердце, я шёл по этому коридору, предполагая встречу с равными себе. В какой-то момент я почувствовал, что за мной следят, но не остановился, а медленно продолжал движение, решив: будь, что будет. Я не хотел всю оставшуюся жизнь жалеть о том, что упустил свою, может быть, истинную судьбу.
Я сделал ещё несколько шагов, вглядываясь в темноту, начинавшуюся за поворотом коридора, куда луч солнца не дотягивался, и негромко, но внятно, со свойственной мне учтивостью, стал повторять на всех семи известных мне языках одну и ту же фразу: «Я приветствую вас!». Когда я повторял её уже в пятый раз, а именно на итальянском, из тьмы раздался визг, от которого у меня все внутри похолодело, а по спине побежали мурашки, и не успел я опомниться, как в лицо мне ударила едкая вонючая жидкость, которую по запаху можно было бы сравнить разве что с запахом струи ранее упоминавшегося мной заморского животного под названием скунс, отстреливающегося от преследующих его врагов. Я потерял сознание, а когда очнулся, была ночь. Я определил это по мертвенному лунному свету, едва освещавшему дальний конец коридора. Я лежал на чем-то теплом и мягком, напоминавшем птичий пух. Болела голова, но руки и ноги у меня были целы, да и глаза, привыкнув к темноте, стали различать какие-то большие странные предметы. Думаю, скорее всего, это были валуны, но в тот момент, протянув руку и ощупав их, я решил, что это глиняные сосуды, в каких наши предки хранили зерно. Сердце мое дрогнуло – может, я и вправду попал к своим, только отставшим от меня в своем историческом развитии или просто одичавшим? Найду ли я, непрошеный гость, общий язык с ними? А может, это племя каннибалов, и меня зажарят на вертеле и съедят? Нет, если в этих огромных сосудах действительно хранится зерно, то я попал к народу земледельческой культуры и смерть мне не грозит. Но едва я стал шевелиться, обнаруживая признаки жизни, как некое существо, издав уже знакомый мне визг и схватив меня за ногу крепкой жесткой хваткой, поволокло меня по коридору наружу – помню, с ужасом в душе я насчитал всего четыре вцепившихся в мою лодыжку пальца.
Насколько мне позволяла видеть полутьма, царившая в коридоре, и неровный круг лунного света, венчавший выход из него, существо это, с меня ростом, передвигалось на двух ногах, и было весьма сильным, поскольку легко тащило меня за собой. Глаза его светились во тьме. «Послушайте, – бороздя затылком холодный песок, крикнул я по-арабски, поскольку с перепугу забыл свой родной язык, – послушайте, я человеческое существо, как и вы, я приветствую вас, я пришёл с добрыми намерениями и не причиню вам никакого вреда». Но в следующий момент существо это, ещё раз грозно взвизгнув, вышвырнуло меня из норы, да с такой силой, что я покатился по откосу и свалился в воду.
Это было и хорошо и плохо. Вода омыла мое лицо и вместе с отвратительным запахом пропала головная боль. Но я промок насквозь и, выбравшись на берег, почувствовал, что начинаю замерзать. В небе стояла полная луна, по гладкой поверхности озера, прямо до того места, где я скорчился на берегу, тянулась лунная дорожка. Было тихо, если не считать хора лягушек издалека, отчасти напоминавшего мне пение псалмов. Пение это время от времени перебивали резкие повизгивания – скорее всего, это перекликались встревоженные сплекноки. Кто же они такие? Судя по тому, что на руках у них было по четыре пальца, они не могли быть людьми. Но могло случиться и так, что в страхе я просто не определил пятый палец, а может, он был утрачен этим сплекноком-земледельцем или охотником во время жатвы или жестокой схватки с хищным зверем…
Тем временем я все больше и больше дрожал от холода. Мне пришлось снять промокшую одежду, так как испарения влаги, как известно, только отнимают у тела присущее ему тепло. Раздевшись донага, я отжал, как мог, промокшие предметы своего туалета и развесил их для просушки на близлежащих стеблях травы. Надо было немедленно найти теплый уголок, ибо, с детства подверженный простудам, я мог тут легко схватить горячку и умереть, не имея под рукой никаких лекарств. Поразмыслив, я решил, что не все пещеры заняты, наверняка тут найдутся и брошенные, непригодные для жилья, которые тем не менее вполне могли бы приютить меня и дать мне хотя бы толику тепла. Выбора у меня не было. «Будь, что будет», – снова сказал я себе, добрался до первой попавшейся пещеры и, втянув голову в плечи, вошёл внутрь.
Обняв себя руками, сотрясаясь от ночного холода всем своим обнаженным телом, я не сделал и двадцати шагов, как впереди, в темноте, откуда веяло желанным теплом, я услышал какое-то шевеление и увидел две мерцающие точки глаз, светящиеся в темноте наподобие кошачьих. Могли ли мои соплеменники иметь такие глаза? Я повернул обратно, намереваясь бежать, но существо с горящими глазами (лица я не видел) уже настигло меня и, цепко ухватив за локоть, потянуло за собой внутрь. Да – потянуло, а не поволокло. И хватка показалась мне не сердитой, а скорее ласковой и вежливо-предупредительной, словно я был здесь желанным гостем. В подтверждение моей догадки тут же я услышал и ласковое урчание, подобное воркованию влюбленного голубя, ухаживающего за своей пернатой подругой. Похоже было, что меня здесь ждали. От волнения я в тот момент так и не отметил, сколько пальцев держит меня за локоть, а покорно пошёл в глубину пещеры, в спасительное тепло. Меня, конечно, подмывало хотя бы на ощупь определить, с кем на сей раз я имею дело, но я боялся показаться грубияном и невеждой, неделикатным мужланом, к тому же я не знал, как отреагирует на мое бесцеремонное прикосновение тот, кто вел меня в свою обитель. Только знание церемоний позволяет нам не попадать впросак, избегать грубейших ошибок и держаться в рамках приличия, обеспечивая себе таким образом надлежащую безопасность.
Ступало это существо большими шагами, и мне приходилось чуть ли не бежать за ним. Ноги у него были явно длиннее моих, но звук голоса, хотя в нем я и не различал членораздельной человеческой речи, был приятен и не сулил ничего страшного.
Так, ведомый своим новым неизвестным хозяином или хозяйкой, я передвигался быстрым шагом, пока не споткнулся о кучу теплых перьев и не упал на нее, успев выбросить перед собой руки. Это, видимо, и было логово, а может, и ложе обладателя пещеры. Судя по нашим нескольким случайным соприкосновениям, кожа у него была теплой и гладкой и очень похожей на человеческую, хотя я, несмотря на свои обширные познания естествоиспытателя, не мог с точностью определить, кто передо мной – одичавший человек, потерявший способность к речи, или просто некий дикий «голопузик», то есть сплекнок. Но что в этом понимали здешние великаны, если поначалу они и меня причисляли к прямоходящему зверьку… Разве не могло быть так, что сюда, на этот берег, в прошлом уже ступала нога подобного мне человека?
Между тем, гладкое теплое существо, настойчиво притянувшее меня к своему мягкому ложу, на котором я уже готов был в благодарности распластаться и смежить усталые веки, чего-то явно от меня хотело. Нежно урча, оно оказалось впереди, так что мои руки невольно коснулись его выпуклых лядвей, которые, ощутив прикосновение, вздрогнули и, быстро попятившись, прижались к моим чреслам, даже подсели под меня… Было абсолютно темно и тепло, и мне вдруг вспомнились мои первые брачные ночи, когда я был так молод и горяч, что одного легкого соприкосновения наших с женой тел было достаточно, чтобы почувствовать себя во всеоружии желания и возможности его осуществить. Вот и теперь я, не успев ещё толком разобраться в своих чувствах, ощутил прилив сил к чреслам и поднятие своего обнаженного естества. Передо мной, точнее, подо мной, филейными частями ко мне находилась женщина-дикарка, нежными мурлыканьями приглашающая меня к соитию. Господи, благодарю тебя за милость твою! Слезы благодарности, восхищения и восторга омыли мою душу – и, не мудрствуя лукаво, я смело принял предложенные мне дары. Какое имеет значение, что передо мной дикарка – она была женщиной, женщиной моих размеров, моих естественных мужеских амбиций, это ли не подарок судьбы, осуществляющей свою миссию через волю Творца! Я был счастлив отдать свои силы этой незнакомке, сладострастие переполняло меня, и когда я наконец излил, исторг из себя свой высокий восторг, я был на небесах от счастья. Окончив свою миссию, я, не вынимая естества, которое ещё оставалось большим и сильным, тут же заснул прямо поверх своей чувстводарительницы, поскольку на ней мне было тепло и покойно.
Когда я проснулся, был день – я это сразу понял по количеству света, наполнявшему дальний коридор. Моей новой подруги рядом не было. Изучив место, где я провел ночь, я пришёл к выводу, что им не заканчивается довольно узкий коридор, – пещера, в которой я находился, сужалась в сторону, противоположную входу, и, похоже, имела ещё один выход. Послюнив палец и повертев им, я ощутил дуновение тепла из неизведанной мной части подземелья. Меня очень тянуло направить туда свои стопы, видимо, где-то там дальше и отдыхала теперь моя гостеприимная хозяйка, однако я не сделал этого из опасения потревожить её сон. Судя по всему, сплекноки действительно вели ночной образ жизни, - если это какие-то древние люди с дикими нравами, то мне тем более надлежало считаться с ними.
Радость и вместе с тем какая-то новая тревога овладели моим сердцем. Непонятным мне образом я почувствовал, что рядом с этими, видимо, родственными мне существами, жизнь моя не будет легче, чем среди великанов, а, может быть, даже наоборот – гораздо тяжелее. Я вспомнил ту бесцеремонную жестокость, с которой вышвырнул меня из своего жилища первый попавшийся мне сплекнок, скорее всего, мужчина, самец, может быть, даже вожак, отчего он и был столь агрессивен. Кроме того, если сплекноки жили отдельно от бробдингнежцев, точнее, ютились в песчаном откосе берега по соседству, то это могло означать, что они по каким-то причинам не были приняты за разумных существ, более того - отвергнуты, при том что бробдингнежцы прекрасно знали об их существовании. Все эти вопросы роем кружились у меня в голове, когда я, голый, вышел из пещеры и оказался на солнечном песчаном берегу перед обширным озером, на дальнем, еле видимом за утренней дымкой, краю которого обозначались верхушки деревьев королевского сада. Не меньше мили отделяло меня от того берега, и я прекрасно понимал, что вплавь я туда никогда не доберусь. Нужна была лодка. Но нужна ли она была мне на самом деле? Не лучше ли было мне остаться здесь и разделить вместе со сплекноками их отшельническую судьбу, став, как и они, свободным сыном природы?
Я спустился к воде и с удовольствием выкупался, даже немного поплавал вдоль берега. Вода была на удивление прозрачной, и я видел на дне каждый камешек и каждую ракушку. Моя одежда висела на стеблях травы, где я вчера её оставил, она уже успела просохнуть, и я с удовольствием оделся во все теплое и чистое.
Возле пещер было тихо, никто из их удивительных обитателей не показывался на свет, а о том, что почти в каждой пещере кто-то есть, говорили многочисленные следы, испещрившие песок. На отдельных следах я отчетливо разглядел отпечаток пяти пальцев… Полный уважения к предполагаемой мною ночной жизни этого племени и ни в коем случае не желая нарушать её течение, я после некоторых раздумий решил покинуть берег и подняться на поляну, на которой вчера играли в жмурки мои великаны. За поляной начинался подлесок, дальше стеной стоял лес. Я ещё ни разу не был в бробдингнежском лесу и, откровенно сказать, туда и не стремился. Я знал, что там водятся дикие звери, похожие на наших, но только гораздо крупнее, и встреча с ними не сулила мне ничего хорошего. Поэтому я благоразумно остался на поляне с кое-где вытоптанной травой. Мне хотелось позавтракать, так как со вчерашнего вечера у меня во рту не было и маковой росинки. Бродя в поисках хотя бы какой-нибудь Ягодины, той же земляники, которая здесь была с тыкву, я наткнулся на голубую атласную ленточку и вспомнил, что точно такая же ленточка украшала вчера волосы моей Глюмдальклич.
При мысли о моей нянюшке мне стало горько и одиноко. Неужели я больше никогда её не увижу? Неужели до конца дней своих я буду жить здесь в пещере с дикаркой, у которой и лица-то ещё не рассмотрел? Неужели я должен буду перейти на ночной образ жизни и подножный корм, довольствуясь ягодами и кореньями, и у меня тоже начнут светиться во тьме глаза?
Вдруг остро и четко, как всегда бывало, когда судьба жестко ставила меня перед выбором, когда я должен был принимать одно-единственное решение, от которого зависела моя будущность, я понял, что хочу вернуться к великанам, что здесь мне не жить и более того - не выжить. Недолго думая, я насобирал сухих стеблей травы, отыскал на берегу два подходящих куска кремня и после многочисленных неудачных попыток все же высек наконец искру и зажег сухую траву. Я рассчитал, что если разожгу костер и буду его поддерживать, то дым обязательно заметят с дальнего берега, догадаются, что это я, и придут на помощь. Великаны наверняка решили, что я или утонул, или меня украл то ли какой-нибудь зверь, то ли птица.
На костер у меня ушёл весь день, но никаких признаков интереса или движения на том берегу я так и не заметил. Похоже, никто там так и не появился. Впрочем, отсюда мне было мало что видно, а к вечеру пошёл дождь, погасив огонь, и я, крайне расстроенный и огорченный, вернулся в логово. Там было по-прежнему тихо, постель или гнездо из перьев пусто, и я, голодный и злой на весь мир, лег и забылся тревожным сном. В желудке у меня урчало.
Проснулся я в кромешной темноте оттого, что кто-то меня тронул. Это была она, моя дикарка. Она мурлыкала и терлась о меня своим телом, намекая на продолжение того, чем мы занимались вчера. Откуда она взялась? Из того дальнего хода пещеры, неизведанного мной? Стараясь не сердить её и не вызывать её разочарования, я примерно на тех же тонах, что и она, но довольно жалобно, промурлыкал в ответ, как бы давая понять, что я не против, но на голодный желудок заниматься мне этим не с руки, да и боюсь, что не получится.
В ответ я услышал более чем удивленное верещание, и моя подруга тут же скрылась. Почти сразу же она вернулась обратно и стала совать мне в рот что-то холодное и скользкое – вкус этой скользкой пищи был необычный, слегка напоминающий вкус устриц, только пожирнее. Решив, что отказываться не в моих интересах, к тому же чувствуя, как в желудке начинаются голодные спазмы, я послушно сжевал все принесенное мне угощение. Это вполне могла быть какая-нибудь саранча, то бишь акриды, но я успешно преодолел тошноту, вовремя вспомнив, что ими питался в пустыне и Иоанн Креститель, после чего я почувствовал, что не только сыт, но и что мое естество само по себе, даже без призыва, наполняется волшебной силой. Видимо, то, чем меня накормили, обладало особым качеством, поскольку я снова ответил на недвусмысленный призыв, и мой ответ теперь, в мою вторую ночь среди сплекноков, походил на исполнение супружеского долга… На сей раз после совершения совокупительного обряда я твердо вознамерился вступить в диалог с моей ночной возлюбленной, для чего использовал не только знание всех семи языков, но и полузнание ещё девяти, в каждом из которых я помнил хотя бы несколько слов или выражений. Я даже произнес не раз слышанное мною в бристольском порту от купцов Московии: «davai-davai, bistro-bistro!», однако моя новая подруга тут же высвободилась из-под меня и ускакала, даже, как мне показалось, не поднявшись с четырех конечностей на две, как это иногда, дурачась, делаем и мы, просвещенные люди. Это было несомненным свидетельством того, что она обладала чувством юмора, каковое напрочь отсутствует у животных.
Еще двое суток прошло точно так же, как первые: днем я выбирался наружу и безрезультатно жег костер, а ночью в кромешной тьме являлась моя подруга, кормила меня какой-то вяленой гадостью, но тем не менее утолявшей голод и пробуждавшей совершенно определенные желания. Сопряжение наших тел происходило по-прежнему без слов, под урчание. Я поймал себя на том, что теперь тоже урчу по поводу и без повода. Ещё немного и я начну забывать человеческий язык… За все это время больше никто не появлялся в нашей пещере, и мой страх, что придет самец-хозяин и прогонит меня, постепенно испарился. На роль хозяина и мужа, видимо, эта дикарка избрала меня.
На четвертую ночь я решил во что бы то ни стало разглядеть свою возлюбленную, но так чтобы не рассердить ее. Поэтому, когда она снова прыжками (видимо, от радости) ускакала от меня, я, крадучись, пустился следом… Выяснив, где её опочивальня, я вернулся к выходу – там у меня было заготовлено несколько непогасших углей от костра, который я без всякого толка поддерживал на поляне. И вот с тлеющей головешкой в одной руке и с пучком сухой травы в другой я прокрался к своей возлюбленной, резонно полагая, что она спит, так как нигде во тьме пещеры не было видно зеленоватых огней её глаз. Услышав её дыхание, я подошёл совсем близко и, поднеся пучок травы к угольку, дунул что было силы. Трава вспыхнула, и яркое пламя осветило мне все вокруг. Кошмар увиденного до сих пор холодит мне сердце и заставляет его сжиматься в предсмертной тоске. На животе лицом ко мне с закрытыми глазами лежало чудовище. Тело у него было, как у голой белой лягушки, а голова – как у ящерицы. Она и была ящерицей, только, видимо, теплокровной.
 |
В ужасе я закричал и бросился прочь. Чудовище немедленно открыло глаза и помчалось за мной, не удосужившись встать на задние лапы, которые, как я успел разглядеть в короткой вспышке огня, были у него очень похожи на человеческие…
Чувствуя, что мне приходит конец, я обернулся и выставил навстречу летевшим на меня зеленым глазам раскаленный кончик головешки. Это и спасло мне жизнь, ибо я угодил прямо в раскрытый глаз чудовища, и оно, заверещав от боли, отстало от меня.
Не помню, как я выкатился из пещеры, как упал в воду, как поплыл, как выбрался на огромный лист кувшинки, чтобы передохнуть. Зато хорошо помню, как сидя на нем и трясясь от только что пережитых страстей, я увидел нечто невообразимое – в мертвенном свете огромной луны, уже пошедшей на ущерб, из черных дыр пещер, усеявших пологий склон берега, выскакивали, кто на двух конечностях, кто на четырех, ящерицы с горящими зелеными глазами и мчались к берегу. Я надеялся, что они не смогут доплыть до меня, и это было так – они не поплыли: громко вереща, видимо, оповещённые своей раненой соплеменницей, они помчались навстречу мне поверх воды, так стремительно перебирая задними ногами, что она держала их не хуже тверди.
Я понял, что через несколько мгновений буду растерзан на мелкие кусочки. Умирать мне не хотелось, тем более от зубов этих ужасных тварей, которых я по своей мечтательной наивности и ностальгии принял за человекоподобных существ. К счастью – и в этом был шанс на спасение – в нескольких ярдах от меня начинались заросли камыша. Недолго думая, я снова бросился в воду и, ухватившись за самую толстую камышину, подобно смельчаку-лихачу, который одолевает гладкий столб на ярмарочной площади, стремительно полез вверх, словно там, наверху, меня ждал бог знает какой приз. Собственно, так оно и было – призом была моя собственная жизнь.
Спустя несколько мгновений я был уже на самой макушке толстого стебля, увенчанного огромной камышовой свечкой. Камыш здесь рос так густо, что мне не стоило большого труда подтянуть к себе ещё два стебля, которые я успел связать между собой для крепости всего сооружения, прежде чем внизу подо мной оказалась верещавшая орава разгневанных сплекноков, жаждущих моей крови. Да, признаю, сплекноки довольно высокоразвитые существа здешней фауны и отчасти они действительно напоминают человечков, вроде меня, они даже умели то, что не умеем мы – бегать по воде, аки посуху, но они не умели другого - взбираться по ровным гладким столбам: для этого их четырехпалые передние и пятипалые задние конечности не были приспособлены. Так я и просидел, ни жив ни мертв, на своем высотном сооружении из трех гибких опор до самого утра, пока наконец эта злобная свора не ринулась к берегу, прячась от первых лучей солнца подобно нетопырям.
От усталости и крайней опустошенности чувств я задремал, а когда открыл глаза, то увидел неподалеку от себя огромный барк, точнее – лодку, на которой в сопровождении двух гребцов сидела моя Глюмдальклич. Оказалось, что мои усилия по поддержанию костра не были напрасны – дым накануне все же заметили и решили выяснить его причину. Так я был спасен ещё раз.
Одно из величайших затруднений в Бробдингнеге, которое я постоянно испытывал, заключалось в том, что, проявляя желание или намерение, я только в редких случаях мог самостоятельно их осуществить – отправление естественных надобностей тут не в счет, ибо проходило для моих великанов почти незаметно. Но чуть ли не каждое мое волеизъявление, дабы быть исполненным мною же, тем не менее требовало участия посторонних лиц, будь то моя Глюмдальклич, которой приходилось день за днем, час за часом отдавать себя самоотверженным заботам о таком существе, как я, пусть даже крошечном и безобидном. Я был и продолжал оставаться совершенно беспомощным в смысле овладения здешним пространством и предметами, которые его заполняли. Меня, как маленького капризного ребенка, надо было постоянно поднимать или опускать, любое самостоятельное, но неосторожное движение грозило мне падением и членовредительством, если не гибелью, – я тут и там мог разбиться или свернуть себе шею, на меня то и дело могли наступить, сесть, не заметив, на меня могли случайно чихнуть, не отдавая себе отчета, что такой вихрь собьет меня с ног… Даже безмозглая мартышка, однажды выкравшая меня из домика и таскавшая по крышам, вообразив, что я её младенец, могла стать распорядителем моей судьбы. Чувство постоянной зависимости от других и отсутствие перспективы переломить ситуацию – не мог же я вдруг вырасти – было особенно горьким и нестерпимым. Поистине, когда от тебя ничего, абсолютно ничего не зависит, ты становишься буквально игрушкой в руках мартышки-судьбы, щепкой в водовороте обстоятельств, пылинкой, взметнувшейся в воздух от взмаха веника-случая. С одной стороны, у меня было все – кров, одежда, хорошая еда, даже слуги (ибо иначе как своими добрыми заботливыми слугами, ежедневно одаряющими меня вниманием, я считал не только Глюмдальклич, но и, в некотором роде, короля с королевой), однако, с другой стороны, все эти несомненные блага не являлись обретенными в результате моих собственных усилий и талантов, а были дарованы мне исключительно благодаря тому, что я был крошкой-уродцем, всего лишь «игрой природы» по заключению здешних ученых мужей. Я был не лучше выставленного в зверинце редкого существа неясного вида и происхождения, тогда как на самом деле являлся нормальным живым человеком со своими мыслями, чувствами и желаниями – и чем дольше я здесь жил, тем яснее начинал понимать, что для человека даже золотая клетка – это тюрьма и пытка, и мало таких, кто выдержит подобное испытание без повреждения ума. Ощущение собственной моей никчемности и ничтожности душило меня и если бы не любовь-дружба Глюмдальклич, которая понимала меня лучше прочих, хотя зачастую, будучи малообразованной, и не могла поддержать со мной разговор на серьезные темы о вечных вопросах бытия и смысла жизни, то я бы лишился рассудка или повесился бы на одном из шёлковых шнурков бахромы, свисавшей с покрывала королевы в её будуаре, куда она приглашала меня для любовных утех.
К горестным мыслям этим в очередной раз подтолкнул меня один случай, произошедший со мной во время плавания под парусом в огромном корыте длиной в триста ярдов, которое, как помнит читатель, предоставили мне в полное распоряжение. Возле меня в тот раз была одна Глюмдальклич, но кто-то позвал ее. Она же, полагая, что моей жизни и безопасности ничто не грозит, покинула меня, прежде чем я успел выразить свое мнение на сей счет. Нужно сказать, что в последнее время она по любому поводу все чаще оставляла меня одного, словно стала тяготиться моим обществом, что вполне объяснимо, ибо бремя постоянной ответственности действительно опустошает душу, чьи резервы небезграничны. Даже родная мать, день и ночь пестующая своего младенца, чувствует порой усталость – однако мне, как и младенцу, остаться без неусыпного и многотщательного попечительства было смерти подобно.
И вот, едва я остался один, как со двора в помещение, где стояло мое корыто, вбежала та самая охотничья собака, которая однажды уже таскала меня, словно дичь, к хозяину, схватив зубами за одежду. На дворе было жарко, и собака, высунув язык, не раздумывая, бросилась в корыто, чтобы освежиться. Это произошло так неожиданно, что я едва успел ухватиться за мачту, и вовремя, поскольку в следующий же момент волна, поднятая глупой тварью, наверняка смыла бы меня за борт, а так лишь окатила с ног до головы, испортив мой капитанский мундир, который специально для плаваний сшили мне по велению королевы. Я было подумал, что счастливо отделался, поскольку собака, барахтаясь в воде, на сей раз не обращала на меня никакого внимания, но тут из-за двери раздался голос хозяина, звавший ее, и она, замахав хвостом, бросилась вон из корыта. Все бы хорошо, но один из взмахов её длинного и, как выяснилось, довольно твердого хвоста пришёлся по моей грот-мачте, – та тут же переломилась, судно опрокинулось, и я оказался в воде.
Я был неплохой пловец, но плыть мне было некуда – до верхнего края корыта я все равно бы не дотянулся, но даже дотянувшись и вскарабкавшись на него, все равно не смог бы спрыгнуть, поскольку до пола было никак не менее восемнадцати футов. В вышедшей в свет книге, видимо, по вине наборщика выпала единица, и глубина корыта оказалась на целых десять футов преуменьшенной. Мне пришлось держаться на поверхности, уцепившись за свое, к счастью, не затонувшее суденышко, пока не вернулась Глюмдальклич. Вода в корыте была довольно прохладной, родниковой, и эти четверть часа, проведенные в отчаянном ожидании моей нянюшки, стоили мне жесточайшей простуды, от которой я нескоро оправился…
Живя на чужбине, в абсолютном физическом ничтожестве, как если бы действительно в клетке, пусть даже и золотой, я, разумное человеческое существо, понял одну весьма важную вещь – ничто извне, даже сам Бог, не может заменить нам наше собственное «я», никто не может сделать нам хорошо, кроме нас самих, ибо сделанное за нас и для нас «хорошо» таковым в наших глазах не является и причиняет нам такие же душевные терзания, как и то, что «нехорошо». То есть никто не может сделать нас счастливыми без нашего участия, ибо счастье это пройденный путь и чувство удовлетворения от преодоленных на этом пути препятствий. Прав был великий философ сэр Джон Локк: наше счастье, как, впрочем, и несчастье – дело наших собственных рук. Душа – большая индивидуалка, и не может жить подачками с чужого стола. И ещё я сделал весьма важный для себя вывод, каковой не мог сделать прежде, живя в иных обстоятельствах, и заключался он в том, что государство, на попечении которого находятся его граждане, не должно вмешиваться в их жизнь больше, чем они сами то позволяют. Государство в лице своего государя должно защищать свои границы и своих граждан от вторжения тех воинственных народов, которые хотели бы сделать этих граждан своими рабами, государство должно поддерживать торговлю, ремесла и такие важные для воспитания духа нации области, как образование и культура. Государство должно выступать меценатом благих порывов и начинаний своих граждан, но оно обязано знать свои рамки, ибо оно никого не может сделать счастливым, а может лишь создать для этого предпосылки, главная из которых – терпимость и уважение к личной жизни каждого. Я понял, что насилие, даже если оно якобы во благо, есть величайшее несчастье для любого человека, ибо подрывает достоинство личности и порождает послушного раба. Быть же рабом человеку противопоказано, поскольку рабство разрушает сознание. Рано или поздно истинная природа человеческого все равно берет верх, и раб восстает. Этим человек и отличается от домашнего животного, которое покорно переносит свое рабство, зачастую даже хочет его и довольствуется им за даровой харч. В Лилипутии при всех ограничениях, каким я там подвергался, я чувствовал себя совсем иначе – демиургом, вершителем отдельных судеб и истории в целом, – пожалуй, никогда больше, ни до, ни после, я не был столь полноценным, я был велик, я уважал себя, и мое «я» было во столько же раз больше меня самого, во сколько теперь оно было меньше меня же, ничтожества и пигмея. Оказывается, самосознание, самоощущение своего «я» есть величина относительная, как сказали бы математики, и впрямую соотносится со средой обитания, точнее – с масштабом твоей личности в ней.
Как-то раз в беседе с королем я рассказывал ему о любви и об отображении её в живописи и скульптуре, видах искусств, которых, сколько я мог заметить, не было в Бробдингнеге. Не скажу, что это было связано здесь с религиозной верой, как, скажем, в мусульманском мире, где при запрете на изображение Аллаха, а с ним и людей, развилось лишь искусство прихотливого узора. Нет, просто изобразительный гений у бробдингнежцев вообще отсутствовал, и, кроме музыки, у них ничего не было, впрочем, и музыка была здесь настолько груба и примитивна, что простенький мотив матросской джиги в моем исполнении являлся усладой для местных меломанов…
Король был отчасти удивлен моим сообщением, что в нашей крошечной Европе крошечные европейцы, к которым я имел честь (или несчастье) принадлежать, несмотря на свои крошечные размеры, помешаны на изображении своих крошечных фигурок, особенно женских, находя в неподвижном изображении некую прелесть и вдохновение. Ему была непонятна наша страсть запечатлевать красками на куске грубого холста красивый образ, портрет, – он признавал только «живые» искусства, ту же музыку, звучавшую лишь в момент исполнения, или пение, или театр, с актерами, ходящими по сцене. Он не видел никакого смысла в том, что наши художники запечатлевают не только человеческие фигуры и лица, но и природу, деревья, небо, скалы, море и корабли на нем. Особенно его насмешили мои слова о том, что в нашей живописи много батальных сцен – стреляющие пушки, горящие крепости, летящая кавалерия, насмерть бьющиеся армии… Ему все это показалось нелепым, потому что, по его мнению, мы пытаемся на своих тряпках, натянутых на подрамник, остановить жизнь, движение, тогда как это абсолютно невозможно. Как можно остановить меняющиеся облака или прибой на море, или солнце, уходящее за горизонт и расцвечивающее небо каждую минуту меняющимися красками. Наше изобразительное искусство показалось ему крайне наивной детской забавой, и он долго от души смеялся. Однако я имел мужество вступить в спор с Его Величеством, сказав, что он абсолютно прав в своем понимании сути искусства изображения подвижного мира, который действительно застывает, будучи перенесенным на холст. И мое возражение состоит лишь в том, что и в застывшем виде этот мир остается в своем роде живым и многозначным, и что великие художники владеют искусством обобщения и нахождения главного среди тысячи второстепенных мелочей и умеют через одну счастливо найденную деталь изобразить очень многое, если не все. В подтверждение своих слов я даже назвал имена двух великих мастеров прошлого – Рафаэля и Леонардо да Винчи, к сожалению, не англичан, поскольку Англию, как и Бробдингнег, живописный гений явно обошёл стороной.
Увы, я не смог убедить короля и увлечь его очарованием и в некотором роде бессмертием нашей живописи, потому так и названной, что она сохраняет исчезнувшее и минувшее как бы живым. Эта придумка европейцев, хотя он и не видел ни одного её образца, показалась ему пустой и никчемной. В свою очередь король показал мне устройство, изумившее меня необычностью и отчасти поколебавшее мои пристрастия в области живописи. То, что он продемонстрировал мне, не было живописью, хотя в известном смысле было живее ее, потому что двигалось при желании зрителя. Устройство это представляло собой круг с нарисованными по его краю фигурами человека в мой рост и с узкими прорезями, разделявшими их. Вращая этот круг и глядя сквозь его прорези в зеркало, можно было видеть, что человек пускается в бег, как живой. Мне казалось, что это я сам бегу от напастей своей судьбы. Таких кругов у короля было немало, целая коллекция. Достаточно было надеть один такой на стержень и крутануть перед зеркалом, как представление начиналось… Так я с восторгом просмотрел вслед за бегом человека бег лошади, полет утки, прыжки лягушки, драку собаки с кошкой, а под конец король с торжествующей улыбкой продемонстрировал мне соитие мужчины и женщины… Взбудораженный, потный от просмотра, я вынужден был согласиться, что движущиеся картинки в известном смысле возбуждают меня больше, чем галантные картины европейских мастеров.
И все же мои восторженные отзывы о картинах, изображающих обнаженное женское тело, которое в наших придворных кругах стало главным предметом любования, восхищения, поклонения и пользования, король выслушал не без любопытства. Он с благосклонностью отнесся к сюжетам полотен, где пышно разодетые по последней моде мужчины соседствуют с полуодетыми, а то и вовсе раздетыми прелестницами. Его Величество согласился, что подобные картины могут возбуждать воображение и не только оное, но что будь они здесь, их можно было бы показывать только в первый день весны или осени, когда разрешено семяизвержение в лоно, в остальные же дни года вреда от них больше, чем пользы. На что я вежливо возразил, что при отсутствии каких-либо ограничений в отношениях полов, как у меня на родине и в странах, кои я имел честь посетить, подобные картины оказывают круглогодичное благотворное воздействие. Король, тем не менее, усомнился в достоверности моих слов по той причине, что в таком случае, заметил он, страны, о которых я говорю, были бы перенаселены настолько, что жизнь там стала бы невозможной. На это я с присущим мне тактом объяснил королю, что от нежелательных детей у нас избавляются изгнанием плода во время беременности с помощью специальных трав и настоек, или, ежели ребенок незаконнорожденный, что случается тут и там при нашей замечательной вольности нравов, то такого ребенка отправляют в деревню, где он, как правило, живет недолго. Для нежелательных детей есть ещё сиротские и воспитательные дома, избавляющие родителей от бремени лишних забот.
Король долго не мог понять, что такое «изгнание плода», а когда понял, то даже изменился в лице, настолько диковинным и ни на что не похожим показалась ему подобная практика, и он возмутился изуверской изощренностью нашего ума, впрочем, как все просвещенные монархи, умело скрывая свои подлинные чувства. Зато моё сообщение об одном изобретении, предохраняющем женщин от беременности, а мужчин от опасности подхватить какую-либо заразу, было встречено им с энтузиазмом. Его эмоции выражались столь неподдельно, что я, дабы не огорчать, утаил от него печальную причину такового изобретения, а именно болезнь под названием сифилис, которой почти поголовно были заражены царские дворы. Я лишь подробно рассказал Его Величеству о медике при дворе английского короля Карла II, имя которого было Кондом и который с помощью специального мешочка, надеваемого на фаллос, разом избавил человечество от множества проблем, соприсущих служению Венере, и что для этой цели может послужить и рыбий пузырь, применявшийся ещё в Древнем Египте. Мое сообщение привело короля в такой восторг, что он тут же вызвал своего главного медика и главного повара и велел принести рыбий пузырь, что и было исполнено, а так как в реках и озерах этой страны водились сомы размером с нашу акулу, то и рыбий пузырь, извлеченный из сей рыбины, оказался под стать королевскому естеству.
Вскоре после этой достопамятной беседы последовал королевский указ, предписывавший гражданам Бробдингнега пользование рыбьим пузырем наравне с теми способами, к которым они прибегали при соитии во все дни года за исключением первого дня весны и осени. Надо признать, что это весьма положительно сказалось на мироощущении великанов. Резко уменьшилось количество однополых привязанностей, как и число тихо или буйно помешанных, не говоря уже о заметно упавшем числе поклонников домашнего скота, который снова стал использоваться прежде всего по своему основному назначению. Мне же король пожаловал орден за заслуги перед его страной, каковой я не мог носить по той причине, что весил он ничуть не меньше меня самого. Я хранил его в своем домике и во время официальных торжеств, на которые был приглашен, сам выкатывал его на специальной тележке, обязанный, как и прочие придворные короля, быть при всех регалиях. Орден этот из чистого золота высшей пробы, как и большая часть остальных моих бробдингнежских приобретений, был утрачен, и, кроме слова чести, мне нечем подтвердить это награждение.
Что же касается кондома, то особенно крепким и эластичным оказался пузырь не у сома, а у местного осетра, по каковой причине цены на эту рыбу выросли вдвое, икру же бробдингнежцы, как и прежде, выбрасывали или скармливали свиньям.
Благодаря беседам со мной или, точнее, в результате их, мой король решил воплотить в жизнь некоторые достижения европейской цивилизации. По-моему, его весьма впечатлили нравы при дворе Людовика XV, его, так сказать, современника, хотя и живущего по ту сторону Света, «где жизни нет, потому что не может быть никогда». Насколько я помню, ему особенно понравились мои описания уединенных уголков под названием petite maison или ermitage, созданных исключительно для того, чтобы, ни на что иное не отвлекаясь, предаваться сладострастию, а также приверженность короля Франции к юным девственницам. Не ускользнула от него, конечно, и общность девизов, под знаком которых жили царские дворы… Согласитесь, девиз французского двора: «Будем развлекаться!» в определенном смысле звучал в унисон со здешним: «Делай это сейчас», тем более, что второй девиз французских королей: «Fais le bien» полностью – и это было поразительно – совпадал с местным девизом: «Делай это хорошо». К тому же по универсальной таблице периодичности времен, имеющей между прочим большой и малый круги, все знали, что история Бробдингнега, впервые завершая большой круг, приближается к своему концу и прекратится уже через три поколения. Поэтому ныне живущим бробдингнежцам была рекомендована чрезвычайная активность и стремление извлекать из жизни как можно больше удовольствий. На моих глазах все бробдингнежцы и бробдингнежки просто помешались на галантности…
Уже при мне идея конца света или, по-нашему священному писанию, – Армагеддон, настолько овладела умом и сердцами граждан Бробдингнега, от низа до верха, от последних уличных бродяг до титулованных особ, что девизы: «Делай это хорошо» и «Делай это сейчас» тут же успели соединиться в единый призыв: «Делай это сейчас хорошо», который и стал как бы догматом повседневной жизни. Вернее будет сказать, что у низов, типичным представителем которых был мой бывший фермер, все же ещё оставались иные интересы – стремление к богатству, почестям и славе, но избранное общество устремилось к совсем иному - к безудержным наслаждениям и удовольствиям и к получению их всеми возможными, а зачастую и невозможными, способами.
Теперь счастливым и удовлетворенным мог стать каждый, исповедуй он несколько простых, пусть отчасти и циничных принципов: «За морем жизни нет», «Хорошо там, где ты есть», «Делай это сейчас хорошо». Эти доступные любому непредубежденному сознанию постулаты, которые, на мой взгляд, недурно было бы перенять и моим соплеменникам, оказались тем хороши, что позволяли без отрыва от получения удовольствий заниматься обустройством среды обитания, а также получать добавочное удовольствие от пребывания в этой среде.
Итак, не провел я при Дворе и года, как жизнь в нем в корне изменилась. Блуд, то есть блуждание в поисках телесной радости, которая заключалась во всех формах и вариантах соития, – стал знамением нового мировоззрения, привнесенного в жизнь не без моего скромного участия. Воцарилась полная свобода, и никому не приходило в голову что-либо запрещать или регламентировать. Даже наоборот – все новое, исключительное стало поощряться, за новым шла охота, и каждая новая поза воспринималась как откровение, хотя, как известно, количество поз, сколько бы их ни было, все же ограничено возможностями телесной конституции, которая у великанов была точно такой же, как и у нас, людей обычного размера… Острая потребность в новизне заразила и меня. Обычное, то есть мое, в Бробдингнеге постепенно стало представляться мне не мизерным и жалким, а исключительным и раритетным, и на себя я начал смотреть глазами тех ученых, вызванных королем для моей идентификации, которые назвали меня «игрой природы». Да, игрой, чудесной и неповторимой игрой! Из своего вопиющего недостатка – крошечного размера – я ухитрился извлечь выдающееся ощущение собственной крайней и неповторимой бесценности.
Между тем мои собственные любовные похождения продолжались. Читателю, конечно, уже известно, что у короля с королевой были две дочери-принцессы тринадцати и шестнадцати лет. Это были очень красивые девицы, а точнее, молодые женщины, – я уже имел случай сообщить читателю, что зрелость здесь наступала рано – в двенадцать лет. Практически же особи женского пола созревали ещё раньше. Красота принцесс не соответствовала их нраву - выросшие в богатстве, роскоши, ни в чем не имеющие отказа, девицы эти были капризны, себялюбивы, и прихоти их не знали ни меры, ни правил приличия. Впрочем, неприличия, естественно, совершались втайне от родителей, и если я и узнал об этом, то лишь потому, что однажды оказался невольным участником их более чем сомнительных развлечений.
Обе девицы, несмотря на свой зрелый возраст, любили играть в куклы, и рано или поздно их взоры неминуемо должны были обратиться на меня. Испросив у обожавшей их матери-королевы разрешение поиграть со мной, чтобы якобы примерить мне наряды, составлявшие гардероб миниатюрных куколок мужеского полу, коих у принцесс было несколько десятков, они велели Глюмдальклич принести мой ящик на свою половину дворца и сказали, что сами вернут меня, когда наиграются… Уже хорошо знакомый с тем, какие это могут быть игры, я, однако, держал себя сдержанно и учтиво, готовый к тому, что действительно побуду в роли живой куклы: возможно, переодев, меня прокатят в игрушечной карете, запряженной игрушечными лошадьми, выкупают в чашке воды… Почему бы и нет? Но втайне, может, даже в тайне от самого себя, я желал иного развития событий, ибо был мужчиной, наделенным определенными чувствами, новизна же, особенно в женском обличье, всегда волновала и возбуждала меня. С другой же стороны, я побаивался женской инициативы, могущей оказаться несоразмерной с моими возможностями и моей конституцией – я боялся вывихов или переломов, особенно в таких хрупких местах, как запястья, лодыжки или шея… Волновала меня и целостность моего мужского естества, каковое, к счастью, по причине своей мизерности пока не привлекало внимания моих возлюбленных великанш.
Но эти испорченные красотки именно на мое естество и воззрились, когда, оставшись со мной наедине, они торопливо меня раздели и стали внимательно разглядывать, встав на корточки и вооружившись лупой. Их лица нависали надо мной, а огромные глаза, цвета неспелого крыжовника, в которых зажегся блудливый огонек, жадно изучали мое обнаженное тело. Затем младшая из принцесс, взяв у старшей лупу и точно определив местонахождение моего естества, которое в увеличительном стекле ей, видимо, понравилось, стала водить по нему мягкой желтой пушинкой, возможно, даже цыплячьей, что дало естественный результат… Тогда она разоблачилась, скинув с себя через голову груду одежд, которые развевались и хлопали, как паруса на ветру, взлетая до небес потолка, расположенного от меня примерно на такой же высоте, что и облака. В обнаженном виде она оказалась ещё краше и отточенностью форм явно совершеннее моей скромной и неброской Глюмдальклич.
 |
Улёгшись на ковер и поставив меня между своих красивых девичьих грудей, она предложила мне побегать по ней и поискать «грикли блюк», что по-бробдингнежски означало «заповедный уголок». Я сразу понял, на что она намекает, но, дабы не выдать себя как знатока местных дам, я устремился не вниз, к животу принцессы, а вверх – по её шее, как будто собирался шепнуть ей что-то на ушко, прежде чем недвусмысленность происходящего окончательно явит себя. Но младшая принцесса, поежившись и хихикнув, будто прикосновение к её коже моих голых ступней вызывало у нее щекотку, вдруг схватила меня и перенесла прямо на свой пушистый кустик. Надо отметить, что волосяной покров на лобке у некоторых дам Бробдингнега иногда разрастался до размеров кустов сирени или жасмина, то есть выше моего роста… И порой дамы, отличавшиеся в этом месте волосистостью, заплетали свои кусты в косички с лентами и колокольчиками, которые начинали звонить при активном сотрясении чресл, как правило, вызываемом соитием. Чем громче звонили колокольчики, тем искуснее считался любовник, отсюда и возникло выражение «отзвонить в колокола». И если у нас не считается зазорным обратиться к даме с такими словами, как «я хочу с вами переспать», то, согласитесь, по-бробдингнежски подобное предложение звучало гораздо поэтичнее. Но у принцессы не было ни косичек, ни лент, ни колокольчиков, хотя сама растительность доходила мне до груди, к тому же была так надушена амброй, что у меня слегка закружилась голова. Может быть, именно поэтому я оступился, выходя из зарослей, и, не найдя ногой опоры, рухнул головой вниз. Если я не свернул себе шею, то лишь потому, что на лету успел ухватиться за растительность, декоративно обрамлявшую вход в розовое лоно. К тому же принцесса инстинктивно сомкнула бедра, отчего между ними и большими губами лона образовался узкий лаз, по которому я, сконфуженный, благополучно спустился на ковер, покрывающий каменный пол. Меня тут же достали из-под раздвинувшихся ног, дабы удостовериться в моей целости и сохранности, но сам я был так обескуражен этим падением, что мое естество, забыв о своем возбуждении, снова стало размером со здешнюю булавочную головку. Я надеялся, что на этом интимная часть нашего знакомства и закончится, но оказалось, что мой промах никак не повлиял на намерения избалованной принцессы. Осмотрев со всех сторон, она меня обдула, словно я был упавшим на пол лакомством, и вдруг, открыв рот, совсем как Глюмдальклич, поглотила меня по пояс ногами внутрь. Я решил, что она сейчас начнет меня посасывать, и оттого сразу почувствовал новый прилив крови к чреслам, но принцесса имела другое намерение. Она обволокла густой слюной мое тело, отчего я стал скользким, как сливовая косточка, после чего я, совершив в её руке полет в направлении лона, по пояс погрузился в него, придерживаемый за грудь и спину большим и указательным пальцами. Поскольку я имел немалый опыт многоразовых погружений и приспособился к ним, – как-никак с Глюмдальклич меня уже несколько месяцев связывала сия нежная тайна – то и теперь старался напрягать и расслаблять свое тело в такт движениям принцессы. С минуту посмотрев на развлечение своей бойкой младшей сестрицы, её старшая сестра решила присоединиться к нам. Однако она не стала раздеваться, а лишь села, задрав подол платья и всех кружевов, что были под ним, стянула с себя панталоны – от нее пахнуло сладкой и дурманящей лавандой – и я увидел, что её промежность приближается ко мне, как если бы я должен был одновременно обслужить два лона, подобно инструменту о двух концах, коим удовлетворяли себя в Древнем Китае женщины, когда их мужчины уходили на войну. Я испугался, что сестры, сблизив свои лона, целиком поглотят меня, и я просто задохнусь, но, несмотря на азартность игры, от которой они хотели получить новые неиспытанные ранее наслаждения, принцессы были достаточно благоразумны и пользовали меня не головой вперед, а только ногами, для чего они поочередно передавали меня одна другой, а то и принимались ублажать мной друг дружку. Обе, как оказалось, не были девственницами, и, погружаясь в лоно то старшей, то младшей сестрицы, как бы из огня амбры в полымя лаванды, я невольно задавал себе вопрос: когда и с кем они лишились девственности, каковым вопросом задается каждый мужчина, поскольку, входя в обладание новой женщиной, всегда испытывает невольную ревность, ибо каждому из нас хочется быть первым и главным. А ведь статус принцесс обязывал их блюсти чистоту крови… Но неожиданно явился и ответ в виде пажа королевы, которого я довольно часто встречал на женской половине дворца, занимаемой фрейлинами, – похоже, паж этот был хорошо знаком с повадками принцесс, потому что без преамбул и реверансов деловито разделся и присоединился к нашей компании. В паузе между погружениями из одного лона в другое я скосил глаза и увидел, что этот мальчишка отменно вооружен, и мысленно ещё раз посетовал, что каждый местный балбес даст мне в известном занятии сто очков вперед. Не удостоив меня ни взглядом, ни подобающим приветствием, вопреки этикету, предписывавшему всем подданным Его Королевского Величества выказывать мне при встрече знаки почтения полупоклоном и восклицанием: «Слава Грильдригу!», словно положение, в котором я в данный момент находился, уравнивало его со мной, точнее – возвышало его до меня, он тут же занялся младшей принцессой, бесцеремонно отгородив её от меня и вставив ей между раскрытых лядвей символ своего несомненного превосходства надо мной. Таким образом, теперь я был полностью отдан на откуп старшей принцессе, в то время как этот наглый и бесцеремонный юнец услаждал младшую, аромат которой, признаюсь, действовал на меня более возбуждающе, чем аромат её сестры. Мы, мужчины, собственники по натуре, и только в ранней неимущей юности готовы делиться лакомством с друзьями, теперь же я, зрелый мужчина, испытывал муки ревности и унижения, видя, как бесстыдно мелькают вверх-вниз ягодицы моего счастливого соперника между ног младшей принцессы, которые она, дабы иметь полную меру удовольствия, широко развела в стороны, подняв их и удерживая на весу руками, взявшимися за ступни, – точь-в-точь как те, не знающие стыда девицы, с которыми я делил дни своей молодой любовной лихорадки в студенческие годы. Помню, одну из них звали Лидией, она была дочкой профессора Лейденского университета, где я получал медицинские знания, и, кажется, не было студента, которого она не одарила своей благосклонностью. Бывало, она принимала по четыре будущих медика зараз, справляясь с их нуждами обеими руками, лоном и ртом, иногда отдавая в дополнительное пользование и анус, будучи при этом такой ловкой и сметливой, что все мы подходили к пику наслаждения одновременно. Не отставала от нее и хозяйка пансиона, госпожа Гвин, где я снимал комнату и столовался: не было у нее жильца, который не оказался бы в её постели. Муж же ее, чиновник городского суда, пользовался невероятным успехом у жен, на чьих мужей были заведены судебные дела. Помню имеющие широкое хождение анекдоты о том, что благодаря красивой жене можно откупиться от чего угодно и добиться каких угодно должностей в обществе, тогда как ни ученость, ни обладание различными достоинствами вовсе не гарантируют тебе путь наверх…
Тем временем старшая принцесса, которой, видимо, надоели мои малоубедительные услуги, поставила меня на ковер и присоединилась к совокупляющейся парочке, встав над ней с широко разведенными ногами, так что паж-юнец, который теперь в позе наездника оказывал знаки внимания её сестре, легко мог дотянуться губами до обрамленных растительностью губок стоящей перед ним принцессы, каковые он и стал облизывать при каждом толчке в лоно младшей. Старшей принцессе это так понравилось, что она, ещё на шажок приблизившись к нему, вовсе соединила свой распустившийся цветок с губами пажа, дабы он подобно пчеле высасывал из сердцевины нектар любви. Младшая принцесса, заметив, что дружок отвлекается на её сестру и уже не столь усерден, на локтях выползла из-под пажа и, развернувшись к его по-прежнему полному силы стержню, принялась облизывать его со всех сторон. Чтобы ей было удобно, паж, стоя на коленях, догадливо выпрямился, а чтобы младшая не чувствовала бы себя одиноко в том месте, которое стало свободно, он смело ввел в него свой указательный палец, а в отверстие, находящееся рядом, то есть в анус, – другой, средний. Я, хоть и отвергнутый этой троицей, не спешил разыскать разбросанные тут и там предметы своей одежды, тем более, что бархатный камзол мой, скорее всего, находился теперь под коленом пажа, как не стал спешить и в свой домик, стоящий возле стены с настежь раскрытой дверью. Отойдя на безопасное расстояние, дабы не быть случайно раздавленным в пылу разгоревшихся здесь нешуточных страстей, я с интересом естествоиспытателя наблюдал за различными позами соития, которые практиковали юные великаны, и с удовлетворением констатировал, что они (позы) ничем не отличаются от тех, что практиковал и я сам в свою бытность среди людей моего размера…
 |
Последняя из поз, которую я запечатлел в своей памяти, была следующей: кавалер снизу, две дамы сверху, обе в роли наездниц, только одна на стержне, а другая на языке, который, как я успел отметить, был у пажа отменно длинный. Затем, найдя все предметы своей одежды, кроме камзола, я вернулся в свой домик и, закрыв наглухо дверь, то есть давая тактично понять, что соглядатайство – не мой конек и что я уважаю право каждого на таинство соития, забылся коротким сном…
На этом интерес принцесс ко мне был исчерпан, и больше они не брали меня к себе ни под каким предлогом; камзол между тем пропал, а обещанную новую одежду мне так и не сшили, хотя в кукольном гардеробе принцесс было, как сейчас помню, с десяток вполне подходящих мне сюртуков. Ни паж, ни принцессы при дальнейших официальных встречах со мной – за королевским ли обедом или на музыкальных ассамблеях – не выражали на лицах ни малейшего смущения или беспокойства относительно того, что я посвящен в их тайну, которой мог бы, например, поделиться с их родителями, имей я такое намерение. Видимо, тройка молодых людей была уверена, что я, как в некотором смысле участник действа, буду хранить молчание, в чем они оказались абсолютно правы. Но молчал я вовсе не из-за своего вынужденного соучастия: поставить в известность короля и королеву о том, что делается за их спиной, я не мог, исходя из собственных представлений о чести и благородстве.
Ароматы, которые я тут и там обонял при общении с дамами, были темой нашей очередной беседы с королем, во время которой я выяснил, что благоухание могут позволить себе лишь зажиточные бробдингнежцы в гигиенических целях, воплощая одно из условий здешних галантных манер и куртуазности, звучащее в переводе на английский как «цвету и пахну». Не буду отрицать – поначалу местные телесные запахи действовали на меня угнетающе, в лучшем случае вызывая головную боль, в худшем же – обморок. Но наш организм удивительно гибок и обладает свойством приспосабливаться к самым исключительным условиям и обстоятельствам, особенно если его лишают выбора. Так, то, что прежде представлялось нам отвратительным, позднее может вызывать у нас неподдельный восторг. Сие, несомненно, указывает на то, что нашими чувствами управляет великая сила привычки. Да, богатые великаны и великанши, включая, естественно, придворных, с течением времени стали мне казаться невероятно чистоплотными; особенно это касалось дам. Запахи естества, выделений и испарений тела удалялись здесь не только с помощью воды и мыла, но и благодаря душистым эссенциям, готовящимся из различных растений в период их цветения. В этом знать Бробдингнега могла бы дать пример многим представителям высшего света в странах, которые я посетил. За исключением разве что медиков, наученных содержать свое тело в чистоте, большинство моих европейских соплеменников омывало свои члены редко и недостаточно, отчего подчас источало самые дурные запахи. То же и при Дворе. Утренний туалет Короля-Солнце состоял лишь из протирания eau-de-Cologne[9] лица и рук, остальные же части его тела отнюдь не благоухали, что не раз вызывало недовольство его метресс. Видимо, чистоплотность бробдингнежцев – а водой и мылом пользовались все поголовно – диктовалась их размерами, ибо даже трудно представить себе, во что бы иначе превратились их улицы, жилища, их отхожие места и наконец они сами… Авгиевы конюшни показались бы тогда в сравнении, скажем, с Лорбрульгрудом райским местом. Но нет - столица, как и прочие города, сверкала чистотой и порядком.
Однако, как я выяснил для себя в той беседе с королем, здесь не знали медицинских, лечебных свойств используемых ароматов, и я был счастлив представить королю целый их список с подробными описаниями целебного воздействия, каковое они оказывали на организм. Я надеялся, что этим, как и рассказом об изобретении медика Кондома, я окончательно сглажу то крайне отрицательное впечатление, произведенное на короля моим рассказом о порохе, с помощью которого мы разрываем неприятеля на куски, и об изгнании плода, когда мы делаем, по сути, то же самое с человеческим зародышем…
Так, при заболевании горла и полости рта я рекомендовал принимать эфирные масла бергамота, гвоздики, герани, при головной боли – иланг-иланг, лаванду и розмарин; розу же и ладан – для снятия угнетенных, подавленных состояний и усталости, для утренней бодрости мною рекомендовались масла мяты, гвоздики, ириса… Список получился огромный, ароматы перекрывали буквально все, какие ни есть, недомогания, и мой король был приятно удивлен и впечатлен, особенно, когда, тщательно подсчитав, выяснил, что каждый рекомендованный мною аромат излечивает не менее пятидесяти болезней… Открытый для всего нового король тут же издал указ, которым повелевалось вместо огромного штата медиков, имеющих королевскую лицензию на врачебную практику и безбожно наживающихся на недомоганиях бробдингнежцев, зачастую мнимых, широко пользоваться лекарствами в виде ароматических эссенций, являющихся поистине панацеей. Будучи одним из лучших в стране математиков, он подсчитал, какой выгодой обернется для королевской казны оздоровление нации. Дело в том, что здесь каждый заболевший освобождался на время болезни от налогов, по каковой причине половина народа постоянно болела той или иной болезнью, факт наличия которой подтверждался заключением лицензионного медика. Последний же выдавал таковое заключение всякому за сумму втрое меньшую, чем сам налог… Таким образом выигрывали все, кроме короля, и с этим надо было покончить.
Увы, королевская инициатива, принятая с восхищением разве что мною, её вдохновителем, и королевским казначеем, имела худые последствия, так как вскоре выяснилось, что ароматы, которые на людей с моей корпуленцией действовали безотказно, для толстокожих великанов были что слону дробинка, как с радостью констатировали возненавидевшие меня медики, уже начавшие было считать свои убытки. Правда, преданный королю главный лекарь Его Королевского Величества на основании опытов, проведенных на себе, установил, что данные ароматы все же действуют, но чтобы произвести их в потребном для каждого великана количестве, придется засеять ароматическими растениями все угодья Бробдингнега, оставив страну без продуктов сельского хозяйства, – то есть без фруктов и овощей, без зерновых, а значит, без крупного и мелкого рогатого скота, без свиней и птицы…
Шёл уже третий год моей жизни в Бробдингнеге, но, как ни странно, чувствовал я себя все неуверенней и тревожней, хотя и был принят и обласкан первыми лицами государства, и небо над моей головой казалось безоблачным. Увы, на самом деле это было далеко не так – я, напротив, чувствовал, что надо мной сгущаются тучи, и причиной тому были не только мои пикантные похождения, но и мои пространные беседы с Его Величеством, так как идеи многих из них король-практик постарался претворить в жизнь, естественно на свой бробдингнежский манер. Прежде всего я имею в виду кондом, который буквально перевернул все бробдингнежское общество сверху донизу и сделал его граждан этакими неугомонными бестиями, одержимыми сатаной чувственности. Ибо они вообразили, что натянув на одно место рыбий пузырь, они теперь могут делать, что хотят, без всякого контроля над собой, поскольку «контролировать» больше нечего… Идея вседозволенности проникла во все слои общества, включая власть, закопошилась в самых дальних и тайных закоулках. Для меня лично и моей судьбы в Бробдингнеге эта просветительская акция имела в итоге самые печальные последствия.
Однажды после отхода ко сну, когда моя милая Глюмдальклич, сославшись на легкое недомогание и сказав, что сегодня любви между нами не будет, отправила меня в ящике на верхнюю полку и сама легла спать, дверь в горницу тихонько отворилась, и в свете оставшейся гореть на ночь ароматической лампады я увидел короля. На нем, под парчовым халатом с золотой бахромой, не было ничего, кроме одной потрясшей меня детали, – его вставший фаллос, торчавший из-под бахромы, был украшен серебристой оболочкой рыбьего пузыря, скорее всего – осетрового… Хотя я уже знал, что в последнее время король стал вести себя примерно так же, как августейшие особы Европы, навещая по ночам новых своих метресс, почему-то мне ни разу не пришло в голову, что объектом его чувственных поползновений может стать моя добрая нянюшка. Будь я менее простодушен и более предусмотрителен, ни за что не стал бы рассказывать Его Величеству о вкусах его французского коллеги, предпочитавшего невинных девочек, едва достигших двенадцати лет…
Первым делом король поискал глазами, где стоит мой ящик и, обнаружив его, довольно бесцеремонно, даже не поприветствовав меня и не пожелав хотя бы спокойной ночи, переставил в самый угол, так что мои окна и дверь оказались наглухо перекрыты двумя сходящимися стенами. Понятно, король не хотел, чтобы я стал свидетелем того, как он совращает мою Глюмдальклич; однако он забыл, что в крыше у меня имелся запасной люк на случай непредвиденных обстоятельств, коим я и не преминул воспользоваться. Горчайшие чувства, которые я испытал в ту ночь, глядя сверху на сцену, разыгравшуюся подо мной, до сих пор рвут мне душу и сердце.
Увидев своего короля, Глюмдальклич, естественно, была польщена его вниманием к своей скромной особе, хотя на лице её читался явный испуг, ибо она ещё никогда не видела перед собой настоящего мужского естества, да ещё облаченного в рыбий пузырь, и, видимо, приняла его за металлический, по каковой причине, упав перед королем на колени, стала умолять его не губить её молодую жизнь, а отпустить домой к отцу и матери. На это король улыбнулся, царственно положив свою руку ей на голову поверх распущенных волос, и предложил удостовериться, что предмет, который её так испугал, не представляет никакой опасности для её жизни, а даже наоборот может принести ей особого рода удовольствие. Что король, увы, прав, моя нянюшка смогла убедиться, сначала робко прикоснувшись к серебристому наконечнику указательным пальцем, а затем несколько раз по предложению короля лизнув оный. По иронии судьбы она, кажется, была единственной во всем Бробдингнеге, кто оставался в неведении относительно того, что такое кондом и в каких случаях его применяют. Меа culpa[10] – из ложных представлений о чистоте и невинности я умолчал об этом средстве предохранения, которое в нашем случае было нам абсолютно ни к чему.
Отчасти успокоившись, Глюмдальклич тем не менее не спешила принять милости, которыми король намеревался её одарить, и по-прежнему, стоя на коленях перед Его Величеством, просила его не срывать её цветок, украшающий венок удовольствий, ибо не считала себя достойной его внимания, пусть это и честь для нее, бедной девушки, за которую некому заступиться, а только лишь королю, защитнику и протектору всех малых и сирых. Она, сирота при живых отце и матери, была готова выразить свое верноподданническое обожание Его Величеству любым иным способом, который король найдет подобающим её положению при Дворе. На что король, впечатленный и тронутый словами девочки, за короткое время столь успешно усвоившей правила галантного этикета, но оттого возбужденный ещё более, чему было недвусмысленное доказательство, раздвинувшее полы халата, украшенного золотой бахромой, ответствовал, что готов немедленно выступить на защиту бедной девочки, если ему будет представлен предмет защиты, ибо защищать можно только то, что подвергается угрозе. Глюмдальклич, чья честность и прямота иногда доходили до недопустимой откровенности и простоты, о которой говорят, что она хуже воровства, почему-то подумав, что королю стало известно, чем она занимается по ночам, стала умолять, чтобы он пощадил её и сохранил ей жизнь, ибо если она и допустила что-то, то исключительно по душевной слабости и из одиночества, живя вдали от родительского дома. Услышав такое, король побледнел как мел, что было заметно даже при мерцающем свете лампады, и возопил: «Так ты не девственница?».
С этими словами он толкнул Глюмдальклич на кровать и, схватив светильник, стал изучать её юное междуножье. Глюмдальклич была так напугана, что не сопротивлялась и даже не пыталась сомкнуть ноги. Король внимательно и ревниво осмотрел обетованное местечко, после чего резко выпрямился, отставил плошку с огнем и гневно сказал: «Ты меня хочешь обмануть?! Ты девственница в самом чистом виде! Дуришь своего короля?! За это будешь наказана!» – и, встав между её ног на колени, он уже направил свое вожделение к невинной розе, как Глюмдальклич, вскрикнув, быстро поползла на спине к изголовью кровати, опираясь на локти и пятки, и когда её затылок уперся в стенку, сказала сдавленным от волнения голосом: «Не смею вводить в заблуждение Ваше Величество. Как можно лгать в момент истины? Разве в такой момент душа не обращена к одной только правде?». Я видел, как король замер, пытаясь осмыслить страстные слова Глюмдальклич, и в этой паузе моя безумная в своей искренности девочка отчетливо произнесла: «Грильдриг - мой избранник и любовник!».
Воцарилось молчание, во время которого король, видимо, забыв, где находится мой домик, отыскивал его глазами, – я же так и окаменел от ужаса в своем люке, где он наконец, подняв плошку с огнем, меня и увидел. В следующий момент светелка Глюмдальклич наполнилась громовым хохотом – я никогда не слышал, как хохочет король, и могу сказать, что это было оглушительно и страшно. Потому что хохот этот не предвещал ничего хорошего. Сделав шаг от кровати до угла, где стоял мой домик, король бесцеремонно вытащил меня за голову из люка и, перенеся через огромное пространство, посадил прямо на деревянный набалдашник в изголовье кровати. «Смотри, ничтожество, – сказал он мне, – что я сделаю с твоей шлюшкой», – и с этими словами он, как тигр, бросился на Глюмдальклич, которой, за исчерпанностью её аргументов, ничего более не оставалось, как подчиниться натиску короля. Полагаю, Его Величество испытывал особое сладострастие оттого, что я вижу, как он насилует мою бедную возлюбленную. Она же больше не проронила ни слова – только ойкнула, когда он вонзился в нее и потом лишь тихонько всхлипывала, когда он стал получать свое королевское удовлетворение, задрав ей ноги так, что одна из ступней моей бедной возлюбленной чуть не смахнула меня с набалдашника, на котором я сидел, как на маковке колокольни. Эта пытка для моих глаз продолжалась довольно долго, при том, что высокая спинка ложа отчаянно раскачивалась, и я имел все шансы свалиться вниз и разбиться насмерть. Но не это терзало меня в те бесконечные минуты, а совсем другое: впервые в жизни я испытал ненависть к монарху и его абсолютной монархии и понял, что ненависть эта будет жечь мне сердце до конца дней моих. В ту страшную ночь я стал вольнодумцем и тираноборцем. Только двухпалатный парламент, понял я, может спасти как весь народ, так и отдельных его представителей от произвола и вседозволенности сильных мира сего. Чем меньше прав у короля, тем лучше король.
 |
Нетрудно догадаться, что мой статус после той страшной ночи сильно изменился. Король велел отправить меня на кухню, разлучив с Глюмдальклич. Мой домик-ящик поместили в одной из кладовых, где хранились овощи, в основном картофель, отчего я до сих пор не выношу его запаха, да и не ем ни в каком виде. Присматривать за мной назначили одного дрянного мальчишку, бывшего поваренка, которого отлучили от кухонной плиты за то, что однажды он из озорства помочился в кастрюлю с королевским супом, – суп его тут же заставили съесть, но поскольку это был младший отпрыск главного повара, то о его проказе королевской чете не донесли. Сам же мальчишка теперь выносил помои. Он был в той поре, когда подростки не дают покоя своему естеству, возбуждая его и днем и ночью, и только моя сдержанность и природная стыдливость не позволяют мне описать все те гадости, которые он со мной вытворял, заставляя служить своей пагубной склонности. К тому же он, как правило, предавался греху не один, а в компании такой же ущербной черни, которая была счастлива поиздеваться надо мной. Так, например, негодники, наевшись гороху, засовывали меня в свое заднее отверстие и стреляли мною в качестве живого ядра, соревнуясь, кто дальше. Чтобы я не убился, они стреляли мною в кучу свежего навоза или сена, или в то корыто, по водной глади которого я ещё недавно водил свою парусную лодку. Теперь лодки не было, а стоячая вода протухла, и от меня исходил стойкий запах назьма, картофеля и болота, не говоря о других запахах, которые я не мог перебить, поскольку чистой воды для мытья мне не давали. Швыряли они меня и вверх – кто выше, делая это самым непристойным и рискованным для меня образом, то бишь сажая на свой возбужденный стручок, оттягивая его вниз и отпуская подобно метательному орудию Архимеда. Если они не удосуживались меня поймать, то я падал в то самое корыто, перед которым они стояли, или в сено, где каждая травинка была чуть ли не в мой палец толщиной – неудивительно, что я весь был покрыт царапинами, ссадинами и шишками. Видимо, король дал задание извести меня и убить, но так чтобы это выглядело как случайность, как грубая шутка грубой черни. Чудо, что после всех этих испытаний я все же остался жив. Каюсь, забавляясь с крошечными человечками из Лилипутии, я и не представлял себе, какое мужество им требуется даже для простого общения со мной.
Но это ещё не все издевательства, на которые обрекла меня челядь. Посудомойки, поломойки и просто чернавки засовывали меня к себе в срамные места и поскольку простой народ, как я уже говорил, отнюдь не пользовался духами и ароматическими притираниями, то можете себе представить, как было постоянно оскорблено мое обоняние. Не раз меня вытаскивали из подштанников чуть ли не бездыханным. Я никогда не тешил себя иллюзией, будто простой народ благонравнее, чем завсегдатаи раззолоченных гостиных, но то, с чем я столкнулся, убедило меня, что он ещё хуже, ибо если галантность и бывает жестока, то имеет на то свои причины, челядь же жестока беспричинно, и чем грубее удовольствие, тем ближе оно их дремучим и мохнатым сердцам.
Так продолжалось с месяц, в течение которого я не видел ни Глюмдальклич – ей просто запретили показываться на кухне – ни короля с королевой. Видимо, Его Величество нашёл какие-то аргументы, которые объяснили королеве мое отсутствие за королевским столом… Но потом в моей судьбе снова наступили перемены. Как ни странно, но в этом я был обязан заступничеству в лице обеих принцесс, которые как капризные любимицы своих родителей имели на них достаточное влияние, тем более что им, полагаю, все же по вкусу пришлось мое скромное споспешествование их фривольным развлечениям. До сих пор мне не дает покоя мысль, что я так и не отблагодарил их должным образом за вызволение из рук черни, хотя допускаю, что в мотиве их поступка была и известная корысть, - возможно, они намеревались продолжить тайные свидания со мной. Увы, все это лишь плод моих досужих домыслов, поскольку судьбе было угодно, чтобы вскоре я покинул Бробдингнег навсегда…
Встреча моя с Глюмдальклич, хотя и была обоюдорадостной, но несла на себе печать новых обстоятельств, и оба мы, как ни старались, не могли переступить черту, разъединившую нас. Наши новые отношения определились в первый же вечер, когда Глюмдальклич, против обыкновения, не взяла меня к себе в постель, из чего я сделал вывод, что, считая себя поруганной, она не может предложить себя мне. Хотя другой вывод, более горький для меня, напрашивался сам собой: потеряв девственность, вкусив настоящего мужчину, тем более, первого мужчину Бробдингнега, самого короля, она утратила всякий интерес к полудетским шалостям со мной, пусть и не могла сказать мне этого напрямую, учитывая ранимость моей тонкой и деликатной натуры. Больше мы с ней никогда не были близки.
…Я появился на королевском столе, где по отношению ко мне снова воцарилась атмосфера дружелюбия, разве что теперь деланного. Я стал, как прежде, объектом легких невинных насмешек, которые сам охотно поддерживал и обыгрывал, нарочито совершая мелкие неловкости, чтобы позабавить царствующую чету и вернуть их расположение и приязнь, – то спотыкался о корку хлеба, то комично ронял на ноги наперсток с вином, делая вид, что пьян, то, беря вилку наперевес, демонстрировал приемы охоты на медведей, каковых здесь не водилось… Но все это была лишь внешняя сторона моей действительности – внутри же душа моя ожесточилась и я лелеял мечту отомстить королю. Мысленно я его казнил, отрубал ему голову, как Кромвель Карлу I, четвертовал, пытал на дыбе, отрывал раскаленными щипцами его ненавистный фаллос, которым, как вскоре я понял, он продолжал охаживать мою нянюшку… Единственную казнь, которую я мог действительно осуществить, – это налить ему, спящему, в ухо яду, подобно тому, как это описано в трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет»… Но когда я начинал думать, какие приспособления мне для этого понадобятся - лестницы и веревки с крючьями, не говоря уже о самом яде, я понимал, что все это пустые фантазии, и я так и останусь неотомщенным.
Словно не догадываясь, что происходит в моем сердце, королевская чета взяла меня с собой в поездку по стране. Все же полагаю, король сделал это намеренно и демонстративно, дабы показать королеве, что между ним и мною нет и не может быть ни одного камня преткновения, на что она намекала, заметив, что после моего возвращения с кухни наши беседы с королем так и не возобновились. Скорее всего, у короля были в отношении меня далеко идущие намерения. Я и теперь уверен, что ту прогулку на скалы, из которой я не вернулся, подстроил он сам. Это была его очередная попытка извести меня таким образом, чтобы у королевы не возникло никаких подозрений. Я могу его понять. Зная про его тайную связь с Глюмдальклич, я оставался не только живым укором его нечистой совести, но и представлял собой реальную угрозу его разоблачения.
Унёс меня в моем домике тот самый паж, что услаждал принцесс. Полагаю, он намеренно оставил мой домик без присмотра, отправившись собирать птичьи яйца. Не знаю, желал ли он, как и король, моей смерти. Во всяком случае, один, среди прибрежных скал, где был птичий базар, я бы мог продержаться до наступления холодов. Судьба распорядилась иначе, и я благодарен ей за это. Времена начинались смутные, в Бробдингнеге было брожение, ибо, как это ни странно, народ разделился на тех, кто горячо приветствовал нововведенный кондом, и тех, кто его столь же яростно отвергал. Общество раскололось на две партии, и между ними шла борьба за влияние на короля.
Пагубным образом сказался на самоощущении народа и мой дар в виде Бе Бу, то есть Бесконечного Будущего, предложенного мной бробдингнежцам взамен идеи о конце света, которого они ожидали согласно своим глупым таблицам. Однажды, дабы наполнить страну оптимизмом, я посоветовал королю просто взять и выбросить их, а точнее, сжечь на костре, что и было исполнено по королевскому указу, так как в ту пору король ещё безоговорочно следовал моим советам. Действительно, бробдингнежцы очень скоро забыли, что за чем следует, и поначалу были абсолютно счастливы и свободны. Но потом стали несчастны, ибо оказалось: они не могут жить, не зная, что им готовит грядущий день. Назревала гражданская война, виновником которой я не без основания считал себя. Часто, искренне желая добра, мы на самом деле приносим зло.
Обстоятельства моего чудесного возвращения на родину уже известны читателям и, право же, мне почти нечего к этому добавить. Орел, принявший мой домик за панцирную черепаху, сослужил мне немалую службу, подняв в небо, чтобы разбить, бросив на скалы, равно как и другой орел, пытавшийся отнять у первого добычу. Благодаря схватке птиц я упал вместе с домиком не на голые камни, а в море, где меня и подобрали матросы английского корабля под командованием капитана, предостойнейшего мистера Томаса Вилькокса, ставшего, пока мы шли до Англии, моим добрым другом. Это как раз тот случай, когда заведомое зло оборачивается непредвиденным добром. Поэтому тот, кто жалуется и клянет свою судьбу, попав в затруднительные обстоятельства, проявляет опрометчивость и недальновидность. Гораздо благоразумнее ведет себя тот, кто со спокойствием в сердце и надеждой в душе предается воле провидения. Ведь если мы угодны Творцу, ничего, кроме неизбежной смерти в конце жизненного пути, с нами случиться не может.
Немало времени ушло у меня на то, чтобы научиться смотреть на окружавших меня обычных людей не как на пигмеев. Общаясь с себе подобными, я ещё долго по привычке задирал голову и орал во всю глотку, из чего некоторые сделали превратный вывод, что, побывав в необыкновенных путешествиях, я стал слишком высокого мнения о себе. Встреча с моей женой тоже была чревата неожиданными проблемами, ибо я даже в своем желании долго не решался к ней прикоснуться, поскольку привык к размерам, несопоставимым с предоставляемыми мне ею. Теперь, чтобы достойным образом исполнять супружеский долг, я, закрывая глаза, вынужден был рисовать в воображении своих любимых гиганток.
От моей коллекции редкостей, привезенных из Бробдингнега, вскоре ничего не осталось, кроме золотого кольца с мизинца королевы. Поначалу моя жена решила, что это подарок ей, в чем я не стал её разубеждать, и пыталась, к зависти соседок, носить его на шее как ожерелье, но вскоре ей пришлось отказаться от этого украшения, так как от тяжести кольца у нее заболела спина, а кожа на плечах покраснела и пошла синяками. Втайне я облегченно вздохнул, так как кольцо было чуть ли не единственным, что напоминало мне о королеве. Впрочем, я лукавлю. Было и ещё кое-что – слова, сказанные мне на одном из моих последних ночных свиданий её Величеством. Королева тогда, в минуты высшей нежности, призналась мне, что ждет ребенка, и единственное, что её беспокоит, – это его размеры. «Какая же странная судьба, - подумал я тогда, – в свое время я бежал из Лилипутии, опасаясь монаршего гнева, поскольку имел все основания полагать, что ребенок, которого носит императрица, зачат не без моего участия. И вот, история повторялась…» Я, как мог, успокоил королеву, заверив, что если малыш будет таким, как моя оставленная в Англии дочь, то его появления никто не заметит, а ежели младенец уродится великаном, то отцовство можно будет легко приписать королю, который, как я знал, время от времени все же отправлял свои супружеские обязанности. Говоря все это её Величеству, я, помню, испытывал великую грусть, поскольку понимал, что ребенка, каким бы он ни был, мне не отдадут. Мне грустно и теперь. Иногда я задаю себе праздный вопрос – не стал ли я в стране великанов родоначальником новой расы? Увы, я этого никогда не узнаю.
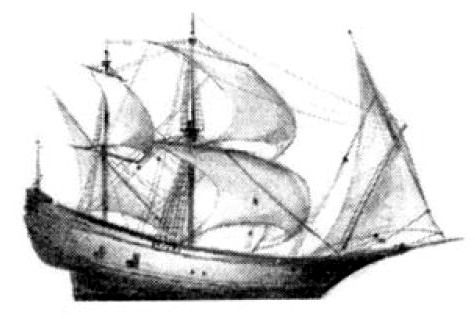 |
OCR by Heleknar ( http :// skachat – knigy . narod . ru /)
ББК 84.4(Вл) С24
Издание подготовлено кафедрой лингвистической соитологии Института соитологии
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |