"Братья" - читать интересную книгу автора (Туричин Илья)
Часть третья. МЕДНЫЕ ТРУБЫ.
 |
 |
Странное что-то творилось с письмами. Сначала мама перестала писать. Месяца три, а то и четыре не было от нее ни строчки. Потом пришло письмо, напечатанное на машинке. Оно по содержанию было похоже на приходившие раньше. Даже слова вроде те же. А новостей никаких. Никаких. Потом опять перерыв, и опять машинописное. Хоть бы сообщила, что приобрела машинку!
Павел аккуратно посылал ей письма, хотя и у него новостей по сути не было. Не обо всем напишешь.
Берлин изменялся. Особенно это стало заметно после Сталинграда.
Бывало, фрау Анна-Мария выводила Павла и Матильду на прогулку. Как выводят собачек, когда хотят ими похвастаться. Расчесывают шерстку, подвязывают бантики, выбирают ошейники понарядней.
Они торжественно шли по прямой веселой улице. Слева от Анны-Марии Матильда, справа - Павел. Шажки у Анны-Марии мелкие, неторопливые, свежее лицо озарено наглухо приклеенной улыбкой, сверкают белые, ровные зубы - гордость дантиста. Матильда неприметно строит глазки встречным мужчинам. Павел почтительно поддерживает фрау под руку. Добрая бюргерская семья!
И навстречу двигались такие же добрые бюргерские семьи.
Двери множества лавок и лавочек открыты настежь. Подобострастно улыбающиеся владельцы предлагали сытым, довольным, угоревшим от победных труб покупателям брюссельские кружева, норвежскую сельдь, французские коньяки, голландский сыр, украинское сало. Нарядные дамы украдкой гляделись в толстые стекла витрин: переливались лионские шелка, русские меха, воздух пропитывался ароматом парижских духов. Почта завалена посылками, доблестные воины слали любимым награбленное добро.
И ничто не могло нарушить добротной жизни берлинской улицы.
Женщина в черном с опухшими от слез глазами? Война. Смерть за фюрера - высшее благо.
Провели еврея под конвоем? Чем меньше евреев - тем чище.
Промчались полицейские машины? Порядок прежде всего! Ничто не могло стереть улыбки с лиц берлинских обывательниц.
Слово "победа!" было самым модным.
Из витрин бодро глядел с портретов фюрер.
Стояло лето сорок второго года.
Потом сталинградский траур. Счастливое время для Павла.
Город тощал на глазах, ветшал, словно покрывался коростой.
Лавки закрылись. На дверях висели тяжелые замки. Улицы опустели. По ним торопливо шли угрюмые, озабоченные берлинцы. На улыбающегося человека подозрительно оглядывались. И даже во взгляде фюрера на портретах исчезла бодрость.
Доктор Доппель стал запираться в своем кабинете.
Фрау Анна-Мария ходила по дому на цыпочках, прижимала палец к губам, делала большие глаза и произносила шепотом, словно выпускали воздух из велосипедной шины:
– Тс-с-с… Отец работает.
Да уж, задала ему работку Красная Армия. Всем им задала работку!
В газетах появились извещения о судах над саботажниками, о приговорах за отказ от работы.
Значит, кто-то сопротивляется? Кто-то не боится? Кто-то не верит ни в новое оружие, ни в выравнивание линии фронта?
Павел научился читать газеты. Научился в потоке лжи и откровенной фашистской пропаганды улавливать, угадывать правду.
Даже в школе произошли перемены. Со стены в коридоре исчезла карта военных действий. Господин директор велел перенести ее к нему в кабинет. Одноглазый Вернер притих. Кроме автоматов и пистолетов появилась на вооружении школьников новинка. Называлась фауст-патрон. Никто не знал, как и чем он стреляет, этот патрон. Просто Вернер показывал, как целиться и на что нажимать. Снарядов не было.
А однажды в класс не явился маленький Вайсман. Он отсутствовал три дня. На четвертый пришел осунувшийся, сникший, молча положил потрепанный портфель на стол.
– Болел? - спросили ребята.
Он не ответил.
Первым уроком была геометрия. Господин Функ, высокий, лысый, со старушечьим лицом, изборожденным морщинами, был немного глуховат.
– Вайсман, - сказал он громким раскатистым голосом, - вы отсутствовали три дня. Потрудитесь оправдаться.
Вайсман встал. Уши у него горели, как два подожженных фитиля.
– Я… Я не мог…
– Потрудитесь…
– Папу забрали гестаповцы.
– Гм… - Функ пошевелил губами. - Очевидно, он плохой немец.
– Нет… Он воевал… - звонко сказал Вайсман.
– Гм… Дезертировал с фронта?
– Он был ранен! - крикнул Вайсман.
– Не кричите, я не глухой, - поморщился Функ. Он, как многие глухие, не любил, когда говорили громко.
– Папа был ранен! - снова крикнул Вайсман. - Его отпустили домой. А теперь снова хотели отправить на фронт. Он им прямо сказал: "Вы - здоровые дубы, идите в этот ад и умирайте за своего фюрера сами".
– Но это же - бунт! - прошептал Функ.
Ребята зашумели.
И тут тщедушный Вайсман крикнул сквозь закипавшие слезы:
– А почему бы вам, господин учитель, не взять автомат и не пойти на фронт?
– Но я стар, - промямлил Функ.
– А мой папа болен! Болен!… Он один остался в живых из целой роты. Понимаете? Один! Все погибли! Папа сказал: еще год и не останется ни одного солдата, ни одного! - И Вайсман заплакал.
Функ взял его за плечо и вывел из класса. Все были подавлены этой сценой. И только кто-то на задней парте сказал:
– Врет он все. Мы победим!
Но ему никто не ответил.
Функ вернулся в класс один. Вайсман больше в школе не появлялся. Павлу было жалко Вайсмана, он бы сходил, навестил его, но не мог, не имел права.
Потом начались бомбежки. На месте разрушенных домов быстро разбивали чахлые скверики. Будто ничего не было: ни дома, ни жильцов. Берлин озеленялся.
Фрау Анна-Мария падала в обморок, как только объявляли тревогу. Ее приходилось уносить в подвал, в бомбоубежище, на руках.
Глупая Матильда гасила в комнате свет и, отодвинув штору, выглядывала на улицу. Ей было интересно увидеть, как рухнет какой-нибудь дом. А что бомба может попасть в ее дом, она и мысли не допускала.
Доктор Доппель вывез семью в маленький городок недалеко от Берлина. Здесь не бомбили, но городок словно оцепенел от страха. Жители почти не появлялись на улицах, только по утрам у единственной открытой лавки выстраивалась молчаливая очередь за картофелем, да изредка по гулким щербатым плиткам панелей стучали деревяшками инвалиды.
Окно комнаты, в которой жил Павел, выходило на мощенную серой брусчаткой площадь, где высился кирпичный собор, потемневший от копоти, времени, дождей и ветров. Шпиль собора так высоко уходил в небо, что, если смотреть на венчающий его крест, начинала кружиться голова. А возле собора, прямо против Павликова окна, расставив ноги на тяжелом каменном постаменте, стоял рыцарь, закованный в латы. На голове - тяжелый рогатый шлем, лицо прикрыто решетчатым забралом, правая рука в железной перчатке держит опущенный долу меч, словно рыцарь только что отрубил чью-то голову или вот-вот подымет меч и отрубит.
Павел возненавидел железного рыцаря. Он был для него олицетворением тупой, жестокой силы. Меч в его руках был карающим без суда. И устремленный в небо собор за его спиной не взывал о милосердии, а благословлял рыцаря на кровь.
Фрау Анна-Мария объяснила Павлу и Матильде, что в рыцаре, которому поставлен памятник, билось доброе сердце, он защищал немецкую землю от врагов, давным-давно, сколько-то веков назад. Матильда посмотрела на рыцаря и хихикнула. Павлу даже показалось, что она состроила ему глазки, как любому встречному мужчине. А сам он вдруг увидел виселицы на заснеженной площади Гронска и длинное тело клоуна Мимозы, ногами в рваных носках почти касающегося дощатого настила. А вокруг шагают фашисты - потомки рыцаря с добрым сердцем. Ему мучительно захотелось плюнуть в прикрытое забралом лицо. Но он сдержался.
Доктор Доппель каждый день отлучался в Берлин, возвращался поздно. Почти не разговаривал.
Павел ждал писем. А писем все не было.
И вот - хлопотливые сборы, семья уезжает. Куда?
Вопреки установившемуся правилу - не задавать вопросов - Павел спросил за ужином:
– Мы возвращаемся в Берлин, господин доктор?
– С чего ты взял?
Павел пожал плечами.
– Мы переезжаем, а писем из Гронска нет.
– Будут, - бодро сказал Доппель и как-то странно посмотрел на Павла, будто хотел убедиться, что за столом сидит тот самый мальчик, которого он привез в Берлин из России.
Он кривил душой. Он знал, что писем не будет, а те, напечатанные на машинке, сочинил сам. Гертруда погибла или попала в плен.
Что делать с Паулем? Теперь, когда рухнуло "дело", он не очень-то и нужен в доме. Правда, он дисциплинирован и предан, со временем его можно будет использовать. Верный человек всегда пригодится. Но времена тяжелые. Русские вот-вот перейдут в наступление. Не исключено. Фронт выровняли так, что от завоеванной территории остался пшик. Рейх разваливается. Сырье ушло из-под рук. Промышленность сидит на голодном пайке. А если русские ворвутся в Германию?… Что за странная мысль! Ужасная мысль. Прочь ее, прочь!…
Доктор Доппель провел рукой по глазам, словно снимая невидимую пелену.
– Ты что, Эрих? - встревожилась фрау Анна-Мария.
– Ничего, устал.
Фрау Элина принесла тушеное мясо с картофелем. Мяса было очень мало, картофель сладковат.
– Мястофль, - произнесла она.
– Спасибо, фрау Элина, - произнес Доппель и добавил хмуро: - Мы едем в союзное государство, в Словакию.
– Там, наверное, ужасная грязь! - поморщилась фрау Анна-Мария.
– Твой дом будет оазисом в пустыне, - улыбнулся доктор, улыбка была вялой. - Там есть сад и розарий. И нет бомбежек, которые так действуют тебе на нервы.
– А офицеры там есть? - спросила Матильда.
– Тебе еще рано думать об офицерах, - назидательно произнес доктор.
– А я и не думаю, пусть они обо мне думают.
"Законченная дура", - подумал Павел.
…И вот поезд тянется неторопливо, а за окном одинаковые черно-белые коровы пасутся на одинаковых, словно по линеечке расчерченных лужайках. Подстриженный, приглаженный мир, населенный одинаково подстриженными, приглаженными людьми. Запрещена фасонная стрижка, запрещена завивка волос у женщин, дети сидят без игрушек - запрещено их производство.
Солнце прижалось к горизонту.
– Отто, - не поворачиваясь и не отводя взгляда от окна, позвал Павел, - как вы думаете: это - красиво?
Отто потянулся, встал, шагнул к окну, удивился:
– Красиво, надо полагать. Пейзаж.
– Как вы думаете, Отто, туда дойдут письма?
– Почта есть везде… Я получил письмо от брата через два месяца после извещения. Ты не бывал в Орле?
– Где? - не понял Павел.
– В городе Орел.
– Нет.
– Он там и погиб, мой брат. Он был танкистом. Я всегда завидовал танкистам: топать не надо, броня от пули прикрывает. А он сгорел живьем. А потом пришло письмо от мертвого. Выходит, танкисты ездят в собственных гробах.
Павлу стало жутковато от его неторопливых рассуждений. Представил себе брата Петра горящим в танке. Да он бы сокрушил это купе, этот вагон, эту выстриженную землю! Разве можно об этом спокойно?
– Брат был человек тихий. Крестьянин. Теперь вот земля перешла мне. У него трое ребятишек мал мала меньше. Разве одной Гретхен управиться? И Гретхен мне в наследство. Хоть женись, - Отто подмигнул. - А я уж и забыл, как лошадь запрягают. Я - городской. С Гретхен я управлюсь, а землю продать придется. - Он засмеялся.
Не человек, животное какое-то. Даже не животное. Киндер - собака, а заплакал бы. Машина, механизм. Павел неожиданно вспомнил дрессировщика Пальчикова, как он сидел на конюшне, положив голову мертвого медведя себе на колени, тогда, после первой бомбежки.
– Отто, и вам не жалко брата?
– Жалко. Хороший был мужик. Тихий. Да ведь на всех слез не хватит. Война она и есть война, - назидательно сказал Отто. - Фюрер землю обещал, наделы на Востоке. Кто выживет - заживет в свое удовольствие!
– Вам нужна земля на Востоке?
– Да как тебе сказать… Я в земле копаться не люблю. У меня свои обязанности: учесть, подсчитать. Будет достаток - перепадет и мне. А уж я буду стараться: учитывать и подсчитывать.
Отто внезапно встал и вытянулся. Дверь купе откатилась. Вошел Доппель. За его плечами виднелись два полевых жандарма.
"Нюх у него на начальство", - удивился Павел и тоже встал.
– Этот юноша - Пауль Копф, - сказал Доппель.
Один из жандармов кивнул и обратился к Отто:
– Пожалуйста, документы.
Он внимательно прочел удостоверение, снова кивнул, возвратил обратно
– Благодарю. Можете следовать.
Жандармы ушли.
В дверях появилась Матильда. Она посмотрела на отца, на Отто, на Павла, капризно скривила пухлые губы.
– Пауль, развлек бы меня. Все-таки я - дама.
– Садись, Матильда, - сказал Павел покровительственно. - Покажу фокус.
– Фокус! Обожаю! - Матильда плюхнулась на диван.
– Развлекайтесь, дети. Отто, пройдите ко мне.
Они вышли из купе.
– Оставили нас одних, - прошептала Матильда.
– Ну-ну, без книжных штучек! Я тебе не граф! - прикрикнул на девушку Павел.
– Фи!… Показывай фокус.
Пауль достал из кармана советскую трехкопеечную монету. Он сберег ее, ту самую монету, которую подарил Флич. Положил на тыльную сторону ладони.
– Вот.
– Ну и что? - разочарованно спросила Матильда.
Павел усмехнулся.
– Монета-то живая!
И монета медленно двинулась, перешла на пальцы. Нырнула под них, перешагнула на ладонь.
Матильда следила за ней, как завороженная. Глаза ее округлились.
– Как ты это делаешь?
– Я ничего не делаю. Такая монета.
– Дай я попробую.
– Пожалуйста.
Монета легла на Матильдину руку и лежала там неподвижно.
– Ну что ж она? - разочарованно спросила Матильда.
Павел пожал плечами и вдруг сказал голосом фрау Анны-Марии:
– Матильда, ты опять съела все печенье.
Девушка от неожиданности вздрогнула и зажала монету в кулак.
– Отдай-ка, - сказал Павел и отобрал у нее монету.
– А как я, можешь?
Павел произнес голосом Матильды:
– Я вовсе не думаю об офицерах. Это они пусть обо мне думают. А я их держу в голове.
Она рассмеялась.
– Ну, Пауль, ты и верно артист! Хотя на меня и не очень-то похоже.
Поезд дернулся несколько раз, замедлил ход и остановился возле длинной деревянной платформы. Горели фонари - здесь не было светомаскировки. По платформе сновали люди, какой-то солдат тащил тяжелые чемоданы, следом шел гауптман. Не шел, а вышагивал прямой как палка. На груди и на шее висели кресты. В левом глазу сверкало стеклышко монокля.
– Какой душка! - воскликнула Матильда. Он показался ей похожим на графа из книжки. Настоящий прусский офицер старинного рода.
Павел посмотрел в окно и обмер. Мимо проходил Фридрих фон Ленц. Тот самый, что возил их за город на прогулку: маму, Петьку, его и Киндера. Они тогда наловили рыбы в реке и варили на костре уху в солдатском котелке.
Павел рванулся к двери.
– Я сейчас.
Он промчался мимо удивленного Ганса и выскочил на платформу.
Может быть, фон Ленц что-нибудь знает про маму? Но того уже на платформе не было. То ли он сел в вагон, то ли ушел в здание вокзала.
– Вы что, Пауль? - спросил Ганс, появляясь в дверях вагона.
– Знакомого увидел. Офицера, - растерянно ответил Павел.
– Пожалуйте в вагон. Поезд может тронуться.
Павел еще раз огляделся и поднялся по ступенькам обратно.
– Ты чего сорвался, как сумасшедший? - спросила его Матильда, когда он вернулся в купе.
– Я его знаю. Он жил у нас в гостинице.
– Кто?
– Ну, тот офицер с моноклем.
– Вот как? - спросил появившийся в дверях Доппель. - И как же его зовут?
– Фридрих фон Ленц. Только тогда он был обер-лейтенантом.
– А сейчас гауптман, - вставила Матильда. - Гауптман Фридрих фон Ленц. Звучит, как музыка.
– Помолчи, - строго сказал Доппель. - Что-то я не припомню офицера с такой фамилией.
– Он жил у нас в гостинице. Друг штурмбанфюрера Гравеса. Может быть, он что-нибудь знает о маме?
– Пауль, надо уметь сдерживать свои порывы. Может быть, офицер даже не помнит твою маму. Столько воды утекло! Только поставишь его в неловкое положение. Как, ты сказал, его зовут?
– Фридрих фон Ленц.
На станции три раза ударили в колокол.
Поезд дернулся. Медленно двинулось назад станционное здание. Дежурный в форменной фуражке. Группа жандармов…
Поезд вползал на территорию протектората Чехии и Моравии.
Павел долго не мог уснуть, все ворочался на мягком диване.
Отто храпел в своем углу. Ганс сидел у окна, облокотившись на столик. Занавеска была отдернута, и он смотрел в темноту своим замороженным взглядом. Поезд часто останавливался, Павла так и тянуло встать и тоже взглянуть в окно, а еще лучше пройти в тамбур и открыть дверь. А вдруг фон Ленц выйдет на какой-нибудь, станции?
Но Павел научился скрывать и свои желания и свои чувства, научился быть немцем. Наконец сон взял свое.
…Мимоза выходил на ярко освещенный манеж.
– А вот и я!
И смешно сгибался пополам…
Потом выбежала Мальва. За ней - Дублон.
Надо прыгнуть, а ноги как ватные… Дублон бежит мимо, удивленно косит круглым темным глазом: что ж ты?…
Надо прыгнуть… Прыгнуть… Что с ногами? "Мама!" - кричит Павел. Нет, не "мама" - "муттер". Даже во сне он помнит, что кричать надо по-немецки…
Он проснулся, поезд стоял. Не было ни Отто, ни Ганса. Он торопливо натянул бриджи, застегнул пуговки под коленями, сунул ноги в башмаки. Выглянул в коридор. Никого. Куда все подевались? Он открыл дверь в тамбур. Там стояла Матильда в халатике поверх длинной ночной рубашки.
– Ты чего тут? - спросил Павел.
– Так интересно! - воскликнула Матильда. - Сперва была стрельба, потом взрывы. Мама потеряла сознание, мы думали - партизаны.
– Какие партизаны? - удивился Павел.
– Не знаю. Папа не велел высовываться из вагона. Он пошел туда.
– Куда туда?
– В соседний вагон. Ну, такая была стрельба, такая стрельба!
Павел открыл наружную дверь, но у двери стоял Ганс.
– Сидите в купе! - строго сказал он.
Павел и Матильда ушли в купе и стали смотреть в окно. На маленькой станции было пусто и тихо, ни души.
– Кто же там стрелял? - спросил Павел.
– Мне холодно, - сказала Матильда жалобно.
– Иди оденься.
Матильда замотала головой.
– Боюсь пропустить чего-нибудь.
Они проснулись от грохота разрывов. Поезд еще шел. Доктор Доппель долго прислушивался. Фрау Анна-Мария побелела и затряслась от страха.
– Надо посмотреть, - сказал доктор.
– Не надо, - быстро ответила жена. - Тебя убьют.
– Кто? - криво усмехнулся Доппель. - Это наш протекторат.
– Партизаны… - У фрау Анны-Марии стучали зубы.
– Глупости. - Доктор оделся и выглянул в коридор. - Я прихвачу Отто и Ганса.
Он открыл дверь соседнего купе. Павел спал. Отто вскочил сразу. Отличная выучка. Ганс только повернул голову.
– Идемте, - сказал Доппель.
Они пошли в соседний вагон. Дверь из тамбура в коридор не открывалась. Что-то мешало. Ганс услужливо поднажал, протиснулся в образовавшуюся щель.
– Тут покойники.
Пахло пороховым дымом. На полу коридора в нелепых позах лежали два эсэсмана. В дальнем конце коридора тоже кто-то лежал. Из ближайшего купе вышел крупный мужчина в штатском с револьвером в руках.
– Кто такие?
– Доктор Эрих-Иоганн Доппель.
– Документы.
– Позвольте.
– Не позволю, - он обернулся к двери купе, сказал что-то неразборчиво. Оттуда тотчас появились еще один штатский и обер-штурмфюрер СС.
– Пройдите в купе, - мужчина говорил властно.
Доппель, Отто и Ганс двинулись в купе.
– Один. Остальным остаться на месте.
Доктор Доппель вошел. Стекло окна в купе было разбито. Ветер развевал занавески. В углу на диване сидел, съежившись, солдат, возле него два раскрытых чемодана. Вещи в них перерыты и лежали мятыми горками.
– Документы.
Доппель достал из внутреннего кармана пиджака паспорт и протянул мужчине в сером костюме.
– Оружие.
– Нету.
Мужчина бесцеремонно ощупал его карманы. Потом внимательно рассмотрел паспорт.
– Что вы здесь делаете?
– Слышал стрельбу.
– Ну и что? Вы всегда бежите на выстрелы?
– Но позвольте, что, собственно, происходит?
– Здесь вопросы задаю я. Присядьте. Так что вы делали в этом вагоне? Где вы едете?
– В соседнем.
– Один?
– С семьей.
– Куда?
– В Словакию.
– По делам?
– Я не могу вам ответить на этот вопрос.
– Мне вы должны отвечать на любой вопрос. Обер-штурмбанфюрер Шлифман, - представился он, сердито сдвинув белесые брови.
– Простите. По делам. Особое поручение партайгеноссе Бормана.
– Что за люди с вами?
– Мои подчиненные.
– Вам кто-нибудь знаком из едущих в этом вагоне?
Доппель посмотрел на солдата.
– Нет.
Шлифман впился в Доппеля взглядом, потом чуть прищурился.
– Фридрих фон Ленц. Вам ничего не говорит это имя?
– Гм… Имя я слышал. Если не ошибаюсь, он несколько дней жил в нашей гостинице в Гронске.
– В Гронске?
– Да.
– Что вы делали в Гронске?
– Комиссар рейхскомиссариата Остланд.
Шлифман кивнул.
– А где сейчас Фридрих фон Ленц?
– Представления не имею.
– Кто-нибудь из ваших людей его тоже знал?
Доппель подумал о Пауле. Ведь это парнишка увидел фон Ленца и хотел расспросить его о своей матери. Не хотелось бы впутывать его в эту странную историю. Гестапо - учреждение серьезное. Прилипнут - не отклеются.
– Нет, - сказал Доппель. - Никто.
– Вы разговаривали с ним? Он не сказал вам, куда направляется?
– Нет.
– Не сказал?
– Мы не разговаривали. Я его просто не знаю.
– Понятно. Не смею вас больше задерживать. Спасибо.
Доппель встал.
– И все же, господин обер-штурмбанфюрер, что произошло? Может быть, я смогу вам помочь? Почту за долг.
– Господин доктор, фон Ленц не совсем тот, за кого себя выдает.
– Выдает? - растерянно спросил Доппель.
– Если бы он был на самом деле тем, за кого себя выдает, он бы не поднял стрельбу и не бросил гранаты.
– Гранаты?
– Уложил пятерых. Объясните, зачем офицеру вермахта держать под рукой гранаты?
– Надо полагать, вы его прикончили? - уверенно сказал Доппель.
– Прикончим. Далеко не уйдет.
И обер-штурмбанфюрер посмотрел на разбитое окно.
Павел и Матильда прильнули к стеклу. Из соседнего вагона выносили эсэсманов и складывали у вокзальной стены.
Дверь купе открылась.
– Задерните занавески! - резко произнес Доппель. Он стоял в дверях хмурый, брови сдвинуты.
Но папочка… - попробовала возразить Матильда.
– И марш из купе. Мне надо поговорить с Паулем.
Матильда вышла.
– Пауль, никогда и нигде не произноси имя фон Ленца. Его ищет гестапо. Ты его никогда не видел и о нем никогда не слышал.
– Что случилось, господин доктор? Его убили? - Павел невольно посмотрел в окно, - среди трупов, лежащих у стены, не было ни одного в форме вермахта.
– Он выпрыгнул в окно.
– На ходу?
– Очевидно. Но его найдут. И возьмутся за всех, кто его знал. Ты можешь очень сильно подвести маму.
– Понимаю, господин доктор.
– Никогда не видел и никогда о нем не слышал, - повторил Доппель.
Дом стоял на маленькой узенькой улочке, которая упиралась в гору и превращалась в тропинку. Был он в два этажа, от улочки его отделяла каменная стена и палисадник. От глухих железных ворот, крашенных густой зеленой краской, к дому вела короткая каштановая аллея, выложенная серыми плитками. А вдоль стены высажены подстриженные кусты роз. Цветов еще не было, но на тонких колючих стеблях набухали бутоны. Над широким каменным крыльцом на двух толстых аляповатых колоннах покоилась плоская крыша, железо выкрашено той же густой зеленью. А возле самого крыльца стояла фигурка человечка в синей курточке, зеленых штанах и желтых башмаках с загнутыми носами. На голове красовался желтый колпак с кисточкой, глаза подкрашены синькой, на щеках румянец, улыбающийся рот чуть не до ушей полон белых зубов.
Человечек поразил Павла. Он был вырезан из целого куска дерева и раскрашен масляной краской. Вероятно, перед приездом хозяев его подновили.
Позже, когда Павел освоился с маленьким городком или большой деревней, он даже не знал, как правильнее, за многими оградами и заборами видел он фигурки - деревянные, гипсовые, даже грубо вырубленные из камня, потемневшие от времени и дождей.
За домом сад - вишни, черешни, груши. Стволы окопаны, на влажной земле розоватый снег лепестков. В углу сада - огород, из грядок торчит веселая зелень. А в другом - площадка, посыпанная мелким желтым песком: то ли для крокета, то ли еще для чего. Павел облюбовал эту площадку для утренней зарядки. Здесь ему никто не мешал, можно между упражнениями посидеть на плоском камне или поваляться на травке.
Впрочем, его никто в доме не тревожил. Доктор Доппель уезжал куда-то с Отто и возвращался поздно. Фрау жаловалась, что плохо спит на новом месте, и выходила из своей комнаты только к обеду или ужину. Завтрак фрау Элина относила ей в постель. Матильда не в счет. По утрам дрыхнет. Днем читает романы или качается в гамаке. Утро принадлежало Павлу, и он был очень рад этому. Иногда возле площадки, где он то крутился, то ходил на руках, возникал Ганс. Но Павел решил не обращать на него внимания, пусть себе глядит, не заморозит. Однажды он застал Ганса на площадке, тот пытался встать на руки, опираясь ногами в стену, и каждый раз сползал на землю мешком.
Павлу стало смешно. Он сунулся в кусты и зажал рот рукой, но Ганс успел заметить его, поднялся на ноги и, кажется, впервые посмотрел своими льдинками не куда-то сквозь, а прямо в лицо. Взгляд показался Павлу собачье-грустным.
– Не получается, - вздохнул немец.
Павлу внезапно стало жаль его. Не такой уж он и вредный! Типичный чересчур исполнительный немец.
– Это же так просто! - Павел встал на руки и пошел вокруг площадки. Влажная от утренней росы земля приятно холодила ладони, к ним прилипали мелкие песчинки.
Ганс смотрел на него, чуть приоткрыв рот. Потом глаза его остыли, он кивнул и направился к дому.
Павел упражнялся с большим удовольствием, взмокший, тяжело дыша, валился на траву и блаженно закрывал глаза. Знакомая усталость! Ничего, что ноют мышцы, это потому, что он проспал два года, два страшных немецких года. Он потерял форму. Но не потерял кураж. Не-ет!… Он и сам не мог бы объяснить, что разбудило его. То ли сад, который сразу напомнил ему яблони у школы в Гронске, они тоже были в цвету, когда с Петькой впервые пришли к школе. То ли сознание, что он уже не в Германии и Красная Армия совсем недалеко, за Карпатами.
Он делал упражнения, вслушиваясь в собственное дыхание, которое становилось все ровнее, и ему казалось, что рядом дышит Петр, стоит только повернуть голову - и вот свисают знакомые вихры, на порозовевшем от прилива крови лице сверкают светлые, как у мамы, глаза. Губы растянуты в улыбке.
Вот бы Матильда увидела их сразу, его и Петра! Ну и поморочили бы они ее дурную голову! И фрау Элина не знала бы, кому она наложила картофеля, а кто еще не получил. И Ганс разрывался бы на части, чтобы уследить сразу за двумя одинаковыми!… Да-а… Скоро, скоро накостыляют им!… Придет Красная Армия. И они опять соберутся вместе - папа, мама, Петр… Флич непременно выкинет какой-нибудь фокус. Фокусы у него всегда в запасе. Он их достает из кармана, из уха, из воздуха…
Павел поднялся с травы. Ничего, что ноют руки и ноги. Это проходит. Каждый раз, когда начинали тренироваться после болезни или долгого переезда, первые дни ныли мышцы. А сейчас он - после болезни, после переезда длиною в два года. Но он наберет форму. Может быть, надо будет выйти на манеж, когда придет Красная Армия. Он должен быть готов.
И еще одна мысль жила в нем: может статься, что и за ним погонятся гестаповцы, и ему, как фон Ленцу, придется прыгать в окно на ходу поезда или переходить по тонкому бревнышку над пропастью, да мало ли какие приключения могут выпасть на его долю! Надо быть готовым ко всему Мысли этой он еще не осознал, но она жила в нем подспудно под ворохом других мыслей.
Павел сделал несколько кульбитов, встал на руки, постоял на одной, потом на другой. И увидел двух человек. Они стояли на головах, опустив руки по швам, упирались головами в ветки дерева. Павел улыбнулся. Люди кажутся очень странными, если на них смотреть, стоя на руках.
Он встал на ноги. Старик и паренек. Откуда они здесь взялись? Ага, у старика в руках лопата, на голове короткополая, выгоревшая на солнце шляпа, поверх светлой рубашки - жилет, на ногах рыжие, пропыленные сапоги. Парнишка точно такой же, только уменьшенный и вместо шляпы на голове широкая солдатская пилотка. В руках - большие садовые ножницы. Садовники? Стоят и смотрят, словно на диковинку. Надо быть вежливым.
– Гутен та-аг! - поздоровался Павел, чуть растягивая "а-а", как истые берлинцы.
Старик приподнял шляпу.
– Добры день.
Это было так неожиданно, что Павел растерялся.
– Вы… вы говорите по-русски?
Старик и паренек переглянулись. Павел не заметил, что спросил по-русски.
– Найн, пан газда
[1], - сказал садовник, положил лопату на плечо, как ружье, и пошел в глубину сада.
Паренек двинулся следом, обернулся и показал Павлу язык.
Как же это он спросил по-русски? Услышал бы доктор… Но ведь и садовник поздоровался совсем по-русски. Сказал "добрый день".
Надо будет познакомиться с ними поближе. За ворота не пускают. Хоть здесь поговорить. А может, и за ворота пустят? По установившемуся порядку он ни разу и не пытался выйти на улочку.
Если забраться на чердак - все местечко видно. Крыши из черепицы, серой дранки. На окраине - то ли заводик, то ли фабричка. Два корпуса, тонкая железная труба день и ночь коптит небо. Когда с той стороны дует ветер, пахнет сгоревшим углем, как на железнодорожной станции. А дальше - горбатые горы, низкие, сглаженные временем, словно улеглось стадо больших неведомых зверей. И лес на их спинах, как густая шерсть. Не похож на гронские леса, а все же лес. И душа принимает его, как что-то свое, родное. И тянет туда.
На следующее утро Павел только начал зарядку, как заметил над каменной стеной три головы. Одна принадлежала вчерашнему пареньку, на уши была натянута широкая пилотка. Другая была светленькая и светилась на солнце, третья стрижена и от этого оттопыренные уши казались неестественно большими. Разглядеть он их толком не успел, потому что головы скатились со стены, как три колобка.
Тогда Павел сам решил залезть на ограду, взглянуть на незнакомцев. Он подпрыгнул, ухватился за шершавый край и, подтянувшись на руках, лег животом на прохладную стену. С той стороны под ней на корточках сидела троица и, видимо, совещалась: слышался шепот. Слов не разобрать.
– Добрый день, - сказал громко Павел.
Три испуганных лица повернулись к нему. Ребята отпрянули от стены. Светлая голова принадлежала девочке в вылинявшем ситцевом платье в горошек, поверх которого надета синяя кофта, явно великоватая ей. Девочка худенькая, кофта свисала с плеч, рукава закатаны. Стриженый, с большими ушами мальчик низкоросл и бос. Вчерашний знакомец казался самым старшим из них.
Павел разглядывал их с любопытством. Так непохожи они на берлинских мальчишек, засунутых в форму гитлерюгенда. Вот такие всегда вертелись возле цирка, в любом городе. И то же неуемное любопытство в глазах и настороженность. Наверное, готовы и подраться. Эх, Петьки нету! Показали бы они сейчас свой коронный номер - драку на двоих с бросками через голову!
Ребята стояли и глазели на Павла, как на диковинку. А может, он и в самом деле был для них диковинкой?
– Ну, чего глазеете? Глаза лопнут. Тебя как зовут? - обратился он к парнишке в пилотке.
Они не поняли немецкого. Девочка прыснула, заткнула рот кулаком и отвернулась.
– Немец, - произнес ушастый.
Паренек в пилотке ткнул его в бок.
– Пофайчить маш?
– Чего? - спросил Павел.
Девочка снова прыснула в кулак.
– Пофайчить… раухен…
Павел понял: просит закурить. Помотал головой: нету, мол.
Парнишка в пилотке пренебрежительно сплюнул сквозь зубы.
"Слезу, - решил Павел. - Потренируюсь. Пускай глядят".
Он спрыгнул на землю, побежал по кругу площадки, согнув руки в локтях.
Три головы возникли на стене. Пускай глядят. Павел прошелся арабскими колесиками, сделал кульбит, второй. И все - с удовольствием, словно на манеже. Была публика, а что может быть приятнее для артиста! Он прокрутил сальто, но приземлился неудачно, шмякнулся.
– Удрел са!
[4] - воскликнула девочка испуганно.
– Ние, - сказал ушастый. - Встане!
Павел встал, отряхнулся и засмеялся. И три головы над стеной засмеялись.
– Все. Представление окончено. Приходите завтра. - Он помахал ребятам рукой и направился к дому. А когда обернулся - голов над стеной уже не было.
И на другое утро их не было. Павел даже на стену забрался. Никого. А жаль - все-таки публика!
У доктора Доппеля были гости. Павел видел их, когда Ганс открыл железные ворота, впуская большой черный автомобиль. Из него вышли трое мужчин - высокий в черной сутане держал в руках черную плоскую шляпу. Он был настолько худ, что казалось - снять с него одежду, а под нею - скелет, как в кабинете биологии. Бледные, ввалившиеся щеки, глубоко запавшие глаза и белая лысина подчеркивали это сходство. Павел даже прислушался, когда патер шагнул к крыльцу, не раздастся ли стук костей. Следом из машины вышел офицер в незнакомой форме с большой кокардой на фуражке. Кокарда ослепительно блеснула на солнце. Офицер козырнул вышедшему их встречать Доппелю. Третий, маленький, круглый, в светлом клетчатом пиджаке, с фашистским значком на лацкане, в серых брюках гольф и коричневых крагах, делающих и без того толстые икры еще толще, все время улыбался какой-то плутовской улыбкой, искоса взглядывая по сторонам. Павлу показалось, он выискивает: что бы такое стащить? Все постояли с минуту на крыльце, обмениваясь первыми любезностями. Так что Павел их прекрасно разглядел. Потом ушли в дом.
В комнату без стука влетела Матильда.
– Пауль, видел? Какой мужчина!
– Ты о патере? Можешь изучать устройство скелета. Вернешься в Берлин, фрау Фогт будет довольна. Это - берцовая кость, это - коленная чашечка.
– Да ну тебя!… Вечно ты со своими глупостями! Я про генерала!
– О! Он генерал?
– Чуть ли не военный министр или что-то в этом роде. Мама велела нам быть готовыми. Они останутся к обеду.
– А кто тот, толстенький? У него вид человека, который или украл или собирается украсть.
– Не знаю. Они приехали из Братиславы. У папы с ними дела.
– С попом?
– Оставь, Пауль. Нельзя смеяться над служителем бога! Очень почтенный патер.
Павел посмотрел в окно.
– В горы хочется…
Матильда захлопала ресницами.
– Что там делать? Там же партизаны.
– Какие партизаны?
– Обыкновенные. Бородатые. С автоматами. Папа сказал, что они тут все партизаны. Никому доверять нельзя. Тут все шатается, в этой Словакии.
– Словацкая республика - союзник Германии, - назидательно произнес Павел.
– Географию я и без тебя знаю. Ты лучше посоветуй, что надеть, какое платье?
– Спроси у муттерхен.
– Мне интересна мужская точка зрения.
– Тогда спроси у Ганса.
– Тоже мне мужчина! - фыркнула Матильда.
– Вон идет садовник, - кивнул на окно Павел. - Могу познакомить. Он большой специалист по нарядам.
– А ну тебя! - Матильда надула губы и выкатилась из комнаты.
На аллее, ведущей от ворот, действительно показался садовник. Он шел медленно, чуть горбясь. Из-под короткополой шляпы выбивалась седая прядка. На этот раз он держал на плече не лопату, а короткую косу, но тоже, как ружье. "Наверное, был солдатом", - подумал Павел. Садовник остановился возле автомобиля. Внимательно посмотрел на него, чуть склонив голову набок. Казалось, что он сейчас откроет дверцу и усядется за руль.
– Добрый день, - сказал Павел.
Садовник поднял голову, посмотрел на Павла и улыбнулся. У него не хватало передних зубов. Потом молча поклонился и пошел в сад.
Павел тоже решил прогуляться. До обеда далеко, а слушать Матильдины глупости охоты нет. Ведь непременно прибежит: то тесемочку завяжи, то пуговку застегни. Шла бы к своей муттерхен с этими просьбами, так нет, непременно прикатится к нему. Знает, что ему тошно от ее тесемочек и пуговочек.
Павел спустился вниз и вышел через черный ход, вернее, вторую дверь, которая вела прямо в сад.
Окно в кабинете доктора Доппеля было открыто, оттуда слышались тихие голоса. Садовник стоял внизу, пошевеливая опущенной косой. Он явно прислушивался к голосам наверху, лицо было напряженным, застывшим. Увидев Павла, он двумя махами скосил траву у стены дома и направился в глубину сада.
Павел понял, что помешал ему, и подосадовал на себя. Знал бы, ни за что не вышел в сад. Пусть себе подслушивает. Уж наверняка не на пользу Доппелю!
Он двинулся следом за садовником.
Садовник стал обкашивать траву между вишнями.
Павел остановился, молча смотрел, как тот работает. Садовник снял шляпу, утер лоб рукавом рубахи.
– Вы извините, - сказал Павел. - И не бойтесь, я им ничего не скажу.
– Я не понимаю немецкий.
Павел усмехнулся:
– А слушали.
– Я - словак.
– А русский понимаете? - спросил Павел по-русски. Даже сердце сжалось, столько не говорил по-русски, заставлял себя думать по-немецки, чтобы не проговориться даже во сне. Старался быть немцем, как велела мама. Очень старался. Чтобы с ней и с Петром ничего не случилось там, в Гронске.
Садовник посмотрел на Павла внимательно, произнес, подбирая русские слова:
– Молодой пан другой раз говорит на русский. Русский немножко знам. Я был в Руссии. В Сибирь. В тот война. Военнопленный.
– Белочех, - сообразил Павел.
Садовник улыбнулся.
– Там оставлял свои зубы. Офицер стукнул винтовкой. Мы хотели домой, в Словакию.
– А дрались с нами, - укоризненно произнес Павел.
Садовник посмотрел на Павла озадаченно. Может быть, он забыл русский и плохо понял? Чехословаки не дрались с немцами.
– Нет. Немножко с большевиками. Немец - нет… Нет…
– Вы совсем не понимаете по-немецки? - спросил Павел.
– Очень чуть-чуть…
– А там?… - Павел кивнул на дом.
Садовник нахмурился.
– Думал, будут говорить словацки. Высокие паны… Может, что доброе скажут?
Нет, он подслушивал у окна неспроста. Сказала же Матильда, что здесь никому доверять нельзя. Все - партизаны.
Но ведь видел же он на вокзале в Братиславе штурмовиков в черной форме. Глинковские штурмовики. Кто такой этот Глинка? Вроде Гитлера у них, что ли? А у нас Глинка - композитор. Михаил Иванович Глинка. "Иван Сусанин". Иван тоже был партизаном. Завел врагов в лес.
– Как вас зовут, дедушка? - спросил Павел.
Старик не удивился. Только глаза у него стали печальными.
– Соколик Ондрей, - ответил он, вздохнув.
– А меня Павел.
– Пауль?
– Павел. - Он решился. - Я - русский. Я из России. Из Советского Союза. - Ах, как сладко, как гордо звучит: я - из Советского Союза!
Дед Ондрей Соколик, садовник, решил, что ослышался, не понял. Мало он знает русский, ох, мало. Молодой пан говорит что-то, а ему слышится бог знает что! Видано ли дело, чтобы у важного немца, от которого только и жди пакости, в доме молодой пан из Советского Звезу
[6]. Ослышался или не так понял.
– Пан Павел, просим…
[7] - пробормотал он обескураженно.
Павел только рукой махнул. Не поверил! Да и кто поверит, чтобы немец на глазах превратился в русского? И не докажешь ничем.
– Вы никому не говорите, что я - русский. Нельзя. Я тут хуже пленного, понимаете?
– Пленный понимаю. Я был пленный… Понимаю.
– Да не пленный я, дедушка. Увез меня доктор Доппель из России. Понимаете?
Ну вот, то - пленный, то - не пленный. Странный парнишка, а может, он того? Спятил?… Хотя говорит по-русски, как русский.
– Мой старший, Якуб, - солдат. На Руссии, - сказал дед Ондрей на всякий случай, чтобы молодой пан не подумал чего.
– Разве словаки воюют с Советским Союзом?
– Хей!…
[8] Война… Суха трава… Тяжко робить… Косить… - Он снял шляпу. - До виденья, пан. - Закинул косу на плечо, как ружье, и ушел.
Ах, досада какая! Не понял дед, ничего не понял. А может, притворился, что не понял? Боится? Не верит? Скажи Ганс, что он русский, - Павел не поверил бы. Да-а… Как в сказке - шкура лягушачья!
Гертруда Иоганновна соскочила с коня, похлопала по теплой, лоснящейся шее. Конь повернул к ней морду, покивал и тихонечко всхрапнул раздутыми ноздрями. Ему понравился этот легкий всадник с уверенной и ласковой рукой. Он был общим, конь, штабным, и кто только не седлал его, когда приходила надобность. Попадались такие, что и сесть толком в седло не умели, скакали рядом на одной ноге, засунув другую в стремя. Таких конь не слушался, на рысь не переходил, хоть плеткой его огрей, плелся неторопливо шагом, а то и вовсе останавливался и тянулся губами к сочной придорожной траве. Конь слыл упрямым, но не вредным. Всадников не сбрасывал. Может быть, поэтому и предложили Гертруде Иоганновне для поездки на лесной аэродром именно его. Все-таки женщина!
И пришлось всю длинную дорогу и "дяде Васе" и Алексею Павловичу трястись на своих одрах, чтобы не отстать. Конь в руках Гертруды Иоганновны оказался послушным и даже резвым. Знала она какое-то заветное слово, не иначе.
Две подводы с тяжелоранеными отстали. Дожидаться не имело смысла. Подводы сопровождал небольшой конвой, да и бояться некого. Немцы в эти места давно уже носа не кажут. Отвадили их раз и навсегда. Здесь - советская власть, советские законы. А вдоль границ района стоят вооруженные силы - партизанские отряды, готовые дать отпор хоть целой фашистской дивизии. Пусть только сунутся!
Гертруда Иоганновна полюбила и эти места, и людей. Она чувствовала себя нужной, причастной к великому бою с фашизмом, и к весеннему севу, и к осенней уборке урожая, когда вместе со всеми выходила копать картошку, тягать морковку и брюкву. Партизаны относились к артистке доброжелательно, но несколько настороженно. Она казалась им замкнутой, отчужденной.
Гертруда Иоганновна сменила прическу, попросту коротко остриглась. Стрижка омолодила ее, и появившаяся в волосах седина казалась неестественной.
Петр совсем отбился от рук. Жил в землянке у подрывников Каруселина, изучал какие-то шашки, заряды, мины. Несколько раз уходил с группами на задание. Не могла ж она ему запретить драться за свою землю, хотя и считала, что он еще мал. И когда он уходил, места себе не находила, сердце болело. Павел бог знает где! А тут еще Петр… Но она терпеливо ждала и только умолкала в эти длинные дни и ночи ожидания. Автоматически переводила захваченные у фашистов документы, не вникая в их суть, потому что мысли были заняты сыновьями. И Иваном, о котором она тоже ничего не знала.
Сколько веселых и смелых не вернулись с заданий, погибли в коротких стычках, подрывали склады, пускали под откос эшелоны врага ценою собственной жизни! А сколько падает на поле боя, засевая землю страшным посевом - кровью. Прорастут горькие всходы, горькие всходы. Но вырастут мир и покой. Не могут не вырасти.
Она думала о своих сыновьях, о муже, о себе, о цирке, о довоенной жизни, вспоминала милые, смешные и грустные мелочи. И старалась не вспоминать недавнее: гостиницу "Фатерланд", службу имперской безопасности, выпуклые глаза штурмбанфюрера Гравеса, лису Витенберга. Пережить это второй раз не хватило бы сил. Она была переводчицей в штабе партизанской бригады, переводила бумаги, переводила показания пленных. Она помогала перевязывать раненых в санчасти, чистила на кухне картошку, колола дрова, стирала и штопала рубахи. Она готова была делать здесь все, потому что это был ее мир, ее товарищи.
И даже не замечала, что в длинные дни и ночи ожиданий, когда она становилась молчаливой, мрачнел и Алексей Павлович. Он не смог бы определить своего отношения к Гертруде Иоганновне, любовь - не любовь, разве в этом дело? Он чувствовал себя как бы настроенным на одну с ней волну. Ее грусть передавалась ему, ее ожидание становилось его ожиданием. Удивительная женщина!
Аэродром был оборудован на лесной поляне, в месте трудно доступном для посторонних. Пришлось немало потрудиться, расширить поляну, спилить деревья, выкорчевать пни, разровнять землю. Пожалуй, нигде так не ощущалось единство Москвы и партизанского края, Большой земли и каждого далекого села, как здесь, на аэродроме. Только что не было здания аэровокзала да не висело расписание рейсов. Радио - тоже связь, голоса, цифры, точки-тире. Но здесь садились самолеты, и из них выходили живые люди, недавно еще шагавшие московскими улицами, говорившие с москвичами, деловито здоровались, разгружали оружие, боеприпасы, амуницию, продовольствие. Привозили газеты, корреспондентов, представителей Центрального штаба. Забирали раненых, прощались и взлетали в черное небо, чтобы, пройдя над лесами и полями, над неумолкающим гулом фронта, приземлиться в Москве. И выходило, что вот она, Москва, рядом, прекрасная и вечно живая. Она не спит, она думает о тебе.
Возле самого аэродрома их остановил паренек во флотской тельняшке, поверх которой на плечи накинута пятнистая простыня - коричнево-зелено-желтая, чем выкрашена, не поймешь. Ремень автомата через шею, на немецкий манер.
– Стой! Дальше прохода нет!
– Я - командир бригады "дядя Вася".
– Значения не имеет, - строго сказал паренек. - Прошу спешиться. - Он сунул в рот согнутый указательный палец и свистнул четырежды.
– Много свистишь, - сердито произнес "дядя Вася".
– Сколько положено. Вышестоящее начальство - четыре звонка.
– А нижестоящее? - полюбопытствовал "дядя Вася".
– Два.
– Почему не три?
– Три - командир корабля. То есть начальница аэродрома.
– Скажи! - удивился "дядя Вася". - И ты командира бригады дальше не пустишь?
– Так точно.
– В чужой монастырь со своим уставом не суются, - сказал Алексей Павлович и засмеялся.
Они спешились.
– Как фамилия?
– Старший матрос - партизан Федор Клюква.
– Старший матрос? - удивился "дядя Вася".
– Так точно. Меня, товарищ командир бригады, со службы никто не списал. Считаю себя призванным, - ответил Клюква с достоинством.
– Ну, извини, если что не так, - кивнул "дядя Вася".
Из кустов появилась женщина в черной юбке, солдатской гимнастерке и кирзовых, изношенных сапогах. На плечах точно такая же рябая простыня завязана тесемками у шеи.
– Товарищ командир бригады, аэродром в полном порядке.
– Здравствуй, товарищ Колокольчикова. Как жизнь? - "Дядя Вася" с видимым удовольствием пожал ее руку.
– Нормально.
– Вижу. Это что за нововведение? - он потрогал простыню.
– Маскировка. Нет-нет - рама летает. Никакого резона нету себя обнаруживать. - Колокольчикова с любопытством поглядывала на Гертруду Иоганновну. Больше года действует партизанский аэродром, и больше года она отсюда не отлучалась. И команда у нее надежная, никакой работы не боится. Днем и ночью наготове кучи сухого хвороста - поджечь только. Днем и ночью зорко следят за округой, за лесом, за небом. Скучновато, конечно, зимой снег разгребать, осенью под дождями мокнуть, летом на солнышке потеть. Но все понимают, что для партизанского края аэродром!
– Ну, верно… - одобрил "дядя Вася" и весело прищурился на Клюкву. - Слышь, старший матрос, какой же ты флотский чин дашь Колокольчиковой?
Клюква шутки не принял. Ответил серьезно:
– Вообще-то на флоте женщин не держат, а по характеру - не меньше как капитан-лейтенант, товарищ командир бригады.
– Слыхала, Колокольчикова?
– А мне что капитан, что лейтенант, - засмеялась Колокольчикова. - Милости прошу к нашему шалашу. - Она сделала широкий приглашающий жест рукой.
"Дядя Вася" и Гертруда Иоганновна двинулись вперед, ведя на поводу лошадей.
"Шалашом" оказалась добротная землянка. Место для нее выбрано так, что кроны деревьев прикрывали ее сверху. Неподалеку от землянки виднелась сложенная из камней печь, возле хлопотала немолодая женщина в черном глухом платье и черном головном платке. Из печки вился и рассеивался в листве тонкий светлый дымок.
– Летний камбуз, - сказала Колокольчикова.
– Что? - не понял "дядя Вася".
– Камбуз, говорю. По-простому, кухня.
– Ну, заморочил тебе голову старший матрос Клюква.
– Кокой меня обзывает, - засмеялась женщина у печи. - А я как есть куфарка.
"Дядя Вася" заглянул в землянку.
– Осторожно, у нас там трап в четыре ступени, - предупредила Колокольчикова.
"Дядя Вася" только головой покачал: ну Клюква!
Прибывших накормили отварной картошкой, заправленной салом, напоили чаем из каких-то одной "куфарке" ведомых трав. Чай был приятный, пах мятой.
Солнце накололось на верхушки деревьев, когда подкатили отставшие подводы. Их поставили возле самой поляны в кустах.
Кто-то тихонько стонал, кто-то скрипел зубами, сдерживая боль. Двое в беспамятстве. Врач переходила от одного к другому. Успокаивала.
– Потерпи, родной. Всего ничего осталось. Вот придет самолет, погрузитесь, а там - Москва. Там такие профессора, мертвых оживляют, а вы - живые, слава богу, еще вернетесь. Повоюете!
Когда зашло солнце, один из раненых умер, тихо, словно не хотел тревожить товарищей. Так же тихо его отнесли в сторонку.
Гертруда Иоганновна плакала. Она все время думала о Петре, который остался в лагере, о Павле, о котором нет известий, об Иване, который воюет. А может быть, вот так же его отнесли в сторонку и положили на землю?
Подошел Алексей Павлович, осторожно взял ее руку в свою. Рука у него была горячей, тревожной.
– Не надо, Гертруда Иоганновна, нельзя. Им горше, чем нам.
– Да… да… - Она шевельнула припухшими губами. - Да… - утерла глаза.
В черном небе высыпали звезды.
– Еще луна выползет, - сердито сказала Колокольчикова и скомандовала: - По местам, хлопцы.
Три тени скользнули на поляну.
Глаза привыкли к темноте. Гертруда Иоганновна отчетливо видела стволы деревьев, дальний край поляны. Белые бинты раненых голубовато светились, как лесные гнилушки.
Откуда-то сверху донесся легкий гул. Она подумала, что ветер прошел по верхушкам деревьев. Но ветра не было.
И в ту же секунду Колокольчикова громко крикнула:
– Зажигай!
Три костра одновременно вспыхнули на поляне, вспыхнули сразу ярко, затрещали, политые чем-то горючим.
Гул нарастал. И вот из черного неба вывалился черный силуэт самолета, пролетел над поляной, исчез за лесом, как огромная ночная птица.
– Всем стоять на местах! - крикнула Колокольчикова.
И все остались стоять на местах, потому что она была тут хозяйкой, начальница партизанского аэродрома, она, и больше никто.
Самолет появился с другой стороны, совсем над верхушками деревьев. Казалось, вот-вот сшибет их и рухнет сам.
– Чумаков! - прокричала Колокольчикова. Она уже узнавала летчиков по почерку, по манере садиться.
Самолет остановился в дальнем краю поляны. К нему побежали от костров тени. Помогли развернуться носом к поляне.
– Пошли на разгрузку-погрузку! - скомандовала Колокольчикова, и все бегом бросились за ней.
И Гертруда Иоганновна побежала. И "дядя Вася". И Алексей Павлович… Только раненые и доктор остались.
В фюзеляже раскрылась дверца, опустилась короткая металлическая лесенка. Выскочили летчик и стрелок-радист.
– Здорово, Колокольчикова! - Чумаков облапил начальницу. - Принимай груз.
– Как долетели?
– Постреляли малость. Ну, да мы воробьи и раньше стреляные. Раненых много?
– Есть.
Приходилось громко кричать, потому что моторы ревели, их не глушили. Мало ли что!
– Скоро закроем ваш аэродром! - крикнул Чумаков.
– Что так?
– Похоже, пешком сюда пойдем.
– Дай-то бог! - крикнула Колокольчикова.
Между тем команда ее быстро принимала от стрелка-радиста какие-то тюки и ящики, относила в сторону в лес.
Чумаков подгонял:
– Давай быстрей, ребята. Раненых подносите. Ночь коротка.
Сначала погрузили раненых. Потом поднялись по лесенке кто улетал. Стрелок-радист втащил лесенку, закрыл дверь.
– Готов!
"Как в метро", - подумала Гертруда Иоганновна. Она сидела между врачом и Алексеем Павловичем. Было тесно. Оглушительно взревели моторы. Самолет дернулся, побежал по поляне. Казалось, вот-вот врежется в летящие навстречу стволы. Но внезапно взмыл и пошел над лесом. Появилось неприятное ощущение, будто желудок куда-то проваливается.
– Который раз лечу, а привыкнуть не могу! - прокричал Алексей Павлович прямо в ухо Гертруде Иоганновне.
Она повернулась к круглому окошку. Внизу было темно и жутко. Не поймешь, что там: лес, поле, а может быть, уже ничего, летим вверх и кругом только небо!
Она никогда еще не летала, и то ли от ночного мрака, то ли от тесноты не было никакого ощущения полета. Скачешь на лошади и то - летишь! А тут только тошнота и встряски, будто небо все в ухабах, как проселок в лесу.
Вскоре внизу появились отдельные вспышки, в стороне - горящее строение. Все казалось нереальным.
– Фронт! - крикнул Алексей Павлович.
Гертруда Иоганновна совсем прилипла к окну. А вдруг там, внизу, Иван? Как будто она могла увидеть его…
– Не страшно?
Она покачала головой. Некогда бояться.
А потом снова неслась внизу черная ночь, казалось, не будет ей конца. Врач встала, наклонилась над ранеными. Отпрянула.
– Еще один…
Ах, война распроклятая!
На аэродроме их встретил молодой человек в военной форме. На плечах красовались золотые погоны с четырьмя маленькими звездочками и красным просветом. Гертруда Иоганновна слышала, что в армии ввели погоны, но видела их впервые.
– Прошу в машину.
"Дядя Вася" оглянулся на самолет. Там выгружали раненых. Прямо к самолету подошли санитарные машины.
– Не тревожьтесь, товарищ генерал. Все сделают. Медицина.
"Дядя Вася" удивленно посмотрел на него.
– Я не генерал.
– Генерал, товарищ генерал, - скупо улыбнулся военный. - Приказ видел.
Они сели в "эмку". Машина побежала сквозь ночь.
– Как Москва? - спросил Алексей Павлович.
– Живет.
– А куда мы сейчас?
– Приказано в гостиницу.
Гертруда Иоганновна так устала, что уснула, склонив голову на плечо Алексея Павловича, а тот боялся пошевельнуться, чтобы не потревожить ее.
Она даже сон видела, что идет по Москве, а кругом люди, шумно.
А когда проснулась - увидела за окошком улицу Горького. Шли редкие прохожие. Светало. Так она и проспала самое главное - въезд в Москву. Да что ж это она, в самом деле? Столько мечтала об этом дне там, в фашистском аду, столько ждала его. И вот - проспала.
Она беспомощно улыбнулась и приникла к окну.
Алексей Павлович понял ее.
– Ничего. Еще наглядитесь.
Машина спустилась по улице Горького вниз. Подкатила к подъезду гостиницы "Москва".
Их разместили на разных этажах. Гертруда Иоганновна оказалась на десятом. Номер был огромный, с двумя кроватями, большим шкафом, трельяжем, письменным столом, ванной. "Весь штаб можно разместить. Побольше землянки", - подумала она и открыла окно. И тотчас в комнату ворвался шум города. Москва жила, Москва дышала. Внизу по Манежной площади бежали маленькие автомобильчики, по тротуарам шли крохотные человечки. Москвичи, не пустившие фашистов в свой город, в ее город, в наш город! Ей хотелось крикнуть: "Здравствуйте, москвичи! Здравствуй, Москва!" Горло перехватило. Она отошла от окна, послонялась по комнате. Сейчас бы вещи разобрать! Но вещей не было. Все - на ней.
Она подошла к зеркалу. Как давно не видела себя в зеркале! На нее глянула худощавая стриженая женщина с легкой сединой в волосах. На похудевшем, обветренном лице глаза казались огромными. Гимнастерка ладно обтягивала фигуру. Гимнастерки ее размера в бригаде не оказалось, ей выдали большую, она сама перешивала ее. Хотя бы губы подкрасить! Обветренны, потрескались. Она провела языком по губам и ощутила их грубость. Косметики не было никакой. Девчата рыскали по всему лагерю, собирая ее в дорогу, но так ничего и не нашли.
Она посмотрела на свои сапоги. Да, далеко им до лакированных туфелек! Но вид вполне сносный… Нет, неловко появляться в таком виде на московских улицах.
Посмотрела на укрытые пестрыми покрывалами постели. Спать завалиться? Военный сказал, что свободны до тринадцати ноль-ноль. Как же можно в Москве спать! Нет! Нет-нет… Бог с ним, с внешним видом. Не голая. Война. Она надела перед зеркалом пилотку, кокетливо, чуть набок. И решительно пошла вниз.
Москва обняла ее шумом улицы, сочными гудками автомобилей. Она вышла к Большому театру, постояла возле входа в метро. Но войти не решилась. Не было денег. Ни копейки. Потом медленно пошла мимо ЦУМа, по Кузнецкому вышла к площади Дзержинского. Потом шла какими-то незнакомыми переулками. И сама не заметила, как оказалась в тихой улочке возле Управления цирками. Сердце забилось. Может быть, здесь знают что-нибудь об Иване? Зайти? А не рано? Да нет. Сколько она уже ходит по Москве!
Она вошла. В тесном коридоре было шумно. Сновали незнакомые люди с какими-то бумагами. Гертруда Иоганновна остановилась, стала всматриваться в лица, отыскивая знакомое. Потом подошла к двери с табличкой: "Сектор кадров". Вздохнула глубоко, умеряя волнение.
За столом сидела полная седая женщина в очках. Стекла увеличивали глаза, они казались неестественно большими и черными. В комнате за другими столами еще сидели люди, но Гертруда Иоганновна видела только седую женщину. И никак не могла вспомнить, как ее зовут.
– Здравствуйте…
– Здравствуйте. Слушаю вас. - Черные глаза смотрели сквозь стекла прямо.
– Я - Лужина… Не помните меня?
– Лужина?… Позвольте… - Женщина сняла очки, глаза стали маленькими и беспомощными. Она потерла переносицу. - Позвольте… - Очки водрузились на место, глаза увеличились и потемнели. - Лужина? - Теперь женщина смотрела удивленно.
– Да.
– А вы разве… Вас выпустили? По нашим сведениям, вы были арестованы в начале войны органами, - сказала женщина неприязненно и поджала губы. - Вас выпустили?
Гертруда Иоганновна растерялась. Что ответить? Говорить правду нельзя. Не время. Она уже пожалела, что пришла сюда.
– Как видите… Я хочу узнавать, нет ли у вас каких-нибудь известий о моем муже, артисте Лужине Иване.
– Отдел кадров частным лицам сведений не дает, - решительно произнесла женщина за столом.
Гертруде Иоганновне показалось, что за стеклами очков сверкнула молния.
– Простите… - Она повернулась и вышла.
Как обидно! Как тягостно! Лица встречных в коридоре расплывались. Она кусала губу, сдерживая слезы.
Не помнила, как дошла до гостиницы. В вестибюле второпях она наткнулась на какого-то генерала.
– Простите…
Генерал схватил ее за руку, сказал сердито:
– И не подумаю. Бегают тут как оглашенные. Генералов толкают!
– "Дядя Вася"! Господи! - воскликнула Гертруда Иоганновна, сложила ладошки и прижала их к подбородку.
Наверное, у нее был очень смешной вид, потому что генерал-майор в новенькой форме с орденами на мундире не выдержал роли строгого генерала и рассмеялся.
– Ну как? - спросил он, бросив взгляд по сторонам, не слышит ли кто этого глупого вопроса.
– Ошень!…
– А сапоги, скажу тебе по секрету, жмут маленько. Куда? - спросил "Дядя Вася", заметив, что Гертруда Иоганновна хочет уйти. - Сейчас машина будет. А вот и Алексей Павлович.
Тот тоже был в форме. На золотых погонах два просвета и две большие звездочки.
– А я в таком виде… - Гертруда Иоганновна прижала руки к груди, словно хотела прикрыться ими.
– Вид самый нормальный, - сказал "дядя Вася".
В вестибюль вошел молодой военный, что встречал их на аэродроме, козырнул:
– Машина у подъезда, товарищ генерал-майор.
– Едем.
В небольшом зале на клубных стульях, сбитых в ряды планками, сидели мужчины и женщины, военные и штатские. Они прибыли из фашистских тылов в столицу, в Центральный штаб партизанского движения, чтобы решить неотложные вопросы, скоординировать с армией свою борьбу в тылу, посоветоваться.
В зале стоял шумок. Потом он стих. Все встали, потому что в зал вошел Маршал Советского Союза, которого вся страна знала в лицо.
– Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик поручил мне, дорогие товарищи партизаны и партизанки, вручить вам боевые награды, ордена и медали за ваш самоотверженный героизм, с которым вы бьете фашистов, как говорят у нас на Руси, в хвост и гриву! Что я с большим удовольствием и сделаю, дорогие мои соратники.
Потом вызывали к длинному столу, покрытому красной бархатной скатертью, партизан и партизанок и вручали им награды. Вместе со всеми Гертруда Иоганновна хлопала в ладоши и счастливо улыбалась. Она не знала этих людей, но они были такими же, как те, что уходили на задания в ее лесу, в ее бригаде. Ну точно такими же, только очень взволнованными.
– Лужина Гертруда Иоганновна.
Она не сразу сообразила, что вызывают ее, и повернула лицо к сидящему рядом Алексею Павловичу. Тот улыбнулся:
– Ну что же вы!…
Она встала, одернула гимнастерку и пошла к столу. А люди кругом смотрели на нее и хлопали ей. Они не знали Гертруду Иоганновну, но она была такой же, как они и их товарищи. И Гертруда Иоганновна чувствовала это. Она остановилась у стола перед Маршалом.
А Маршал смотрел на нее и улыбался. Потом сказал:
– Наслышан, наслышан… Рад познакомиться.
– Награждается орденом Красной Звезды, - раздалось рядом.
Маршал протянул ей красную книжечку и маленькую коробочку. Они легли на ее ладонь. Надо сказать то же, что говорили все, но она забыла, что надо сказать.
– Вторым орденом Красной Звезды, - прозвучало рядом. - И медалью "Партизану Отечественной войны первой степени".
И еще две коробочки легли на первую. Она подхватила их обеими ладонями, чтобы не уронить.
– Спасибо, товарищ маршал, большое спасибо… Я… Я всегда… - Она повернулась лицом к сидевшим и хлопающим людям. Увидела улыбающегося Алексея Павловича и "дядю Васю" и еще много-много светлых родных лиц. На мгновение ей показалось, что она видит Флича, и Федоровича, и клоуна Мимозу, и своих мальчишек. И Злату… Всех.
Она набрала в легкие воздуха и сказала отчетливо и громко, чтобы все они слышали, все:
– Служу Советскому Союзу!
– Не надо забывать, что именно мы, немцы, дали самостоятельность словакам.
Гости - патер, генерал и толстый с бегающими глазами - согласно кивнули. Вопреки привычке есть молча, доктор Доппель все время говорил. Павел прислушивался, присматривался, пытаясь понять, о чем речь. Но суть ускользала. Продолжался разговор, начатый в кабинете, а начала Павел не слышал. Когда ушел садовник, он пробрался под окно кабинета. Но окно оказалось закрытым.
– Вы недооцениваете коммунистов, - продолжал доктор. - Да-да, не усмехайтесь, господин пастор, коммунисты не придут к вам исповедоваться. У них - свой бог, классовая борьба.
– Мы уничтожили классы! - воскликнул толстый. - У нас в Словакии нет классов. Мы - единый словацкий народ! Единый! И мы не позволим ни коммунистам, ни социал-демократам, никому разрушить наше единство. Мы, словаки, строим свое национальное государство. Общенациональное!
– Ваше стремление мы понимаем, и фюрер поддерживает его. Но вы недальновидны. Вы сейчас подобны глухарю на току. Тот тоже поет и в это время слышит только сам себя. А между тем мы имеем сведения, что коммунисты, социал-демократы и другие, как вы изволили выразиться, ищут общий язык. Если они найдут его, вам придется туго.
– У нас армия, - важно произнес генерал.
– Среди солдат есть те же коммунисты, социал-демократы и прочие.
– Святая церковь направит свою паству, - сказал патер, молитвенно сложив ладони.
– Не сомневаюсь, - наклонил голову Доппель. - И все же в Словакии неспокойно.
– Вы имеете в виду партизан? - сморщил нос толстый. - Кучки уголовников. Ждут обоз пожирнее, чтобы ограбить. Сидят в горах, жрать нечего. Или перемрут с голоду или сами придут, с поднятыми руками. В Словакии это не пройдет. Словакия не Россия.
Доппель покосился на Павла. Павел неторопливо резал мясо, глядя в тарелку.
– Я имею в виду коммунистов…
– Коммунисты у нас вот… - Толстый сложил пальцы решеткой и сквозь них посмотрел на всех по очереди плутовским взглядом. - Вот. Вместе с вашим Марксом, - и он хихикнул, довольный тем, что уязвил Доппеля.
– Маркс был евреем, - отпарировал Доппель.
– Тем более. У нас в Словакии этой проблемы нет!
– Святая церковь не допустит, - патер снова сложил молитвенно ладони.
– Армия выполнит свой долг, - произнес генерал.
Доктор Доппель нахмурился.
– Все это прекрасно, господа. Но должен предупредить вас: пока на свободе хоть один коммунист - нельзя успокаиваться. А если сюда, - дай господь, придут русские - Словацкому государству конец. Вспомните, коммунисты всегда были против словацкой самостоятельности. Вот почему вы должны, господа, вы обязаны помочь нам, немцам, разгромить русских. Это в ваших интересах, господа.
"Придут русские, придут, - злорадно подумал Павел. - Вы еще повертитесь, господа!"
Матильде было скучно. Все это - политика! Политика ее не интересовала. Она бросала на генерала долгие взгляды. Поймав их, генерал начинал перекладывать с места на место вилку и нож или вертеть в пальцах хрустальную рюмку.
Павла это отвлекало. Он не все улавливал в разговоре за столом, но одно понял: в самые ближайшие дни штурмовики и полиция пройдут "с частым бреднем". Что это такое "с частым бреднем"? Немцы передали словакам какие-то списки. Поскольку словацкие тюрьмы переполнены, они готовы, в порядке дружеской помощи, предоставить словакам места в своих лагерях. Словаки, в свою очередь, должны увеличить поставки Германии. Даже если для этого придется подтянуть собственные ремешки. Доктор так и сказал. Это в общих интересах.
Когда гости распрощались и уехали, Доппель, провожавший их, вернулся в столовую.
– Спасибо, Анна, - поцеловал он руку жены. - Все было прекрасно! - И добавил: - Как мельчают люди!
Утром садовник косил между деревьев траву. Павел поздоровался. Постоял рядом. Спросил, как бы между прочим:
– Скажите, пан Соколик, что такое "частым бреднем"?
– Просим?… - Старик явно не понял.
– Ну, бредень… сетка такая…
– Сиеть?… О!… Хитать рыбы!… Ловить…
– Ловить… Да… Вчера они говорили, что полиция и штурмовики пойдут "с частым бреднем". Я понял. Они будут ловить рыбу. По спискам.
– Рыбы?… - Старик пожал плечами. - Что есть "спискам"?
– Немцы передали им списки… Списки… - Павел вытянул левую ладонь и стал на ней писать воображаемым карандашом.
Лицо Соколика напряглось, морщины сбежались у глаз.
– Имя. Фамилия, - сказал Павел. - Соколик Ондрей.
– Понял, - старик кивнул. - Мено а приезвиско. Я есть Соколик Ондрей. Мено а приезвиско.
– Вот. Список. - Павел снова стал писать на ладони, повторяя: - Мено а приезвиско, мено а приезвиско… - И добавил шепотом: - Коммунистов.
Морщины от глаз разбежались по щекам.
– Похопил
[9]… - Садовник посмотрел на Павла внимательно. Взгляд острый, испытующий. Павлу он показался вдруг потеплевшим. - Понял… Часты сиеть… Хитать рыбы… Спасибо, приятель…
Павел повторил:
– Список. Мено а приезвиско…
– Спасибо. Ты скуточны
[10] русский. Спасибо. Мой внук - Янко. Просишь меня. Деда Ондрей.
Павел понял, кивнул.
– Список. Регистер, - старик задумчиво подвигал губами, словно жевал что-то. - Рыбы будут уйти. От часты сиеть.
Несколько дней садовник не появлялся. Павел не знал, что и подумать. И ребята не появлялись.
Матильда валялась в гамаке с книгой в руках. Вокруг нее вилась оса. Матильда отгоняла ее рукой, и гамак при каждом движении вздрагивал под ее крупным телом.
"Сеть для рыбы. Частый бредень", - подумал Павел. Сходить бы в городок, разыскать садовника. Он не знает даже, где тот живет. В какой стороне - у гор, у заводика, у шоссе?
– Графиня, вас не утомила война с осой?
– Я ее боюсь.
– А она тебя боится… Давай вылезай из гамака, пройдемся.
Оса уселась на Матильдину ногу, и Матильда так сильно хлопнула ее со страху книжкой, что вскрикнула сама.
– Теперь синяк будет.
– Хуже… - мрачно сказал Павел. - Сейчас налетят ее подруги. И от тебя останется половина.
И в самом деле рядом зажужжала оса.
– Ой!
Павел взял Матильду за руку и потянул из гамака.
– Вставай, вставай, пока цела…
– Спасибо, маркиз, вы спасли мне жизнь! Я этого никогда не забуду.
– Пройдемся?
Матильда развела толстыми руками, разом показывая на деревья, кусты, цветы.
– Где?
– По городу, - предложил Павел.
Глазки Матильды вспыхнули светлыми огоньками.
– Верно?
– Ну, я ж тебя приглашаю.
Она сделала глубокий реверанс.
– Благодарю, маркиз.
– Только если ты будешь заглядываться на встречных мужчин, я накостыляю тебе по шее.
Ах, как он знал эту толстуху!
Она оглядела себя.
– Подожди. Я только переоденусь.
– И спросись у муттерхен.
– У нее сегодня мигрень.
Матильда побежала в дом и вскоре появилась в воздушном бежевом платье, которое необыкновенно толстило ее.
– Как я гляжусь?
– Великолепно! - воскликнул Павел. - Как облако дыма из большой трубы!
– Из тебя никогда не выйдет настоящего светского кавалера, - вздохнула Матильда. - Идем!
– Ворота заперты.
– Я велела Гансу отпереть.
Из дверей дома вышел заспанный Ганс. Посмотрел на парочку и усмехнулся.
– Ненадолго, молодые люди. Вернетесь - позвоните.
– А чего там делать долго? - проворчал Павел, делая вид, что идет безо всякой охоты, из-за Матильды.
Они вышли за ворота. Улочка, посыпанная плоскими камешками, сбегала вниз и была пуста. Ни души. Полдень. Кому охота вылезать на жару?
– Возьми меня под руку, - попросила Матильда.
– Ну да!… Ты, как печка.
– Но я могу упасть!
– На землю, не на небо, - засмеялся Павел.
Они двинулись вниз. Позади раздался непонятный грохот. Оба обернулись. И Павел увидел знакомую троицу, по-лошадиному топая, ребята сбегали сверху, придерживая маленькую тележку на четырех колесиках с деревянными бортами. Тележка была доверху набита хворостом. А железные обода колес гремели на камнях.
Павел обрадовался, но виду не подал, следил, как они приближаются. Матильда заткнула уши.
– Т-р-р-р… - крикнул внук Соколика, когда они поравнялись с Павлом и Матильдой.
Тележку остановили. Все трое уставились на Матильду.
– Матильда, ты имеешь успех у туземцев, - сказал Павел. - Теперь они будут рассказывать, что видели неземную красоту. - И добавил по-словацки: - Добры день.
Матильда снисходительно улыбалась. Этот, в солдатской шапке, если его отмыть и переодеть - парень хоть куда!
– Добры день, - ответил Янко.
– Як дедушка Ондрей? Здоров ли? - спросил Павел.
Янко кивнул.
– Дедко одишнел до дедины.
Павел не понял.
– До дедины, - пояснил Янко, прогудел паровозом и, согнув руки в локтях, задвигал ими, подражая паровозу.
Спутники его засмеялись.
– Понял… Уехал.
– До дедины, - повторил Янко и посмотрел на Матильду. Матильда состроила ему глазки. Янко снял пилотку.
– До виденья, пани. - Он что-то сказал товарищам, и тележка загремела дальше.
– На каком языке ты с ними говорил? - спросила Матильда.
– Сам не знаю, - ответил Павел. - Идем. - "Дедина, дедина… Вероятно, где жили деды… Может, деревня - дедина?"
Тележка быстро удалялась и свернула на боковую улицу. Павел остановился на перекрестке. Ребят в боковой улице уже не было. "Живут где-то здесь", - подумал Павел.
Через центр городка проходило асфальтовое шоссе. По нему двигалась колонна грузовиков. Над ними висел синий вонючий дым. По обеим сторонам шоссе тянулись одноэтажные и двухэтажные дома за зелеными палисадниками, отгороженными от шоссе высокими вязами и липами. Тень от деревьев лежала на панели причудливыми кружевами и не давала прохлады. Внезапно дома отодвигались, образуя площадь. Здесь были ресторан, магазин, в витрине которого была выставлена обувь, кофточки, висело духовое ружье на фоне пестрой материи. Дальше какие-то маленькие лавочки, кафе. И в самом конце - бензоколонка.
Матильда хотела зайти в магазин, но поперек открытой двери стояла палка. Обед.
– Какой убогий городок! - поморщилась Матильда. - Хочу в Берлин.
– Соскучилась по бомбежкам? - ехидно спросил Павел.
– Там хоть люди, - сказала Матильда.
– Везде люди.
В боковой улочке над всеми домами возвышался костел, а за ним - кладбище, огороженное невысокой стеной с сохранившейся кое-где штукатуркой.
– Зайдем, - предложил Павел.
– Это же кладбище!
Павел двинулся к открытым воротам. Матильда побрела следом. Кладбище уступами взбиралось на холм. У могильных памятников кое-где стояли черные квадратные фонарики.
Среди богатых мраморных надгробий попадались убогие холмики, обложенные дерном, с деревянными или железными крестами. Даже в смерти люди не были равны. Возле одного холмика стоял вырезанный из жести, распятый на кресте Иисус, у ног его лежали привядшие букетики цветов.
– Пойдем, Пауль, - тихо сказала Матильда.
Надписи, надписи… На словацком, на немецком… Латынь… И вдруг: "Рабъ Божий Михаил Ивановъ Костылевъ. Мир праху твоему". По-русски. Надпись стерта, плита покосилась.
Кто он, этот Михаил Иванов Костылев? Павел пожалел, что нет у него в руках цветов. Он бы положил их на могилу неизвестного Костылева.
– Русский, - сказал Павел и вздохнул.
– А рядом - немец, - произнесла Матильда.
– Вот именно. В одной земле.
Они двинулись к воротам. Павел думал о матери и брате. Почему нет писем? Может быть, они погибли? Ведь война ж! И папа погиб? И остался он один-одинешенек на свете? Похоронят, как этого Костылева на чужбине. "Раб божий Павел Иванов Лужин. Мир праху твоему".
Ужасно, как кладбище действует! Он покосился на Матильду. Матильда смотрела куда-то вбок, щуря от солнца глаза. Павел взглянул туда же. Неподалеку возле могилы стояли двое солдат, тихо переговариваясь. К ним шел старик. Павел узнал Соколика. На нем был черный пиджак, в руках кепка и цветы.
Соколик поравнялся с солдатами, сказал им что-то, почти не останавливаясь, и пошел дальше.
Как же так? Ведь Янко сказал, что дед уехал в какую-то дедину?
Солдаты направились вниз к воротам. Павел пригляделся. Не может быть! Но эта прямая спина, гордая посадка головы. Гауптман фон Ленц. Монокля нет. И форма… Обмотки на ногах. Грубые башмаки. Гауптман - и вдруг рядовой словацкой армии.
Солдаты исчезли за воротами. Фон Ленц это был или не он? Просто похожий?
– День добры, - сказал Соколик, подходя и утирая рукавом вспотевший лоб. - Чи панство спацирует?
– Хей… День добры, пан Соколик. Вы не уехали на дедину? Я видел Янека.
– Ано. Я уехал на дедину.
– Мне знаком один из тех солдат.
Соколик покосился на Матильду.
– Непознам тых вояков. До виденья.
– До виденья, пан Соколик.
Старик пошел к воротам.
Знает он этих солдат. Только вид делает, что не знает.
– О чем ты с ним говорил?
– Ни о чем, - ответил Павел. - Забавный старик. Идем.
Они спустились к воротам и вышли на улицу.
До чего же похож солдат на фон Ленца! Если бы не Матильда, он бы подошел. Может быть, фон Ленц, если это, конечно, он, знает, что с мамой? Слишком долго нет писем.
Вечером вернулись из Братиславы Доппель и Отто. Наскоро поужинав, они заперлись в кабинете доктора. Потом Отто прошел в свою комнатку под лестницей. Павел бывал там. Комнатка маленькая. Под оконцем стол с пишущей машинкой. У стены - узкая койка, застланная серым ворсистым одеялом. В углу - стоячая вешалка. Шинель, плащ и на плечиках штатский костюм. Павел заметил, что здесь Отто редко надевал форму, все ходил в штатском.
Из открытого окошка послышался стрекот пишущей машинки, словно в саду поселилась большая цикада.
Павел прилег на постель и снова подумал о маме. Мама тоже стала писать письма на машинке. Наверное, удобнее. Никогда не пробовал. Надо будет завтра попросить, чтобы Отто показал, как на ней стучать. Завтра воскресенье, а по воскресеньям ни доктор, ни Отто никуда не уезжают. У них в цирке тоже была старенькая высокая черная машинка с золотой надписью "Ундервуд". Ее прозвали "вундеркинд". Печатал на ней собственноручно директор Григорий Евсеевич. Он печатал, не глядя на клавиши. Пальцы бегали сами. И мама, наверное, научилась печатать, не глядя на клавиши. У нее удивительно живые пальцы.
Павел вслушивался в глуховатое стрекотание машинки и не заметил, как уснул.
И проснулся он от стука. Только стук был монотонным и совсем глухим. За окном мокрые листья, за ними серое небо. Дождь. Вот оно что!… Барабанит по железу… Придется делать зарядку в комнате. Горе, а не зарядка. Развернуться негде! Он спустил ноги на коврик, потянулся, хрустнули суставы. Да-а… Занудное впереди воскресенье. Деваться некуда. В саду не посидишь: дождь. Хорошо, если доктору не взбредет в голову затеять "воскресную проповедь". Любит он поупражняться на домашних в красноречии. Заведет часа на два - о долге, о национальной совести, о величии и задачах. Все повернет на свой, на фашистский лад.
Встать бы да сказать: "Господин доктор Эрих-Иоганн Доппель! Я - русский и у меня есть свой долг: давить вас, фашистов, уничтожать. В этом моя совесть и моя задача. И не думайте, что ваши речи западают мне в мозги. Вы можете их вышибить, но не перевернете. За два года я так научился вас ненавидеть! Если бы не мама и не Петр, которые тоже вас ненавидят, я бы давно уже сбежал к партизанам! В Советский Союз! На фронт!"
Но он вынужден будет сидеть в гостиной или в кабинете доктора среди его душных кактусов и слушать высокопарные слова о долге, национальной совести, о величии и задачах. Хайль Гитлер! Чтоб он сдох!
Мама! Я терплю все ради тебя!
Он сделал несколько упражнений без обычного удовольствия. То ли дождь, то ли мысли о маме мешали. Потом вышел и спустился по лестнице на руках. Благо никто не видит. И доктор, и фрау, и Матильда-жиргут еще дрыхнут.
Павел открыл дверь в сад, вдохнул влажный воздух. У самого входа образовалась прозрачная лужица, капли били по ней, вздувая легкие пузыри, которые тут же лопались. Дождь стучал по листьям, по земле, по переполнившейся водой пожарной бочке.
Сходить к Отто? Он встает обычно рано. Написать письмо маме на машинке.
Он постучал в дверь под лестницей.
– Да!
– Доброе утро.
– Чего уж тут доброго, - ворчливо ответил Отто. Он сидел на койке и брился, глядясь в осколок зеркальца, прислоненный к пишущей машинке. С лица на шею сползала мыльная пена, образуя фантастический белый воротник. - Заходи. Слышал, на фюрера покушались?
– В каком смысле?
– Бомбу подложили. Фюрера бог спас.
Павел смотрел на Отто во все глаза. Потом спросил:
– Партизаны?
– Какие, к черту, партизаны! Генералы. Целый заговор.
– Немецкие генералы?
– Турецкие, - сказал Отто, отирая лезвие бритвы о кусочек газеты. - Сами фронт развалили, а кидаются на Гитлера. Сукины сыны! А ты, наверное, был бы рад, если б фюрера кокнули?
– С чего вы взяли, Отто? - оторопело спросил Павел.
– Да нет, я так, от злости… Полночи письма печатал. Очень доктор встревожен. Он ведь чуть не всех тех генералов, что бомбу подкладывали, знает. Самому фюреру написал: мол, мой фюрер, бомбу подложили в сердце Германии и что сталось бы с Германией, если бы мерзавцы достигли своей гнусной цели! Не щадите, мой фюрер, врагов! Все немцы с вами! - Он вздохнул. - Вот такие дела.
Отто вытер лицо и шею смоченным в воде кончиком полотенца, сложил бритву, сунул зеркальце в стол. Павел молча наблюдал за ним.
– Послушайте, Отто, а что было бы, если бы фюрера… того?
– А черт его знает! Наверно, запросили бы мира. Русские-то к самым границам рейха подошли.
Павел подумал:
– Нет. Русские не пойдут на мировую.
– Почему?
– Они же нас бьют! Мы же не говорили о мире, когда наступали. А теперь они не захотят слушать. Они раздолбают весь наш рейх.
– Да ты говоришь, как этот… как его… пораженец! Смотри, Пауль.
– Я знаю русских. Они доведут дело до конца, - уверенно сказал Павел.
– Ничего… Фюрер обещал новое оружие.
– Да… Конечно… Отто, можно я напечатаю маме письмо?
– Садись, коли охота. Стучи. Дело не хитрое. Хотя я первое время все не туда тыкал, не в ту букву.
Павел уселся на стул, рассмотрел клавиши, где какая буква.
– Сейчас я тебе лист заложу.
Отто вставил в машинку лист бумаги, щелкнула каретка.
– Вот так переведешь, когда строчка кончится. А я пойду умоюсь. - Он взглянул на окно. - Льет и льет.
Отто взял полотенце и ушел. Павел нашел нужную букву и стукнул по клавише. Рычажок щелкнул. Бумага передвинулась. На ней осталась синяя буква.
"Здравствуй, мама! Давно от тебя нет писем. Почему? Что случилось? Я жив, здоров. Мы уехали из Берлина в союзное государство - Словакию. Здесь горы и вообще красиво…"
Вернулся Отто.
– О! Ты делаешь успехи. Смотри-ка сколько настукал! Давай, давай… "В Берлине случилось большое несчастье. Генералы чуть не убили нашего фюрера. Сегодня идет дождь. Это небо плачет. Что бы ни случилось - мы победим! Хайль Гитлер!
Всем от меня привет.
Целую тебя. Твой сын Пауль".
Письмо вышло коротким, куцым. Он не знал, о чем писать. Да и машинка подводила. Столько времени уходило на поиски букв! Вроде вот она, рядом, а хлопнешь не по той. Морока! А все же он написал письмо.
– Завтракать пора, - сказал Отто. - Доктор не любит, когда опаздывают. Впрочем, ему сегодня не до тебя. И не до меня. Пойду в пивнушку. Давно не сидел за кружкой пива. Компанию не составишь?
– Матильду пригласите.
– Опасно, - засмеялся Отто. - Ее надо сладким угощать. Пошли.
– Я сейчас. Письмо отнесу к себе.
Павел поднялся в свою комнату, положил письмо на стол. Дождь стучал по подоконнику. Удивительно, как все письма, напечатанные на машинке, похожи одно на другое. Вот письмо, которое напечатал он, собственноручно. А похоже на письмо от мамы…
Он открыл ящик стола и достал мамины письма. Положил рядом со своим. Удивительно! Даже "f" и "а" скошены так же, а над "i" сбита точка, нету ее. А на других машинках есть! Как же это?
И вдруг странная мысль пришла ему в голову: да они же написаны на одной машинке! И мамины письма, и его. Вот они лежат рядом. Барану понятно. Выходит, мама печатала свои письма на этой машинке? Но мама в Гронске, а машинка была в Берлине.
Павел в смятении смотрел на письма. Может быть, машинки одинаковые? Почерков одинаковых и то не бывает, а людей больше, чем пишущих машинок. Значит, мамины письма печатались в Берлине. Отто? Доппель?…
Его бесстыдно обманули. Зачем? Что случилось с мамой? Надо спросить Доппеля прямо, внезапно. Чтоб не отвертелся. Доппель скользкий, как угорь. Надо припереть его к стене. Заставить сказать правду.
Павел посидел еще минуту у стола. И все глядел на письма. Да. Одни и те же буквы. Одни и те же!… Он взял письма, сунул в карман и пошел в столовую. Он припрет Доппеля. При всех. Не отвертится!
За большим круглым столом, каждый на своем месте, сидели доктор Доппель, напротив него фрау Анна-Мария, по левую руку Матильда, по правую Отто. Место Павла возле Матильды.
Когда он вошел, Доппель ничего не сказал, только поджал губы.
– Прошу прощения, господин доктор. Доброе утро. - Павел сел на свое место. Письма жгли карман, ему казалось, что он ощущает жжение на ноге. Так бывает, когда отсидишь ногу или неудачно свалишься с лошади. Нога на время немеет и по ней бегут "мурашки".
Не обращать внимания. Пройдет. Что это фрау смотрит странно? Вероятно, у меня лицо… Делаем спокойное лицо. Удивительно! Сидят, как будто ничего не случилось! А ведь писали фальшивые письма!
Фрау Элина принесла поднос с тарелками:
– Яшицасой… "Яичница с колбасой".
Павел любит яичницу с колбасой, но сегодня не протолкнуть ее в глотку. Сухо во рту. Он налил из графина холодную воду. Выпил залпом целый стакан.
Доктор покосился неодобрительно. Странный какой-то сегодня мальчишка. Взгляд напряженный. Вероятно, его потрясло покушение на фюрера. Всех оно потрясло. У Анны-Марии дрожат руки. Кажется, они дрожат у нее вообще последнее время. Возраст. Вот Матильда спокойна. Даже если обрушится небо, она будет спокойна. Замуж пора. Бежит время, бежит, давно ли сучила толстыми ножками в детской кроватке!… Сейчас фюрер примется за генералов. Гиммлер, вероятно, потирает руки. Там, в Германии, свой "частый бредень". Главное - отмежеваться, если хочешь выжить. Хорошее письмо он послал фюреру, хорошее, продуманное. Даже если фюреру его не передадут, непременно доложат. Фюрер любит верность и умеет ее ценить.
Павел выложил на стол несколько листков бумаги.
– Удивительная вещь - письмо.
Доктор вздрогнул и посмотрел на Павла. Что он знает о письме фюреру?
– Вот письма моей мамы, - звонко сказал Павел. - А вот письмо, которое я напечатал утром.
Ах, он о своих письмах. У каждого свое.
– Что? - рассеянно спросил доктор Доппель.
– А то, господин доктор, что все письма напечатаны на одной машинке.
– Как это? - удивилась Матильда.
Доппель переглянулся с женой.
– Мама не писала этих писем. Они напечатаны на вашей пишущей машинке. Их написали вы. И я прошу, нет, требую, чтобы мне объяснили… Что с мамой? Где письма от мамы? - Голос Павла, звеневший, словно натянули связки, дрогнул.
– Может быть, мы поговорим об этом не за столом? - произнес доктор тусклым голосом.
– Нет, сейчас! - упрямо сказал Павел.
– Милый, у меня, кажется, разыгрывается мигрень. - Фрау Анна-Мария стала подыматься со стула, чтобы уйти.
– Сидите, - приказал Павел.
И она села на место, растерянно глядя то на мужа, то на Пауля.
– Хорошо, - сказал Доппель тем же тусклым голосом. - Эти письма действительно писал я. Раз уж обнаружился этот мой невольный обман, я скажу тебе правду, мой мальчик. У тебя нет больше мамы и нет брата. У тебя никого нет, кроме нас. Мы - твоя семья. Мы спасли тебя от гибели, от ужасной участи, которая постигла твою маму.
Павел чувствовал, как медленно и неудержимо пробирается в сердце щемящий холод и становится трудно дышать.
– Что с мамой? - спросил он, с трудом ворочая язык.
– Она была прекрасной, благородной женщиной! Умной и работящей. Ты не знаешь, что ресторан в Гронске взорвали. Я не рассказывал тебе.
– И мама…
– Нет. Она осталась невредимой. И это было чудом. С новой энергией, так присущей ей, она взялась за наше общее дело. Она восстановила ресторан. Но партизаны ненавидели ее. Буквально охотились за ней. Они напали на нее и скорее всего убили.
Павел смотрел на доктора в упор:
– Убили?
– М-м-м… Точно нельзя утверждать. Трупы не найдены. Вообще ни одного трупа. Только сгоревшая машина. Но даже если они забрали ее в плен вместе с нашим офицером, что ждет ее? Она - немка. Она сидела в советской тюрьме. Она работала для офицеров рейха. Бедная Гертруда, какая трагическая судьба!
– И Петя был с ней?
– Да. И Петер. Я не хотел тревожить тебя, мой мальчик. Прости меня за то, что я не смог тебе сказать правду. У нас разрывалось сердце. - Доппель смотрел на жену.
Фрау Анна-Мария печально кивнула.
– Это ужасно. Сначала потерять отца, потом мать и единственного брата, - тихо договорил Доппель.
Павел был оглушен… Он ничего не понимал. Желтый глаз яичницы смотрел из тарелки. Вокруг кусочки колбасы, словно сгустки крови… "Сначала потерять отца…" "Сначала потерять отца…" Мама… Мама сказала, расставаясь, что папа жив. Они подделали указ в газете. Доктор подделал. Павел в этом не сомневался.
– Значит, маму захватили партизаны? - тихо спросил он.
– Увы, мой мальчик. Жестокость партизан известна всему миру. Мы очень скорбим вместе с тобой, мой мальчик. Но ты - настоящий немец. Ты переживешь горе. И пусть оно наполнит твою жизнь ненавистью и благородной целью. У тебя еще будет возможность отомстить!
Если это правда, что маму захватили партизаны, а не немцы, мама жива. Мама боролась. Мама не такая немка, как эти. И Петька с ней… Если маму захватили партизаны… А если немцы? Служба безопасности? Если Доппель врет?
– Простите. Я уйду.
Павел поднялся и, ни на кого не глядя, пошел к двери.
– Пусть побудет один, - услышал он голос фрау Анны-Марии.
Мама не может быть мертвой… Мама не может быть мертвой…
Павел лежал ничком на кровати, зарывшись мокрым лицом в мокрую подушку. Он наплакался, он не удерживал слез. Он не оплакивал маму. "Мама не может быть мертвой", - повторял он себе. Мама всегда живая. Всегда. Он плакал потому, что сдали нервы и по подоконнику печально стучал дождь. Он вспоминал ярко освещенный манеж и маму, скачущую на Мальве. Мамины руки, мамину улыбку… Мама не может быть мертвой. "Гертруда Иоганновна Лужина. Мир праху твоему". Нет! Чушь! Мама у партизан. И ресторан взорвала она. Уж это-то без сомнения. А потом ушла к партизанам. Доппель врет.
Когда он выплакался, затих и получил возможность поразмыслить надо всем, что он сегодня узнал, родилась новая мысль: он свободен! Он жил в этой лживой семье и притворялся послушным немецким мальчиком, потому что так велела мама. Ради ее спокойствия, ради Петра. Теперь они у партизан. Он - свободен. Он не должен и не хочет оставаться здесь. Только в одном доктор прав: у него еще будет возможность отомстить!
Незадолго до обеда в дверь постучали.
Павел не ответил, все еще лежал, уткнувшись лицом в мокрую подушку. Вошла Матильда. Он догадался, потому что комната наполнилась приторным запахом духов. Скрипнул стул. Села. Что ей надо? Молчит. Откормленная дура.
– Пауль, я не знала. Я бы тебе сказала, честное слово.
Ишь, тихая какая!
– Пауль, не надо… Слышишь? Я тоже весь день проревела.
Он молчал.
– Лучше бы они фюрера убили, чем твою маму.
Вот дура! Павел резко повернулся на кровати.
– Мама жива. Мама не может умереть!
– Не кричи, пожалуйста, на меня. Я ж не знала…
– У вас все, все держится на обмане! - зло сказал Павел.
Матильда смотрела на него жалостно.
– Ты теперь уйдешь от нас, - сказала она тихо. - А я к тебе привыкла. Я тебя даже чуточку люблю.
Павел насторожился.
– С чего ты взяла, что я уйду?
– Уйдешь… - печально кивнула Матильда. - Я тебя знаю. Ты настоящий мужчина. Ты - загадочный русский.
– А ты дура.
– Мы все дуры. Мы не умеем думать. Мы умеем только ждать и плакать. Мы ждали Вилли, а он не вернулся. Теперь уйдешь ты - и не вернешься.
– Что это на тебя накатило?
– Скучно жить, маркиз… Очень скучно… Все воюем, все ждем, все плачем. А зачем? Зачем, Пауль? - Она подождала ответа, но не дождалась. - Ты уйдешь в свою Россию?
– Никуда я не пойду. Отстань.
– Скажи что-нибудь моим голосом… - попросила она.
"Вот навязалась!" - подумал Павел, но почему-то без зла. Не вредная она, Матильда, просто глупая. И вероятно, несчастная. А кто в этом доме счастлив? И он сказал Матильдиным голосом:
– Я к тебе привыкла. Я тебя даже чуточку люблю.
Матильда улыбнулась, два раза хлопнула ладошками, потом залезла под лифчик и достала тоненькую пачечку марок. Положила на стол.
– Это я копила.
– Зачем?
– Не знаю. Надо копить. Все копят… Возьми. На дорогу…
Она покраснела, словно совершила что-то неприличное.
– Нет, ты определенно… того. - Павел покрутил у виска пальцем.
Матильда улыбнулась.
– Какая есть. Примите, маркиз, уверения в нашем совершенном почтении. Я папе не скажу, ты не бойся. - Она замолчала, глядя Павлу в глаза, и неожиданно добавила: - Найди свою маму, Пауль.
И ушла, оставив после себя удушливый запах духов. А потом дождь вытянул и этот запах из комнаты. Павел смотрел на тоненькую пачечку денег и думал, что жизнь полна неожиданностей и Матильда, выходит, не такая уж дура. И мысль эта была приятна.
Он умылся и вовремя спустился к обеду. Фрау Анна-Мария сидела печальная, как и подобает в такой печальный день.
Доктор Доппель ничего не сказал. Лицо его было спокойно, хотя выглядело усталым. "Мальчишка смирился с потерей", - удовлетворенно подумал он.
Отто с удовольствием поедал шнельклопс. Война. Столько народу убивают. Вот и его брат сгорел в танке. Придется продавать землю.
У Матильды чуть припухли глаза. Доппель нет-нет да бросал на нее взгляды. Чувствительная девочка, сентиментальная, как все мы, немцы.
Павел ел, ни на кого не глядя. Аппетита не было, но он заставлял себя есть: одного куража мало. Надо иметь силы.
Бежать он решил на рассвете.
Только начало светлеть небо над мохнатыми спинами гор, когда Павел, чтобы не разбудить Доппеля и его домочадцев, выбросил в окно плащ и башмаки, вылез наружу, шагнул босыми ногами по холодному карнизу на крышу крыльца. Железо чуть прогнулось, щелкнуло гулко.
Павел замер на секунду. Прислушался. В доме было тихо. Тогда он лег на живот, спустил вниз ноги, нащупал толстую колонну и сполз по ней.
Дождь кончился еще вечером, но земля и воздух были влажными, над садом прозрачной, голубоватой кисеей висела утренняя дымка, вот-вот готовая лечь росой на листья и цветы.
Павел подобрал плащ и башмаки и направился вокруг дома к площадке, где делал зарядку. Там он перекинул вещи через каменную стену и перелез сам. Все было продумано заранее, каждый шаг.
По ту сторону стены он надел башмаки. Павлу казалось, что он один не спит во всем городке. Он быстро дошел до перекрестка, на котором давеча свернула свою тележку троица, и медленно побрел по тихой туманной улице, присматриваясь к зеленым, еще спящим палисадникам, к старым домам с яркими наличниками и блестящими черепичными крышами. Где-то здесь. Прошуршало невдалеке, верно, по шоссе прошла машина. Пропел тоненько петух. Звуки были таинственными, чуть приглушенными, все вокруг казалось зыбким, нереальным, словно попал в какой-то сказочный мир. Это от голубой дымки. Надо во что бы то ни стало найти садовника. Или Янека. Спросить не у кого, да и если бы было у кого - опасно. Надо исчезнуть бесследно для Доппеля: он, вероятно, будет искать, обратится к властям. Вон у него какие были в гостях! У них и полиция, и жандармы, и шпионы - фашисты. Надо найти пана Соколика. Он поможет. Он чем-то напоминал Павлу деда Пантелея Романовича, который приютил их в Гронске.
Павел добрел до конца улицы, дальше было поле. Тогда он перешел на другую сторону и двинулся назад. Он понимал, что это опасно, если кто-нибудь смотрит в окошко, удивится, что паренек бродит ни свет ни заря. Но другого выхода не было. Влажная прохлада лезла под рубашку. Он надел плащ. И в этот момент ему повезло. За низким забором в чистом дворике, возле деревянного крыльца без навеса он приметил тележку с блестящими железными обручами на колесах. Провалиться на месте, если это не та самая тележка, в которой ребята везли с гор дрова! Павел окинул взглядом улицу. Никого! Толкнул калитку - не заперта и даже не скрипит. Осмотрел тележку, вроде - та. Что дальше? Постучать в дверь? Или поцарапаться в окошко?
Он мысленно не раз представлял себе, как стучится в темное окно, его впускают, снабжают оружием и переправляют в горы к партизанам… Теперь все это ему кажется наивным. Ну, разбудит он Соколика, а тот скажет, чтобы шел домой. Скажет, что знать не знает никаких партизан… Да-а, все просто, когда воображаешь!
Он решил никого не будить, а где-нибудь присесть и подождать, пока хозяин не выйдет. А может, это и не его дом? Может, здесь живет кто-нибудь из ребят и тележка не Янека, кого-нибудь из его приятелей?
Небо над горами стало совсем голубым, а горы еще мохнатее, и с них, словно старая шкура, сползали вниз светлые пятна тумана.
Павел поежился, завернулся плотнее в плащ и сел на тележку. Хорошо, что он прихватил плащ. Он бы с удовольствием ушел вовсе голым - эту одежду покупала ему фрау Анна-Мария еще в Берлине. Но голым далеко не уйдешь. Он выменяет ее у Янека на что-нибудь попроще, в чем легче ходить в горах. Нет, с Янеком меняться нельзя. Янко наденет его гольфы и пиджак и тут же его схватят. Откуда? Где взял? Эх, жаль, берет не прихватил!
Дверь дома неожиданно открылась без скрипа и в проеме появился Соколик в рубахе, мятых брюках и калошах на босу ногу. Он почему-то не удивился, увидев сидящего на тележке молодого пана, а только молча кивнул и ушел, оставив дверь открытой.
Павел вошел за ним. В маленьких сенях без окошка было темно, пахло сеном. Открылась другая дверь и Павел вслед за стариком вошел в просторную комнату с причудливой, словно топором рубленной мебелью. На окнах висели ситцевые занавески. Дверь в другую комнату занавешена рядном. Пол устлан домоткаными половиками.
Павел заволновался, разомкнул губы:
– Добрый день.
– Раненько, молодой пан, с солнышком. Зецен зи зих, - пригласил он сесть по-немецки.
Павел сел на грубый некрашеный стул возле такого же стола.
Старик громко сказал:
– Янко! Заспишь! - И сел напротив. - Случилось что?
– Я ушел от них совсем. Навсегда. Понимаете? Убежал. Больше не могу. Я не немец, я - русский. Я их ненавижу. Понимаете? Мне надо в горы. К партизанам. У меня папа офицер Красной Армии, Герой Советского Союза. Зовут меня Павел Лужин. - Он вспомнил словацкие слова: - Мено и приезвиско мои - Павел Лужин. Понимаете?
– Понимаю, - старик пошевелил губами, обдумывая что-то, и внезапно сказал по-немецки: - Откуда ж ты знаешь так хорошо немецкий, если ты русский?
– Моя мама родилась в Берлине. А мы жили в Советском Союзе. Работали в цирке. На лошадях.
– То-то я смотрю, ты на руках ходишь! А как же ты к пану Доппелю попал?
Павел стал, волнуясь, рассказывать, как увез его в Германию Доппель. И как он все терпел ради мамы и брата. И вот узнал, что мама у партизан… И убежал. Теперь можно не притворяться.
Соколик слушал внимательно. Потом произнес неопределенно:
– Интересная история.
– Но вы же тоже знаете немецкий! - с обидой воскликнул Павел.
– Я работал в Германии. Здесь работы не было, многие уходили на заработки.
Из соседней комнаты появился заспанный Янко, увидел Павла, удивился.
– Накладай товар, - строго сказал Соколик.
Янко вышел во двор. Павел видел в окошко, как он подкатил тележку к входной двери.
Соколик поднялся, прошлепал к буфету, поставил на стол миску с хлебом, принес из сеней крынку молока.
– Уж не знаю, как с тобой быть…
– Меня искать будут, а если найдут…
– Документы-то у тебя есть хоть какие?
– Откуда? Только денег немного.
– Да-а… Лет-то тебе сколько?
– Семнадцать.
Соколик кивнул. Поставил на стол стаканы. Разлил в них молоко. Разломил хлеб.
В дверь заглянул Янко.
– Дедко, поможте.
– Пойдем поможем, - сказал Соколик Павлу.
Павел вышел вместе с ним в сени. Наружные двери были открыты. В сенях лежали небольшие мешки и ящик. Янко подхватил ящик, вынес и поставил на тележку. Дед понес мешок, Павел - другой. Мешок тугой, но мягкий.
– Муку горе, - велел Янко Павлу.
Тот понял, положил мешок сверху. Тележку укрыли брезентом. Вернулись в дом. Молча выпили молоко. Янко аккуратно завернул хлеб в холстину, сунул за пазуху.
Павел ждал, что скажет Соколик.
– Сме ту, - раздалось от дверей. И Павел увидел знакомых девчонку и мальчишку, которые так же удивленно, как и Янко, когда появился из комнаты, пялились на него.
– Ладно, - сказал Соколик. - В городе тебя сразу поймают, раз такое дело. Пойдешь с ребятами. В горы. Они тебя передадут кому надо.
Павел заулыбался радостно, но тут же вспомнил, что идти надо мимо дома Доппеля.
– Мне той дорогой нельзя.
– А я тебя другой отведу, - сказал Соколик.
Он о чем-то пошептался с внуком. Янко кивал и все время посматривал на Павла. Потом ребята впряглись в тележку и покатили ее по улице. А Соколик повел Павла в другую сторону. В конце улицы они свернули к горам. Начался неприметный подъем, место казалось ровным, а идти стало труднее. Справа и слева потянулись огороды, потом кусты. Подъем становился все круче. Стали попадаться деревья. Внезапно вышли на тропу, которая выбегала из малинника, усыпанного краснеющими ягодами, поворачивала и круто шла вверх, в лес. Тропа была каменистой, вся в выбоинах, видно, часто по ней ходили.
– Тут и подождем, - промолвил Соколик и присел возле дерева на корточки.
– Дедко Ондрей, а вы коммунист? - спросил Павел.
Соколик вздохнул.
– Нет… Записан в социал-демократы… Да ты не думай, мы тоже против фашистов. Как объявили Словацкую республику, все радовались. Шапки в небо бросали. Нет рабочих и буржуев, нет крестьян и помещиков. Все словаки - братья! Заживем одной семьей. Тогда только коммунисты против были, так их за это по тюрьмам посажали. А теперь все поняли, что коммунисты были правы. Не могут овцы с волками в одном дому ужиться. Людаки продали Словакию Гитлеру. Гонят словаков воевать с русскими. А нам русские - братья. Народ обнищал, все к немцам увозят. Как же! Союзники! А верхушка - Тисо там, Мах и прочие - руки греют на нашей беде. Маленький мы народ, мирный, но жизнь любим. И за жизнь - постоим! Это я тебе к тому говорю, чтобы ты понял, к каким людям идешь, на какое святое дело. Если в народе гнев закипел - ни слезами, ни кровью не залить. - Соколик, прищурившись, посмотрел Павлу в лицо. - А ты коммунист?
– Коммунист, - не задумываясь, ответил Павел. - Беспартийный, конечно, но коммунист. У нас все коммунисты!
– То-то вас и не сломил Гитлер, - удовлетворенно произнес Соколик. - Я кое-кого из ваших коммунистов знаю. Крепкой жилы люди. Не свернут. - Он прислушался. - Вроде, ребятишки.
Из-за поворота появилась троица с гремящей тележкой. Остановились, переводя дыхание.
– Не понахлай на гору, - сердито сказал старик, подымаясь, протянул руку Павлу и добавил по-русски: - Хорошей дороги, Павел. Не поминай этим… лихом. Гитлер капут!
Словакия кипела. Словакия готовилась к восстанию.
Вместо фальшивого глинковского лозунга: "За бога и народ!" коммунисты бросили лозунг: "Смерть фашизму! Свободу народам!", объединили всех антифашистов в один могучий кулак и создали в подполье Словацкий Национальный Совет.
По дорогам и горным тропам мотались усталые связные. Передавали распоряжения, согласовывали действия, сдерживали особо нетерпеливых: ждите сигнала, еще не время, не давайте немцам предлога вступить на Словацкую землю. Они стянули войска к границам. Будьте терпеливы и бдительны. Готовьтесь, вооружайтесь, учитесь воевать. Свобода не придет сама, ее надо будет брать в смертельном бою. За Карпатами - Красная Армия. Она идет нам на помощь.
Восстание зрело. Фашистская власть шаталась. Народ вышел из подчинения. Распоряжения властей не выполнялись.
Словацкий Национальный Совет готовился взять власть в свои руки
Президент Тисо обратился к немцам: помогите, выручите, спасите!
Это было прямое предательство. Немцы начали оккупацию Словакии.
Павел навсегда запомнит ночь на понедельник 28 августа. Весь день отряд двигался по горам. Наверное, сверху он выглядел огромной пестрой змеей, тут и там сверкающей оружием. Оружия не хватало, да и управляться с ним не все еще умели. Отряд медленно спускался с гор. Партизаны устали. У Павла тоже гудели ноги. Но он ни за что бы не признался в этом. Он чувствовал себя бойцом, хотя в руках была пока что палка. Оружие будет!
Ночью партизаны вошли в местечко. Никто не оказал им сопротивления. Солдаты и даже жандармы присоединились к отряду, который расположился на площади. Часть отряда двинулась к тюрьме. Освободить политических заключенных, коммунистов.
Драться не пришлось. Охрана открыла ворота.
А утром городок украсился флагами, сине-бело-красными, как ленточки на шапках партизан, и алыми. На площади с грузовика раздавали партизанам оружие. Павлу досталась русская винтовка и три десятка патронов. Затвор был густо смазан рыжим маслом. Павел вынул затвор и стал протирать его носовым платком. Винтовку он знает, не зря же занимался в кружке юных Ворошиловских стрелков. И немецкий автомат попадется - тоже не спасует, учили в немецкой школе.
– Оэй, русс, - обратился к нему сосед, который тоже получил винтовку. - Сет шёз ля комман ля демонте? Ж'ан соре бьен тире, ме комман села се демонт?
Павел не понял французского, а француза понял. Взял его винтовку, медленно освободил затвор, вынул, вставил обратно.
– Мерси, камарад!
Удивительно, как все они в отряде научились понимать друг друга. Это, наверное, потому, что все думают одинаково и об одном и том же.
Протирая затвор, Павел все время озирался. Когда входили в городок, прошли мимо дома Доппеля. Дом выглядел мертвым: ни звука, ни огонька. Может быть, Доппель и отсюда увез семью? А может, просто отсиживаются за закрытыми дверьми? Доппель - враг. То, что было добром для него, оборачивалось злом для других.
В толпе промелькнул Янко. Павел радостно замахал рукой:
– Янко! Эй! Янко!
Янко стал озираться, потом увидел Павла и подошел к нему.
– Добрый день, Павел!
– Добрый день. Вот! - Павел показал винтовку.
Янко огляделся и приподнял подол рубашки. На животе под ремешком торчал пистолет. Оба засмеялись.
– Як дедко Ондрей? - спросил Павел.
– Добре.
– Не уехал на дедину? - сощурился Павел.
– Не…
– А где Любица и Милан?
– Ту…
Павел вспомнил, как путешествовал с троицей по горам, помогая тащить тележку. А на тележке-то были продукты для партизан. Ребята передали продукты ожидавшим их "дровосекам". Те освободили тележку и понесли мешки и ящик дальше в горы. С ними ушел и Павел. Не легкое дело каждый день тащить в горы тележку!
Янко с завистью посмотрел на сине-бело-красную ленточку на пилотке Павла, которую ему выдали в отряде. Павел хотел было снять ленточку, но отдал вместе с пилоткой. Просиявший Янко отдал ему свою.
На грузовик поднялся командир отряда, а с ним еще двое. Один небольшого роста в очках, в немного мешковатом пиджаке. Другой в военной форме.
– Друзья! - Командир отряда поднял руку. - Будет говорить член Словацкого Национального Совета.
Лица всех обратились к грузовику. Тот, что в очках, сделал шажок вперед. Люди на площади зааплодировали, зашумели. Человек в очках заулыбался. И когда площадь стихла, сказал:
– Содруговья! Братья! Вот и пришел наш час, час нашего восстания! Он говорил уверенно и страстно. Каждый раз, когда вспоминал Советский Союз и Красную Армию, по площади катились овации. Павел не все понимал, но главное понял: поднялся народ, единственный подлинный хозяин своей земли, своего труда, своего счастья. Гитлеровцы вторглись на территорию Словакии. Надо их выбросить со словацкой земли, а вместе с ними и своих людаков! Победа будет за нами!
Площадь гремела, площадь ликовала. И пело вместе со всеми сердце Павла.
Десятки людей пробивались к грузовику, требовали оружия! Они хотели своими руками добыть свободу.
"Смерть фашизму! Свободу народам!"
Людское море выплеснуло к Янко и Павлу Любицу и Милана. У Любицы на старой кофте с засученными рукавами диковинным цветком пламенела красная розетка. У Милана рот не закрывался от волнения, растянулся в улыбке до ушей, которые были еще краснее розетки!
Он заорал во всю глотку:
Это была старинная разбойничья песня о вольном разбойнике Яношике. Конечно, партизаны не разбойники, но новых песен еще не сложили, а очень хотелось петь.
Ребята положили руки друг другу на плечи и затоптались на месте маленьким кружком. Павел не знал этого танца, но общая радость окрыляла, и ноги сами двигались в такт.
Вокруг засмеялись. Внезапно Павел сбился с такта и остановился. Прямо перед ним стоял, улыбаясь, Фридрих фон Ленц в солдатской форме Значит, это его он видел на кладбище. Это с ним говорил дед Соколик.
Павел вышел из кружка, кто-то тотчас занял его место. Круг танцующих разрастался. А Павел стоял перед фон Ленцем и смотрел на него. И фон Ленц смотрел и, видимо, припоминал, где он видел этого парнишку, потому что в глазах мелькнула едва уловимая тревога.
– Здравствуйте, господин фон Ленц, - четко произнес Павел.
– Постой, постой, - фон Ленц смотрел на него удивленно. - Ты кто? Петр или Павел? - спросил он по-русски.
– Павел. - Он очень удивился, что пруссак говорит по-русски. - Узнали меня?
– Еще бы! Здравствуй, - фон Ленц протянул руку. - Встреча… Как ты сюда попал?
– А я вас видел на станции, на границе. Вы удрали из вагона в окно.
– Верно, - удивился фон Ленц. - Как же ты все-таки оказался здесь? Где мама?
Павел сбивчиво рассказал все, что знал. Кто же он, фон Ленц, прусский офицер, говорит по-русски, одет в словацкую форму, бросил гранату в гестаповцев и был другом штурмбанфюрера Гравеса. Мама говорила.
– Если маму захватили партизаны, значит, она в безопасности, - сказал фон Ленц, внимательно выслушав рассказ Павла. - Твоя мама - женщина удивительного мужества. Значит, ты ушел от Доппеля к партизанам?
Павел кивнул.
Фон Ленц засмеялся:
– Вот уж верно, яблочко от яблони недалеко катится!
– Вы ж говорите по-русски!
– Заметил? - глаза фон Ленца светились. - Павел, а не навестить ли нам доктора Доппеля?
– Зачем?
– Сориентируемся на месте. У меня к нему есть несколько неотложных вопросов.
Павел нахмурился. Лезть обратно в руки Доппеля, да еще с этим пруссаком? Подумаешь, говорит по-русски! Он, Павел, не хуже владеет немецким, однако не немец.
Фон Ленц заметил его колебание.
– Можешь мне доверять, - сказал он тихо.
– Ладно. А ребят с собой можно взять?
Фон Ленц усмехнулся.
– Личная охрана? Бери.
Павел кивнул. Вытащил Янко из веселого круга, объяснил на русско-словацко-немецком языке, что надо идти по важному делу к Доппелю.
Янко позвал друзей, и они двинулись сквозь возбужденную радостную толпу вслед за фон Ленцем. Павел заметил, что позади идет словацкий солдат, тот самый, что был с фон Ленцем на кладбище.
Улочка тиха и пустынна. Все жители, верно, на площади. Они остановились у глухих ворот доппелевского дома. Фон Ленц нажал кнопку звонка несколько раз. Никто не отозвался.
Павел тронул фон Ленца за рукав:
– Идемте.
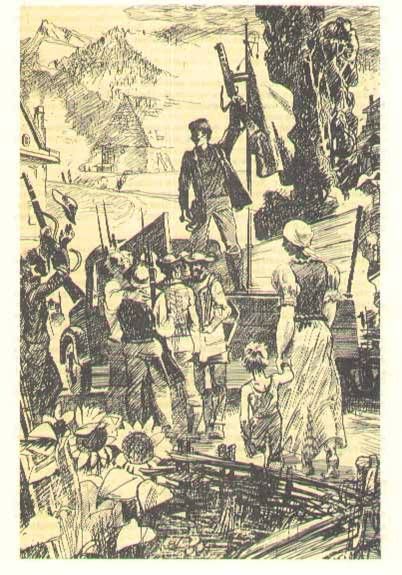 |
Они обошли каменную стенку и остановились в том месте, где Павел перелезал через нее. Фон Ленц сделал знак своему товарищу. Тот ловко влез на стену и спрыгнул в сад. Павел и Янко последовали за ним Фон Ленц помог перебраться Любице и Милану и перелез через стену последним.
– Стрелять они не посмеют, - сказал фон Ленц, - но береженого бог бережет.
Он двинулся сначала вдоль стены, потом кустами.
Задняя дверь в сад оказалась запертой. Парадная тоже. Дом тихий с закрытыми окнами казался мрачным и даже улыбка гнома у крыльца неестественной, мертвой.
– Пусто, что ли? - обронил фон Ленц и кивнул своему товарищу. Тот извлек из кармана перочинный нож, раскрыл его, подсунул под раму окна, и окно, к удивлению Павла, открылось.
Павел влез в него и отпер двери.
Все, кроме спутника фон Ленца, вошли в дом.
Дом оказался пуст. Хозяева торопились его покинуть, вещи были разбросаны, в столовой на полу хрустели осколки тарелок, разбитых в суматохе. В кабинете доктора стол раскрыт, ящики выдвинуты. На полу валялись бумажки. В комнате Павла вещи оказались нетронутыми. Павел раскрыл платяной шкаф.
– Янко, забирай. Забирайте, ребята!
– Ние… - качнул головой Янко. - Не треба!
В комнате Матильды все еще стоял удушливый запах духов. На столе лежала бумажка. Фон Ленц взглянул на нее, усмехнулся:
– Павел! Это тебе.
На бумажке крупным почерком кривыми торопливыми буквами было написано:
"Пауль! Мне кажется, что ты еще придешь в этот дом, вот и пишу. Мы скоропостижно уезжаем. Наверно, к англичанам. Папа считает, что Германию еще можно спасти с помощью англичан и американцев. Ты прав, я - дура. Я молюсь, чтобы ты нашел свою маму. Прощай. Твоя сестра Матильда".
– Да-а, - произнес фон Ленц. - Доппель - скользкая личность. Он даже не военный преступник. Его не будут судить после победы. А жаль. Такие, как доктор Доппель, подталкивали колеса войны. Как пишет твоя Матильда? К англичанам? Заговор обреченных. Им уже ничего не поможет.
Они заперли дом и ушли. Маленький гномик, хранитель благополучия и счастья, улыбался им вслед беспомощной улыбкой, перед лицом народного гнева и он был бессилен.
Партизаны дрались отчаянно, но немцы были лучше вооружены, у них были танки и артиллерия. А партизаны даже стрелковым оружием толком не владели. Пришлось учиться стрелять в бою. И все же они двенадцать дней не впускали в городок фашистов.
По городку ходили тревожные слухи. В Восточной Словакии из-за нерешительности высших офицеров немцы разоружили две дивизии, готовых перейти на сторону восставших, открыть путь Красной Армии. А теперь перевалы захвачены фашистами. Много крови прольется, прежде чем русские сломают их сопротивление и войдут в Словакию. Много.
В Братиславе из-за несогласованности отдельные части не вышли с оружием в руках на улицы. Тисовцы удерживают власть с помощью немцев.
Не все тюрьмы удалось открыть, и сотни преданных народному делу бойцов еще томятся за решетками.
Правительство Бенеша в Лондоне сует палки в колеса. Они боятся, что к власти в Словакии придут коммунисты. Бенеш спит и видит, как в Словакию входят не русские, а союзники - англичане и американцы.
Слухи будоражили: Павел впитывал их, как губка воду, думал, старался разобраться. Но разобраться было непросто. А спросить некого. Фон Ленц исчез так же таинственно, как появился. Деда Соколика выбрали в Народный Совет. Он стал ответственным за снабжение городка продовольствием. Лазал по купеческим складам и подвалам, выезжал в окрестные деревни. Его сопровождал Янко, который теперь носил пистолет открыто, а не под рубашкой, как раньше.
Отряд занимал оборону западнее городка. Шли бесконечные мелкие стычки с фашистами, но Павлу так и не удалось ни разу выстрелить. Как-то так получалось, что его то посылали в штаб с донесением, то сопровождать раненых в госпиталь.
А потом немцы подтянули артиллерию и начали обстреливать городок. Тогда партизаны получили приказ: оставить его и отойти в горы. Павел понимал, что приказ правильный: если не сдать городок, фашистская артиллерия попросту сметет его. У партизан пушек нет, ответить нечем.
Партизаны стали отходить в горы. Павел надеялся попасть в прикрытие, где дрались с наседавшими немцами. У него был к ним свой счет, он хотел расплатиться. Но командир отряда насупился, когда он обратился к нему с просьбой:
– Не просись, парень. Придет время.
Павлу оставалось двигаться в головной колонне.
Наверное, таких красивых гор, как Низкие Татры, на свете больше нет. Павел бывал с цирком на Кавказе, на Урале, в Крыму. Там тоже красиво. Но не так, как в Татрах. Татры хочется гладить. Как пушистую кошку, как добрую собаку. Низкие Татры обросли зеленой шерстью, мягкой и колючей. И лохматой, потому что рядом с коренастыми могучими дубами уживаются голубоватые ели, а сквозь длинные темно-зеленые иглы сосен проглядывает трепещущая листва осин. Подлесок густ, как подшерсток. И только тропы каменисты, потому что по ним весной и осенью стекают дожди, бегучая вода смывает почву, обнажает камешки.
В Татрах человека обнимает ласковая тишина, не мертвая кладбищенская, а живая и теплая, наполненная множеством звуков - стрекот кузнечика, посвист птиц, лепет листьев, шуршание сухой хвои под ногами, покряхтывание рыжих стволов сосен - все сливается в дыхание леса, все вместе и есть тишина Татр. Здесь не хочется разговаривать громко, кричать, стрелять. Только петь, и то вполголоса, какую-нибудь простую песенку, невесть кем и когда сложенную.
Идешь тропой вверх, к небу, по которому бегут пушистые облака, и кажется, что там, на вершине, конец земле и дальше шагать прямо по синеве и под ноги, как болотные кочки, начнут попадаться пружинящие облака. А заберешься на вершину, и под тобой окажется зеленая долина в легкой прозрачной дымке, а за ней другая гора, сестра горе, на которую поднялся такая же мохнатая и ласковая. И так без конца.
Закружат тебя горы и начнет казаться, что здесь ты уже был, под этим деревом отдыхал, в этой лощинке отведал теплой с кислинкой брусники. Закружат, словно вберут в себя, и не поймешь, откуда пришел, куда путь держать.
И только словак в этих горах дома, это его горы, хоженые-перехоженые вдоль и поперек, вверх и вниз. Его Татры не закружат, не обманут, он - свой.
Топот сотен ног, бряцание оружия, тяжелое дыхание уставших людей спугнули тишину. Одинокие желтые листья стекали на каменистую тропу, будто Татры сыпали их под ноги партизанам, чтобы не так слышны были шаги. Ветви тянулись над тропой, прикрывая людей.
Павел шел рядом с французом, которому показывал, как разбирать винтовку. Француза звали Поль. Он дышал тяжело с тонким хриплым присвистом, оружие - за спиной, дулом вниз, выгоревшие солдатские обмотки, накрученные кое-как, сбились, тесемка волоклась по земле, но он ничего не замечал, смотрел вперед сосредоточенно. Иногда останавливался и кашлял. И Павел останавливался и ждал, когда Поль откашляется. Идущие сзади молча обходили их. Когда прерывался кашель, Поль смотрел на Павла виновато, словно прощения просил за остановку, и новый приступ сотрясал его тщедушное тело. Потом он вздыхал глубоко, смуглое лицо бледнело, становилось желтым, он поправлял за спиной винтовку и шагал дальше. Павел молча шел рядом.
Винтовка стала тяжелой, лямки мешка за спиной врезались в плечи. Мешок грузный - консервы, хлеб, крупа, патроны. Все отряд нес с собой. Никто не мог предугадать, надолго ли уходят в горы, что ждет впереди.
Павел хотел забрать мешок у Поля, но тот замотал головой. Нет. Сам. А ему было тяжелее всех. Его фашисты били в лагере. Коваными сапогами. Товарищи думали, что он умрет, и фашисты были уверены, что умрет, оставили в покое. А он отлежался. И вместе с товарищами бежал из лагеря.
Павел подружился с Полем, запоминал французские слова и учил того русским. Они разговаривали жестами, подкрепляя их отдельными словами, и отлично понимали друг друга. Еще Поль учился гонять по ладони монетку. Очень хотел показать своим ребятишкам фокус. Вот обрадуются! Его жена и дети жили где-то у моря, возле города Марселя, в маленьком рыбацком поселке. Ведь он потомственный рыбак! Вот побьют бошей, он вернется домой, и родной морской воздух вылечит его.
На привалах, отдышавшись, Поль начинал рассказывать Павлу о своих детях, о море. Говорил быстро, резко жестикулируя руками. Темные глаза вспыхивали и смотрели на Павла радостно, будто Поль видел своих детей, и море, и рыбацкий баркас, и серебро бьющейся в сети рыбы.
Павел ни слова не понимал, но слушал внимательно и улыбался. И видел в это время бегущих по манежу Мальву и Дублона, маму в костюме, усыпанном блестками, ловко скачущую, стоя на плоском седле. А вот и он с Петром перекидывается на скаку булавами. И в шелесте листвы слышались веселые аплодисменты.
А когда Поль умолкал, Павел начинал рассказывать ему про маму, про брата, про отца, про цирк. И для наглядности даже вставал на руки.
Поль, который тоже ничего не понимал, внимательно слушал и улыбался…
Солнце опустилось за гору, небо в том месте еще светилось, а остальное быстро начало темнеть.
Отряд по хрустящим камешкам спускался с горы. Внезапно деревья расступились, и внизу открылась чаша, наполненная молоком. Впереди идущие даже остановились: настолько фантастическим было зрелище. Молоко плескалось, и сквозь него слабо просвечивали тусклые звездочки.
– Дедина, - сказал кто-то.
Внизу в вечернем тумане лежала деревня.
Пока спускались, туман выпал густой росой и в темноте стали угадываться домики под соломенными крышами. Сквозь наползавшую прохладу снизу проникали теплые струи, наполненные запахами сена, парного молока, хлева, дыма. Еще пахло нагретой за день хвоей, мятой, малиной.
И люди зашагали торопливо, всех потянуло к жилью.
Павлу, Полю и еще нескольким партизанам досталось место на сеновале. Лучше не придумаешь! Острый запах свежего сена кружил голову.
Павел снял башмаки, сухая трава приятно защекотала ноги.
Поль зашелся кашлем. Видно, хозяйка услышала, потому что принесла большую кружку горячего молока и кусок свежеиспеченного хлеба.
– Пей, солдат, пей. Это у тебя простуда от наших горных сквозняков, - сказала она по-словацки.
– Мерси, мадам, мерси боку. - Поль припал запекшимися губами к кружке и стал пить. На тощей шее заходил острый кадык.
Хозяйка стояла, сунув руки под передник и чуть склонив голову набок, и смотрела, как он пьет, как стекают по небритому подбородку молочные струйки. В глазах ее была жалость.
Выпив половину кружки, Поль утер подбородок рукавом и протянул кружку Павлу.
Павел не взял кружку, помотал головой, махнул: мол, допивай.
Хозяйка ушла и снова вернулась, теперь уже с целой кринкой и двумя маленькими кружками. Партизаны с удовольствием пили.
Потом все улеглись. Павел успел подумать: "Эх, Петьку бы в эту благодать!…" и уснул мгновенно, глубоким сном крепко уставшего человека. Ему ничего не снилось, он ничего не слышал, ни мычания коров на рассвете, ни петушиного крика, ни лая собак. Не слышал, как кашлял и хрипел Поль и как оборвались хрип и кашель.
Утром скомандовали подъем. Партизаны выскочили из домиков и сараев в утреннюю прохладу, шумно умывались у кадок с дождевой водой.
Поль все еще спал. Павлу жалко было будить его. Из всех труб в деревне валил дым, готовили завтрак. Павел побродил по деревне, с интересом разглядывая потемневшие соломенные крыши, маленькие оконца, словно занавешенные пучками петрушки, сельдерея и еще каких-то травок. Хозяева запасались на зиму. За домами чернели огороды, уже убранные, с темными кучами свежего навоза. А за огородами - горы. Со всех сторон горы, уже начавшие желтеть и от этого еще больше ставшие похожими на прилегших мохнатых зверей.
Потом он вернулся к своему сеновалу. Поль еще не просыпался. Сколько можно!
– Поль! - крикнул Павел. - Вставай! Завтрак готов! Ле дежане э пре! - добавил он по-французски и тронул товарища за плечо.
Лицо Поля было желтым и неподвижным. Павел наклонился и прислушался, посвиста, с которым дышал Поль, не слышно.
– Поль, - снова позвал Павел, понимая уже, что Поль не откликнется. Потом присел рядом на сено и заплакал.
Поля похоронили вечером на маленьком деревенском кладбище на склоне горы. Трижды прогремели винтовочные залпы. На свежую могилу поставили строганую доску, а на ней написали:
"Поль. Француз. Пал за свободу".
Так и написали "Поль", потому что никто не знал его фамилии.
Хозяйка, поившая Поля горячим молоком, долго сморкалась в передник, а потом углем нарисовала на доске черный крестик. Пусть и бог увидит эту могилу.
На другое утро, когда отряд уходил дальше, Павел подошел к могиле Поля, постоял рядом, решительно достал из кармана карандаш, послюнил его и приписал внизу: "Мы отомстим фашистам!".
Павел шел позади командира. Тропа была узкой, собственно, ее не было вовсе. Ее прокладывали идущие впереди разведчики. Партизаны двигались след в след, гуськом. Перед командиром шли двое пулеметчиков, один тащил на плече ствол, а другой - тяжелую станину. Да коробки с пулеметными лентами в вещмешках.
Старались идти потише, недалеко шоссе, которое надо пересечь.
Раздались выстрелы.
Командир остановился и поднял руку. Прислушался. Стреляли впереди. Очевидно, разведчики.
– Всем подтягиваться тихо. Первый взвод за мной.
Командир обошел пулеметчиков. Быстро и бесшумно двинулся вперед по примятой траве. Павел не отставал. Он - в первом взводе. Старался идти так же бесшумно, как командир отряда. Сердце замирало. Неужели бой? Или опять командир пошлет за чем-нибудь в тыл?
Впереди склон осыпался и спускался прямо к серой ленте шоссе. На краю лежали разведчики и стреляли. С шоссе отвечали выстрелами, пули срезали над головами ветки. Сыпалась сухая хвоя. Кто на шоссе - не видать.
Командир лег и пополз к разведчикам. Павел - за ним.
Бой. Настоящий бой.
Он подполз к осыпи, глянул на шоссе сквозь побуревшую траву. Она возле глаз казалась толстой, могущей защитить от пули.
Внизу, на шоссе стояли два грузовика. У одного был открыт капот, а из-под капота торчали ноги в сапогах. Верно, шофер чинил мотор. За грузовиками залегли немцы.
– Пулемет, - тихо скомандовал командир.
Пулеметчики сели на траву и стали торопливо собирать свой "максим".
Внезапно из-за грузовика вылетели две гранаты на длинных деревянных ручках. "Толкушки". Они и верно формой напоминали деревянные толкушки, которыми толкут картофель, превращая его в пюре. Павел смотрел на них, как зачарованный. Он бросал такие в немецкой школе. Еще Вернер объяснял преимущество немецких гранат над русскими. Русские с короткой ручкой, их из-за этого далеко не бросишь. А немецкие, благодаря своей длине, летят в два раза дальше. Русские взрываются через три с половиной секунды, а немецкие - через семь.
Семь секунд - много или мало? Павел смотрел на летящие гранаты и никакого страха не ощущал. Даже и мысли не пришло, что вот сейчас они долетят, разорвутся и осыпят всех смертоносными осколками.
 |
Гранаты летели одна за другой и напомнили ему булавы, которыми они перебрасывались на скаку с Петром. Вот так же одна за другой летели они через весь манеж. И он ловил их одну за другой и отправлял обратно Петру.
Так много или мало - семь секунд?
Павел даже не понял, как это случилось. Верно, сработала привычка или он представил себе манеж, скачущих лошадей и летящие над манежем булавы. Он внезапно вскочил на ноги, словно распрямилась в теле неведомая пружина. Командир не успел его схватить и пригнуть к земле. Павел подпрыгнул, ловко поймал летящую гранату и, отправляя ее назад, как булаву Петру, краем глаза следил за летящей вслед второй гранатой. Она летела чуть в сторону. Павел рванулся всем телом, поймал гранату, ушибив о нее пальцы, бросил обратно и подумал почему-то: "Неправильно бросают". Возле машин один за другим грохнули два взрыва. Командир свалил наконец Павла на землю. Крикнул сердито:
– Ты что цирк устраиваешь?
– Цирк, цирк… - повторил Павел радостно и засмеялся. И добавил: - А Петька лучше кидает.
Командир не понял. Но он сам был храбр и уважал храбрость.
Рядом ударил пулемет. Его тяжелое ровное таканье словно вспугнуло немцев. Они отскочили от машин и бросились на противоположный склон. Но пулеметчики знали свое дело.
Передняя машина загорелась, а владелец торчащих из-под капота ног в сапогах так и не вылез наружу. Видимо, пуля застала его под капотом.
– Вперед!
Разведчики и первый взвод скатились вниз, на шоссе. Делать там было нечего. Только собрать оружие.
– Шофер есть? - спросил громко командир.
– Есть, - откликнулся один из партизан.
Командир приказал отогнать оставшуюся машину метров на пятьсот и поставить поперек шоссе.
Потом он достал из кармана серебряный портсигар, нажал кнопочку, щелкнула крышка. Командир протянул портсигар Павлу как равному.
– Закуривай.
– Спасибо, - Павел покраснел. - Я не курю.
– Хорошо. - Командир высыпал на ладонь сигареты, щелкнул крышкой портсигара и протянул его Павлу. - На память. Бери, бери, циркач.
Павел посмотрел на портсигар. На крышке вычеканены две лошадиные головы. Надо же! Опять Мальва и Дублон! Он обрадовался лошадиным мордам, погладил пальцами и стало ему грустно-грустно, потому что ноздри защекотал знакомый запах цирка - запахло лошадиным потом, опилками, гримом и еще чем-то, чем пахнет только цирк.
А отряд уходил все дальше и дальше на восток. К Карпатам. Немцы и местные фашисты вроде бы победили. Но только вроде бы. Словаки поняли, кто их друзья, а кто враги. Кто может предать и продать, а кто никогда не отступится от свободы. Словаки ощутили свою силу в единении, в борьбе за святое дело. Ощутили свое братство с другими народами. И словацкая земля стала гореть под ногами фашистов. И будет гореть. Отныне и навсегда.
Отряд шел навстречу Красной Армии не побежденный, а чтобы вернуться и победить. И это чувствовал и понимал каждый партизан. Надежда и вера в победу были сильнее горечи поражения. Смерть фашистам! Свободу народам!
Серега Эдисон принял странную радиограмму. Четыре пары троек.
Он подумал: не ошибся ли? Переспросил. И снова: "три-три, три-три, три-три, три-три". Он отстучал: "17" - "понял". Генерала в штабной землянке не было. Или где-нибудь с партизанами беседует, или на занятиях сидит. Беспокойный человек, во все сам вникает.
Как генерал вернулся из Москвы - все забегали, все задвигалось. Разведчики и в лагере почти не бывают. Вернутся, денек отдохнут - и снова в путь. Подрывники… Вон Петька аж сияет! Свининой объедается. Повара поросят не напасутся. За каждую удачную диверсию - поросенок на группу. Как на подводной лодке, говорят: там тоже корабль потопил - получай поросенка.
Эх, хоть бы раз сходить на задание, потрепать фрицев! Вскоре в землянку спустился генерал. Серега встал.
– Товарищ генерал, радиограмма. Странная какая-то.
– Странная, говоришь?
"Дядя Вася" взял бланк в руки и заулыбался.
– Ну, Эдисон, держись!
Почему он должен держаться, Серега не понял.
– Дежурный! - громко позвал "дядя Вася". - Быстро начальника штаба, разведку, заместителей, всех.
– Есть! - Дежурный исчез.
"Дядя Вася" снова посмотрел на Серегу и улыбнулся:
– Считай, Эдисон, что тебе положен поросенок. И слушать! В оба уха!
Вскоре землянка наполнилась сдержанным шумом голосов. Командиры спускались один за другим. "Дядя Вася" молча кивал, а глаза его молодо блестели. Командиры не могли этого не заметить. И в душе каждого возникало предчувствие чего-то большого. Вошел начальник разведки Алексей Павлович, взглянул на командира, генерал кивнул едва приметно. Лицо Алексея Павловича посуровело.
– Товарищи командиры, - "дядя Вася" стукнул кулаком по столу. - Наши войска начали наступление. Вот долгожданная радиограмма, четыре пары троек!
– Три да три, будет дырка, - весело сказал Каруселин и тут же осекся: - Простите, товарищ генерал.
"Дядя Вася" махнул рукой и засмеялся:
– Ладно. У нас согласованная с войсками задача, захватить мост на выезде из Гронска. Не дать фашистам уйти. Войска генерал-лейтенанта Зайцева сожмут город в кольцо. Наша задача - мост. И прилегающие к нему берега. Фашисты тоже ждали наступления. Ряд объектов в городе заминирован. Группа разведки должна будет просочиться в город и не дать фашистам взорвать эти объекты. Это наш город, нам в нем жить. Разведке придадим группу Каруселина. Ясно, Алексей Павлович?
– Так точно, товарищ генерал.
Как быстро все привыкли к новому званию "дяди Васи" - секретаря подпольного обкома Порфирина - товарищ генерал. Словно иначе никогда и не называли.
– Отряды, сосредоточенные в лесу, выйдут к реке, на исходный рубеж, послезавтра к рассвету. К тому времени, надо полагать, наши войска расширят прорыв и фашисты начнут мельтешиться в городе, грабить, бесчинствовать. Ни один живой фашист, ни одна машина не должны пройти через мост. Фашисты попытаются задержаться на ближних рубежах. Укрепления там строили наши люди, план давно у генерала Зайцева. А он человек решительный. Укрепиться им не даст. Так что будем вместе с армией брать наш родной Гронск, товарищи. Час возмездия настал!
"Эмка" генерала Зайцева, раскрашенная для маскировки желтыми и зелеными пятнами, выскочила с проселка на шоссе.
Рядом с шофером сидел радист, веснушчатый паренек с задубелыми губами. Рация стояла на его коленях, длинный эластичный ус антенны болтался за окошком. Рядом с Зайцевым - невозмутимый Синица.
– Жми, Коля, - приказал Зайцев.
Жать было трудно. По шоссе передислоцировалась артиллерия. Солдаты в пропыленных, пропотевших гимнастерках, с серыми от пыли и копоти лицами дремали на лафетах, на тягачах, даже те, что шли рядом, умудрялись спать на ходу. Они славно поработали, расчищая плацдарм для прорыва, и теперь втягивались в прорыв, чтобы снова нанести огневой удар по противнику там, где он не ждет. Генерал Зайцев набрался премудрости на войне, считал, что маневренность чуть не удваивает войска. Особенно маневренность танков и артиллерии. О самоходках и "катюшах" и говорить нечего. Обеспечили прорыв - слава! И вперед, не мешкая. Круши тылы, не давай врагу передышки!
"Эмка", беспрестанно гудя, мчалась вдоль колонны. В небе проревела группа штурмовиков. Зайцев взглянул на часы.
– Отмеряют, как в аптеке, товарищ генерал, - сказал Синица.
– Точно.
– Поспали бы… Третьи сутки не спавши.
– А ты мне, Синичка, нос платочком утри, - засмеялся генерал. - Страсть люблю, когда мне нос платочком утирают.
– Я дело говорю, - обиделся Синица.
– И я - дело. Стой, Коля!
Противно завизжали тормоза, машину занесло. Зайцев знал Колину лихость.
– Вывалить хочешь?
– Никак нет, товарищ генерал. Все как приказали.
Зайцев проворно открыл дверцу, выскочил из машины.
Ехавший на подножке грузовика командир артполка майор Макаров, увидев генерала, спрыгнул с подножки, козырнул лихо:
– Товарищ генерал, артполк согласно приказа меняет позицию.
– Молодцы, артиллеристы, не подвели, дали фрицам прикурить!
– Так точно, товарищ генерал! - Макаров улыбнулся одними глазами, опухшими от бессонницы и жаркой работы.
– Ты чего ж на подножке, Макаров?
– Задремать боюсь. А тут ветерком продувает.
– А ты сосни. Мне вон Синица тоже спать приказывает. - Генерал кивнул на неотступно следующего адъютанта.
– В Гронске отоспимся, товарищ генерал.
– И то верно. Хороший город Гронск. - Глаза Зайцева сузились. - Мы из него три года назад в ночь уходили, кровью умывшись. Мы его и возьмем. Долг платежом красен. - Он протянул руку. - Успеха, Макаров.
– И вам, товарищ генерал.
Зайцев влез в свой "виллис".
– Давай, Коля.
Радист обернулся, протянул генералу наушники и микрофон.
– Первый, товарищ генерал.
– Двенадцатый слушает… В дороге, товарищ первый…
Справа и слева от шоссе еще дымились сожженные фашистские танки, докипала краска на броне. Тут и там валялись разбитые грузовики, покореженные орудия, трупы.
– Пейзажик ничего… Внушающий… Ввожу артиллерию в прорыв. Все согласно плану, товарищ первый. До встречи в Гронске.
Командир полка майор Церцвадзе, маленький, голубоглазый, сидел в свежей воронке, перематывал портянку на левой ноге. Рядом лежали два связиста, отчаянно крутили ручки полевых телефонов, орали в трубки: "Ромашка, Ромашка, я - Роза, я Роза, как слышите?" - "Незабудка, куда ты делась? Незабудка!" - орал другой.
– Букет моей бабушки! - сердито сказал Церцвадзе.
– Есть, товарищ майор. Незабудка на проводе.
– Как у тебя? - закричал в трубку Церцвадзе. - Дави, дорогой. Дави. Не давай им сосредоточиться для контратаки… Я тебе и так дал больше, чем соседу… Слушай, дорогой, вышиби их с этой высотки. - Рядом разорвался шальной снаряд. Майора и Лужина, сидевшего с ним рядом, осыпало комьями земли. - Стреляют немножко, - крикнул Церцвадзе в трубку. - Слушай, дорогой, у меня сегодня день рожденья. Сделай мне такой шикарный подарок. Возьми высотку. Давай, - он отдал трубку радисту.
– Ромашка, Ромашка, - долдонил осипшим голосом второй.
– Пошлите кого-нибудь по проводу. Разрешите, я сам?
– Разрешаю.
Связист ухватился рукой за провод, выскочил из воронки и побежал, пригибаясь.
Лужин улыбнулся. Каждый раз когда завязывался бой, Церцвадзе кричал своим командирам батальонов, что у него сегодня день рожденья. И требовал подарка - высотку, лесок, населенный пункт. Хотя точно не знал, когда родился. Он - беспризорник, рос в детском доме.
…Церцвадзе натянул сапог, притопнул каблуком.
– Как бой, так портянка сворачивается, понимает, что ли? - удивленно произнес он.
– Есть Ромашка, товарищ майор.
– Ага… - Он взял трубку. - Кто? А где комбат?… Ах, беда какая!… Держись, дорогой. Понимаю, дорогой. Надо. На-до! Слышал такое слово? - Церцвадзе покосился на Лужина. - Хорошо, дорогой, сейчас тебе будет резерв. Будет. Держись!… - Он сунул трубку в руку телефониста, поднялся в воронке. Крикнул: - Кто тут есть живой?
– Я, товарищ майор. Рядовой Глечиков. И вот Самсонов. Только он контуженый немного.
– Хорошо, Глечиков, на тебя смотрит весь полк. На тебя и на Самсонова. - Церцвадзе повернулся к Лужину. - Ну, капитан, приказать тебе не имею права, но прошу, как друга. Тяжело ранен комбат-три. Люди лежат под шквальным огнем. Там замечательные люди. Не пожалеешь, капитан. Как друга прошу, пожалуйста. Сам бы пошел, не имею права.
– Ладно, Церцвадзе, - Лужин встал.
– Вот спасибо, дорогой. Замечательный подарок на мой день рожденья. Армию тебе даю! Глечиков, Самсонов, с капитаном в третий батальон. На вас полк смотрит!
– Есть, - хором ответили оба солдата.
Лужин выскочил из воронки и побежал по перерытому полю. За ним бежали солдаты.
Третий батальон наступал в сторону небольшой рощицы. У немцев там минометы. С отвратительным визгом прилетали мины, рвались, подымая небольшие столбики земли, разбрасывая кругом осколки. Между залегшим батальоном и немцами возле опрокинутой повозки билась вороная лошадь, приседая при близких взрывах на задние ноги и неестественно запрокидывая голову. Видимо, ее удерживали на месте постромки. Лужин упал на землю рядом с командиром первой роты, принявшим на себя командование, незнакомым старшим лейтенантом с измученными затравленными глазами.
– Резерв привели? - спросил старший лейтенант.
– Привел. Вишь, лошадь как пугается. Постромки обрезать надо, - сказал Лужин.
Старший лейтенант посмотрел на него затравленно. Сумасшедший, что ли? Тут головы не поднять!
Лужин внимательно осмотрелся. Надо выводить батальон из огня. Или назад, или вперед. Здесь батальон истечет кровью. Назад? Не-ет, гвардейцы спину не показывают. Значит - вперед. И немедленно.
Он поднялся во весь рост.
– Гвардейцы! Дадим немцам прикурить! Только там - жизнь! Только - там! - Он показал рукой на лесок. - За Родину! Ура!
И не дожидаясь, пока поднимутся люди, побежал к лесочку. Он знал, что они поднимутся. Трудно только оторваться от земли, держит она, матушка, тебя. Крепко держит. А уж встал - хоть небо падай!
– За мной, гвардейцы!
Рядом тяжело дышал Глечиков, открывал рот в неистовом "ура!". Но Лужин не слышал ничего. Только ржание вздыбившейся лошади. И видел только ее на фоне подернутого желтизной леса. И бежал прямо на нее, перехватив пистолет в левую руку, а правой доставая из-под шинели кинжал - привилегию разведчика.
– Впере-ед!
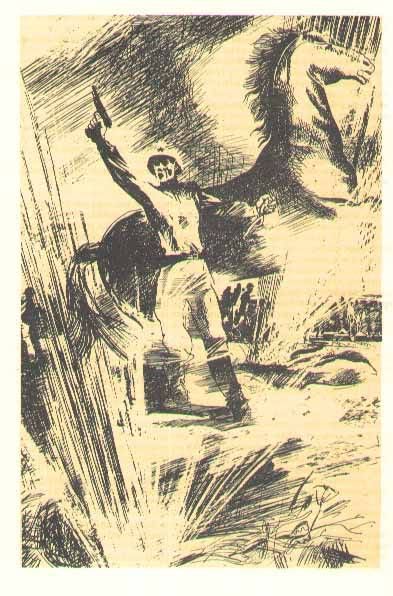 |
Мины рвались уже где-то позади. А впереди билась обезумевшая лошадь. А за ней - деревья. А за деревьями - враг.
Лужин подбежал к лошади, обрезал постромки. Почуяв свободу, она поскакала прямо к лесу, вместе с гвардейцами.
Лужин побежал за ней. Что-то толкнуло в правое плечо. Рука вдруг стала непослушной. Но Лужин бежал и бежал за лошадью…
В лесочке старший лейтенант с возбужденным от боя лицом перевязал раненое плечо.
– Не больно, товарищ капитан? - И сам поморщился, словно это его ранило.
– Еще заболит, - утешающе произнес Лужин. - Лошадь-то цела?
– А вон стоит.
Лужин обернулся. Лошадь стояла, опустив голову, трогала губами редкую травку. Кожа ее вздрагивала.
– Подумай! - удивился Лужин. Он встал и подошел к лошади. - Ну что? Натерпелась страху?
Лошадь настороженно повернула уши.
– Немка. По-нашему не понимает. - Он погладил черную, блестящую шею. Сказал по-немецки: - Гут, гут… - Так разговаривала Гертруда со своей Мальвой. Лужин вздохнул: - Пойду я. Бывай, старший лейтенант. - Он взял в руки уздечку, от которой тянулись длинные вожжи: - Подсади-ка…
– Не свалитесь? - засомневался старший лейтенант.
Это он-то, вольтижер Лужин, да с лошади? Он усмехнулся:
– Постараюсь.
Старший лейтенант подставил ладони. Лужин взялся за холку левой рукой, легко сел верхом. Тронул вожжи. Лошадь пошла потихоньку.
– Фамилия ваша как, товарищ капитан? Как докладывать?
Лужин обернулся.
– Гвардии капитан Лужин.
Лужин… Так это Лужин! Командир разведроты. Герой Советского Союза. Слышал о нем, слышал… Как же!… Вот это офицер!
Старший лейтенант махнул рукой и побежал к своим людям, которые прочесывали лес, выгоняя из кустов ошалевших фрицев.
Гронск был забит отступающими обозами, штабами, госпиталями. Жители заперлись в своих домах. Фашисты освирепели. Иногда врывались маленькими группами в дома, хватали что под руку попадет, грузили на повозки и машины.
Полевая жандармерия останавливала бегущих, даже раненых, и отправляла в окопы. И штабных писарей, и нестроевиков из обозов. Фашисты не хотели отдавать город. Они надеялись выстоять. Они ждали подкреплений.
А гвардейский корпус генерал-лейтенанта Зайцева обхватил сопротивляющиеся гитлеровские войска железными пальцами своих полков и неумолимо сжимал полукольцо на хрипящем горле.
Вместе с другими попал в окопы и фельдфебель Гуго Шанце. Его прикомандировали к комендантской роте.
Рядом сидел, скорчившись, ефрейтор Кляйнфингер с землисто-серым лицом и бегающими от страха глазами. Как хорошо все складывалось! Всю войну прослужил верой и правдой в комендантской роте. Был исполнителен, глядел в рот начальству, даже, тошно вспомнить, сапоги начищал командиру отделения. Только бы не послали на фронт! Зачем он нужен Эльзе мертвый?
И вот фронт сам пришел к ефрейтору Кляйнфингеру. И теперь не поможет ни исполнительность, ни сапожная щетка.
Он сидел на дне окопа, прижав к груди автомат, и думал о своей несчастной судьбе. Все напрасно! Колечки, подстаканники, шерстяные платки - все осталось в казарме, в чемодане. Ах, почему он не послушался Ганса, не отправил, как тот, посылку домой. А теперь вот и добро пропадет, и его шлепнут. Непременно шлепнут. Сбежать бы из этого окопа!… А как? Сзади - полевая жандармерия, эсэсовцы. Стреляют не хуже русских… Господи, господи, баварский мой боже, покровитель пива и свиных колбасок! Не допусти!…
– Ганс, как думаешь, нас прихлопнут? - у Кляйнфингера побелели губы, нос и даже глаза.
– Очень могут, - философски произнес Ганс, друг и напарник. - Конечно, если высовываться из окопа.
– А мина?
– Мина может попасть и в соседа, - также философски произнес Ганс и покосился на незнакомого фельдфебеля. Не даст ли в зубы за такие слова? Мина-то еще где, а фельдфебель и зубы - вон они.
Ну и ручища у фельдфебеля, не дай бог приложит. А нос - на двоих рос, одному достался. Нет, Ганс не верил, что его убьют. Как это вдруг, ни с того ни с сего его убьют и будет он лежать в этом грязном заплеванном окопе?
И Кляйнфингер в глубине души надеялся остаться в живых. Но не мог совладать со страхом.
– Где-то я тебя видел, - сказал фельдфебель, взглянув на Кляйнфингера.
– Ефрейтор Кляйнфингер, господин фельдфебель, - произнес тот слабым голосом.
– А-а… Помнишь, на станции я мальчишку у тебя отобрал?
– Так точно, господин фельдфебель.
– Что ж не пришел выпить кружечку?
– Служба, господин фельдфебель. Как думаете, скоро они пойдут?
– Пойдут, - кивнул Шанце.
Кляйнфингер посмотрел на свои грязные руки.
– Хоть бы руку не оторвало!
Видел он одного с оторванными руками. Чем Эльзу обнимать?
Кляйнфингера бил озноб.
– Раньше я у генерала служил. Так того снарядом на куски разорвало. Хоронили фуражку да сапоги, - сказал Шанце.
– В Индию надо было идти, в Индию… - пробормотал Кляйнфингер, как заклинание.
– В любой стране убьют. Дома надо сидеть, - откликнулся Шанце.
– До-ома… - протяжно сказал Кляйнфингер и увидел Эльзу. Она протягивала ему кружку пива, белая пена стекала по желтому прозрачному боку. И светило солнце. И Эльза улыбалась. Протяни руку - и пей. И Кляйнфингер понял, что он хочет домой. Прочь отсюда, из этих окопов с этой чужой земли. Прочь!…
Он даже привстал, словно собрался двинуться домой.
– Сиди, шлепнут, - сказал Ганс.
Прибежал взводный, пригибаясь.
– Держаться до последнего, ребята! Приказ. Фюрер помнит о нас. С нами бог!
"Где ты, господи мой баварский?" - с тоской подумал Кляйнфингер. В лесочке, против которого были отрыты окопы, началось какое-то движение. Прекратилась стрельба. И громкий голос произнес оттуда:
– Немецкие солдаты! Город окружен советскими войсками. Ваши командиры обманывают вас. Вы - обречены. Советское командование предлагает вам сдаться. Выходите из окопов и складывайте оружие. Всем сдавшимся добровольно Советское командование гарантирует жизнь.
"Жизнь… жизнь… жизнь", - забилось в мозгу у ефрейтора Кляйнфингера.
– Даем вам на размышление десять минут.
И что-то затикало там, в лесочке, словно часы стали отсчитывать время.
– Красная пропаганда, ребята! - крикнул взводный. - Они вас перебьют, как цыплят. Держаться до конца! До победы! Хайль Гитлер!
"Несчастные, - подумал Шанце. - Несчастные… Во имя чего? Во имя великой Германии они полягут здесь? Они нужны ей живые, той Германии, которая будет, когда уничтожат фашизм. Когда сорвут с глаз нации коричневую повязку. Несчастные!"
Шанце повернул голову и посмотрел на солдат.
В окопе было тихо.
– А ведь они говорят правду, - сказал он.
– Они убивают пленных! - крикнул взводный.
– Вы были в плену? - спросил Шанце громко.
– Солдаты фюрера не сдаются!
– Значит, не были… А говорите… Лично я не хочу умирать. Хотя уже достаточно пожил на свете. И ефрейтор не хочет. По глазам видать. И его сосед. И другие.
– Вы не в своем уме, фельдфебель! - крикнул взводный. - Я буду стрелять!
"Кто-то должен бросить оружие первым. И тогда они тоже бросят оружие. И сохранят жизнь. И может быть, потом хоть как-то загладят зло, которое мы причиняем! Хоть попытаются загладить зло. Иначе мы погибнем, как нация". Фельдфебель Шанце поднялся в окопе, длинный, в перепачканной глиной шинели. Нос свисал на подбородок. Он казался тощей ощипанной птицей.
Он поднялся на бруствер. Бросил на землю автомат и пошел, прихрамывая, к леску.
И тогда взводный выстрелил в тощую согнутую спину.
Шанце взмахнул руками, обернулся и сказал:
– Я знал, что эта свинья выстрелит…
И упал, раскинув длинные руки.
И не слышал второго выстрела, не видел, как покачнулся и сполз на дно окопа взводный. Не видел, как из окопов полезли солдаты, как бросали оружие в кучу и шли редкой цепочкой к лесу.
"Жить… жить… жить… - билось в обезумевшем мозгу Кляйнфингера. Он шел к лесу, все ускоряя шаги. - Жить… жить… жить".
Прямо перед зеленой стеной стояла Эльза и протягивала кружку пива. И пена стекала по желтому стеклянному боку.
Разведчики Алексея Павловича и подрывники лейтенанта Каруселина просачивались в город под одному, по двое. Ночью, задворками, огородами.
Каруселин взял себе в напарники Петра. Он мог выбрать и поопытней и посноровистей, среди подрывников были люди отчаянные, хоть к самому Гитлеру в бункер - глазом не моргнут! И все же он взял Петра. Паренек нравился ему своей восприимчивостью, приспособляемостью, что ли. Нет, он не приспосабливался к людям, не тянулся перед начальством, не улыбался поварихе, чтобы положила в котелок побольше, не просился на задания, чтобы выказать храбрость. Он умел приспособиться к обстоятельствам, к среде обитания. Быстро и безошибочно. В лесу шаг его становился мягким, пружинистым - ветка не хрустнет, ступит на болото - вода не плеснет, будто он не человек, а блуждающая кочка. Станет у дерева - нет его, словно сам часть ствола. Смеется - так весело, заразительно, загрустит - так сразу всем лицом, фигурой, руками. Вырос парень, вытянулся, неуклюжим стал. А неуклюжесть его только видимость. Видел он этого неуклюжего в деле.
Как-то понадобилось протянуть провод сквозь длинную водосточную трубу под насыпью, труба узкая, дно заилилось. А подрывники парни крупные.
– Может, я попробую, товарищ лейтенант.
Глянул на Петра Каруселин. Мосласт, плечи крепкие. Нет, не пролезет. Тут бы мальчишечку какого, живчика. А мальчишечки нет, а время подпирает, вот-вот патруль пойдет.
– Не пролезешь.
– Попробую.
– Ну пробуй, - разрешил Каруселин и подумал: "Безнадега, в трубе не застрял бы".
Петр привязал конец провода к ноге, чтобы не держать, сунул голову в трубу, потом как-то расчетливо сжал плечи, левое ушло вперед, правое - назад. Перевернулся в трубе на спину, чуть согнул ноги, оттолкнулся, торс ушел в трубу, еще согнул - оттолкнулся - ноги исчезли. Уж как он там двигался - никто не понял, только провод тихо уползал в трубу.
А тут стук дрезины послышался. Что делать? Каруселин скомандовал всем сховаться в кустах, подергал легонько провод и сам нырнул в кусты. Провод не шелохнулся, значит, понял Петр сигнал.
Патрульная дрезина прошла - ничего немцы не заметили. Каруселин подергал за провод, и тот снова медленно пополз короткими рывочками.
Ну и вид был у парня, когда он вылез: руки, лицо, живот в зеленоватом иле и песке. Говорят: запачкаться легко - отмыться трудно. А тут обратный случай: отмыться легко, а вот втиснись-ка в цементную трубу!…
Петр исполнителен. Два раза приказывать не надо, владеет немецким, что тоже в городе может пригодиться.
И наконец, не хотелось ему отпускать парня от себя. Как-то спокойней за него, когда он рядом. И Гертруде Иоганновне обещал приглядеть. У нее и так горя хватает!
Каруселин и Петр дождались на краю леса, пока желтые, опавшие листья не слились с землей. Вот теперь можно и в поле выйти. Теперь они как бы утратили плоть.
Дошли до первых заборов у реки, миновали окраинные, притаившиеся в садиках дома. Каруселин бесшумно отодрал у забора доску. Они проникли в щель и двинулись осторожно бесконечными огородами. Путь знакомый.
Шли молча сквозь настороженную тишину. Ближе к центру уличная тишина стала обманчивой, нарушалась каким-то лязгом, скрежетом, топотом. Пошли еще осторожней проходными дворами. Прежде чем пересечь улицу, выглядывали из подворотен, всматривались в зыбкую тьму, вслушивались.
Так добрались они до дома, в котором жил Василь Долевич.
Каруселин достал из кармана ключ, открыл двери. В лицо пахнул сыроватый, застоявшийся воздух. Вот ведь какое свойство у человеческого жилья. Стоит человеку покинуть его хоть на несколько дней, оно начинает тосковать, перестает дышать, все в нем замирает, застаивается, откуда-то приползает сырость. Жилье становится мертвым, потому что его покинула душа - человек.
Они вошли в квартиру. Света не зажигали.
– Поспим, - сказал Каруселин. - Днем в городе человеку проще. Не так заметен. Да и дождаться надо кое-кого.
Петр лег, не раздеваясь, на кровать Василя. От холодной подушки шел застоявшийся запах сырости. Он привык засыпать и на нарах в тесной землянке, и на лапнике в лесу, и прямо на земле возле костра, научился спать сидя, привалившись к дереву, и стоя, и даже на ходу. Сон у него был крепкий, но чуткий, сны снились редко, зато были пестрыми: то бегущие по освещенному манежу лошади, то знаменитая драка с братом. Даже во сне он ощущал легкие стремительные броски, а потом падал куда-то долго. Броски были приятны, падение жутковатым. Не просыпался Петр только потому, что даже сонный понимал, раз брат бросает - ничего не случится.
Каруселин составил себе стулья. Катеринина кровать была ему мала. Поверх расстелил плетенную из тряпочек дорожку с пола. Она была сыроватой. Под голову подложил Катеринину подушку. Долго не мог заснуть. То мешали собственные руки, то затекала шея, а главное, не давали заснуть мысли. Придет тот человек, которого он ждет? Успеют ему сообщить? Знает ли он что-нибудь о заложенных немцами фугасах? Да и жив ли он? Все может случиться. Немцы и со своими расправляются. А времени мало. Ох, как мало. Надо найти эти фугасы и обезвредить. Надо. Во что бы то ни стало надо.
Наконец и Каруселин уснул.
И оба проснулись от осторожного стука в дверь.
Каруселин кивнул Петру. Тот подошел к двери, спросил тихо:
– Кто?
– Представитель биржи труда. Перепись трудоспособных.
Петр удивленно оглянулся на Каруселина.
– Открой, - сказал Каруселин.
Петр скинул дверной крюк. За дверью стоял мужчина в сером пальто и надвинутой на глаза широкополой фетровой шляпе неопределенного цвета.
 |
– Здравствуйте.
Голос показался Петру знакомым. Лица он не разглядел.
– Сколько у вас в квартире живет трудоспособных? - спросил мужчина.
– У нас… А кто считается трудоспособным? - спросил Петр.
– Надо читать приказы и распоряжения. Они вывешены на всех углах, - строго произнес мужчина. - За невыполнение - расстрел.
– Трудоспособный один. Я, - сказал Петр. - Дядя - инвалид.
– М-м-м… Есть справка?
– Дядя, у тебя есть справка? - спросил Петр.
Каруселин понял, что сейчас Петр огреет пришедшего чем придется, парень решительный.
– Есть справка. Есть! - громко сказал Каруселин. - Заходите, господин хороший.
Мужчина прошел в комнату и снял шляпу. Да это ж директор школы Николай Алексеевич Хрипак! Петр даже рот разинул. Вот уж кого не ожидал встретить!
– Закрой рот, Лужин, - усмехнулся Хрипак. - Если не ошибаюсь, Петр?
Петр кивнул и сглотнул слюну.
– Здравствуйте, товарищ Хрипак, - сказал Каруселин. - Есть что-нибудь?
– Они вели земляные работы в саду седьмой школы, где у них штаб.
– Что за работы?
– Вроде окопа, - неуверенно ответил Хрипак. - Туда ж и близко не подпускают.
– Вроде окопа, - задумчиво повторил Каруселин. - Еще?
– Есть сведения, что минирована котельная на деревообделочном. Товарищи говорят: вытаскивали из стен в двух местах кирпичи, и еще в основании трубы. Там возились. Теперь все заложено, зацементировано.
– Так.
– Электростанцию немцы восстановили наполовину. Два генератора работают. Полагают, что заминированы и генераторы.
– Очень может быть, - согласился Каруселин. - Немцы там есть?
– Только обычная охрана. Перед взрывом кто-нибудь появится.
– Не обязательно, - сказал Каруселин. - Немцы гады обстоятельные. Могут все концы свести в одну точку и оттуда произвести взрывы.
– Ну? - удивился Хрипак.
– Эту точку надо найти, ну и, конечно, предпринять меры на местах. В случае обнаружения каких-либо проводов - к ним не прикасаться. Вызвать меня. А то и объект порушите и сами взлетите.
– Дядя Толя, - вмешался в разговор Петр и покосился на Хрипака. - Им точку на стороне невыгодно создавать. Бункер надо строить, или землянку, или еще что. Скорей всего они где-нибудь при своем учреждении. Там что угодно можно нагородить, и не видит никто.
– В школе у них штаб, - сказал Хрипак.
– Возможно, и в школе, - снова согласился Каруселин.
– И от нашей школы расстояние примерно одинаковое, и до деревообделочного, и до электростанции - центр города.
Хрипак посмотрел на Петра серьезно.
– Вырос ты, Лужин.
– А Ржавый, то есть Долевич, говорил, что вы у немцев на бирже труда работаете.
– Куда послали, там и работаю, - усмехнулся Хрипак. - А вы полагаете, что у плохого директора хорошие ученики?… Гм…
– Придется школу проверить, - сказал Каруселин.
Ждали темноты. День тянулся томительно. Петр остался один. Каруселин не разрешил ему выходить на улицу. Петра могли узнать немцы. Ведь он жил среди них в гостинице.
Каруселин ушел и его долго не было. Потом в дверь постучали. Пришел Хрипак. Принес какой-то узел.
– Скучаешь, Лужин? Недолго осталось. Скоро наши придут. Кругом грохочет. - Он развязал узел. В нем оказались черные эсэсовские мундиры и фуражки с высокими тульями. - Примерь-ка.
Петр надел мундир, нахлобучил на голову фуражку.
– Пойдет, - одобрил Хрипак.
– А штаны?
– Штанов нет. И сапог нет. Мундиры и фуражки товарищи раздобыли на станции. Не то стащили, не то выменяли.
– Как же без штанов? - спросил Петр.
– Не знаю. Дождемся твоего дядю.
Вскоре пришел Каруселин. Тоже примерил мундир и фуражку. И огорчился по поводу штанов и сапог. Где это видано, чтобы эсэсовцы разгуливали по городу без штанов?
Порылись в гардеробе у Василя. Небогато жил Долевич: несколько рубах, старые серые штаны, сапоги с побитыми подошвами.
– Придется патруль раздевать, - сказал Каруселин.
Хрипак и Петр уставились на него удивленно.
– Петр, выйди на улицу и позови патруль. Немецкий-то не забыл?
– Что им сказать?
– Ну… Что-нибудь, чтобы они пошли… Знаешь, правду им скажи, что здесь два партизана.
– Стрельбу поднимут, - сказал Петр.
– А ты скажи, что партизаны пришли из леса и спят. Клади барахло под одеяло.
Они быстро сунули мундиры и рубахи Василя под одеяло на кровати. С краю Каруселин сунул сапоги, будто они высовываются.
– Что ж они, так в сапогах и спят? - спросил Хрипак.
– А что взять с русских свиней? - усмехнулся Каруселин. - Мы с вами, товарищ Хрипак, станем у двери. Дверь откроют - нас не видно. Чем бы их трахнуть? Стрелять не хочется. Лучше тихо.
– В сенях должны быть лопаты, - сказал Петр.
В сенях действительно был инструмент. И лопаты, и лом, и топор. Хрипак взял топор, Каруселин - лом. Вернулись в комнату, осмотрели кровать. Добрая вышла кукла, полное впечатление, что лежат двое.
– Ну, давай, Петя, - сказал Каруселин. - И поубедительней.
Петр пересек дворик и выглянул на улицу. Посередине шли солдаты, но форма у них была серая. К черным мундирам не подойдет. Он решил дожидаться эсэсовцев. Ждать пришлось недолго. Два автоматчика показались из-за угла. Они шли неторопливо, переговариваясь.
Петр подождал, пока они подойдут поближе, и выскочил им навстречу.
– Хайль Гитлер! Быстро за мной. Я - агент штандартенфюрера Витенберга.
– Что случилось? - спросил один из эсэсовцев, постарше.
– В доме - два партизана. Они пришли из леса и завалились спать
– Откуда ты знаешь, приятель?
– Каждый служит фюреру на своем месте. И не задавай глупых вопросов. Входим тихо. Берем сонных.
Петр приказывал так уверенно, что приученные к повиновению автоматчики пошли за ним.
Возле дверей Петр остановился и прижал палец к губам.
– Никакой стрельбы. Они нужны штандартенфюреру живыми. Я за ними неделю охочусь, - произнес он шепотом и тихо отворил входную дверь. Автоматчики вошли за ним в сени, потом в комнату. На кровати лежали двое. Один прямо в сапогах.
Петр обернулся к автоматчикам и прошипел:
– Т-с-с…
И в это мгновение на головы пришедших обрушились мощные удары, и оба рухнули на пол.
Когда стемнело, из дома Долевичей вышли двое эсэсовцев и вывели мужчину в широкополой шляпе, который нес на плече лом. Они зашагали прямо посередине улицы. Миновали цирк, гостиницу, свернули к школе. Прошли мимо, не озираясь. Не было возле здания ни автомобилей, ни автоматчиков, и само здание казалось покинутым, светилось только одно окно возле входа. Но у ворот стояли часовые. Вряд ли немцы стали бы охранять пустое здание.
Эсэсовцы и мужчина с ломом свернули в переулок, обошли школьный сад и оказались с тыльной стороны школы.
– Ломик, - сказал эсэсовец постарше, Каруселин.
– Осторожно, у них может быть сигнализация.
– А мы ничего не тронем. - Он взял ломик, вставил его в прутья решетки, нажал. - Помогите.
Хрипак тоже навалился на лом. Прут начал сгибаться, нижний конец его хрустнул и выскочил из крепления. Оба ухватились за него и отогнули в сторону.
На улице показался патруль.
– Быстро. Чини. Петр, внимание.
Хрипак стал ковырять ломиком землю возле решетки. Патруль остановился. Один из патрульных спросил:
– Что тут у вас?
– Ремонтируем решетку, черт бы ее побрал! - откликнулся Петр.
– Помочь не надо?
– Свинья справится и сам.
Патрульный кивнул, и они пошли дальше. Когда патруль свернул за угол, Каруселин спросил у Петра:
– Пролезешь?
– Попробую.
– И пробовать нечего. Давай второй прут отогнем. Что там парень один будет делать? - сказал Хрипак и сунул лом под соседний прут. Вместе с Каруселиным отжали его в сторону. - Теперь все пролезем.
Петр пролез в дыру. За ним Каруселин.
Хрипак порвал пальто, пока пролезал, слышно было, как рвалась материя.
Все трое двинулись к школе.
С этой стороны часовых не было. И прожектор не светил: то ли поломан, то ли немцы реѬили, что он больше не нужен, раз штаб уехал.
На эту сторону здания выходил черный ход. Он был закрыт.
– Если они не заколотили изнутри, ключ есть. Я все ключи от школы сберег. - Хрипак тихонько звякнул связкой ключей, отыскивая нужный. Ключ вошел в замок, но не поворачивался. Видимо, дверью не пользовались, и замок заржавел.
– Осторожней. Не сломайте, - прошептал Каруселин. - Дайте-ка я попробую.
Замок не поддавался.
– Может быть, не тот ключ?
– Тот, - ответил Хрипак твердо.
Каруселин снял со связки другой ключ, длинный и толстый, скорей всего от парадного, сунул конец его в кольцо ключа в двери и, ухватив пятерней оба ключа, нажал. Раздался неприятный скрежет. Ключ повернулся.
Каруселин потянул дверь. Она поддалась с каким-то стоном. И петли заржавели.
Все трое замерли. Потом вошли. Двери прикрыли и долго стояли, привыкали к темноте.
Петр так четко представил себе маленький вестибюль, словно видел: направо начинается узкая лестница наверх. На деревянные перила строители предусмотрительно набили деревянные не то шишки, не то шары, чтобы мальчишки не скатывались. Многих шишек не хватало. Прямо - выход в широкий коридор первого этажа. Налево - узкая лестница вниз, в подвал. В начале войны она была наглухо забита. Он помнил, как еще в первые дни бомбежек отбивали доски, и сколько за дверью скопилось мусора, - таскали в ведрах.
В здании стояла тишина. Из тьмы проступили стены, пятнами посветлее наметились окна. Получалось, что и не так уж темно.
– Что дальше? - шепотом спросил Хрипак.
– В подвал. Он сплошной? - спросил Каруселин.
– Узкий коридор и классы, как наверху. Только потолки пониже.
– Пошли.
Хрипак повел их налево, где начиналась лестница вниз. Они спустились по ней, подергали дверь. Она была закрыта.
– Пойдем по другой лестнице, - шепнул Хрипак.
Они поднялись, вышли в коридор и, стараясь ступать как можно мягче, направились к парадному входу. Паркет под ногами поскрипывал, кое-где пол оказался щербатым, верно, тащили по нему что-то тяжелое. Хрипак вздохнул: придется пол перестилать. Эк, загадили школу… Европа!…
Из двери возле главного вестибюля просачивалась в щель тоненькая желтая полоска. За ней слышались голоса. Слов было не разобрать.
Хрипак повел товарищей вниз. Дверь тоже оказалась запертой.
Хрипак ощупал ее. Если немцы не поставили свой замок, ключ должен найтись. Пальцы натолкнулись на тяжелую щеколду, запертую на большой висячий замок. Рядом с замком висела сургучная печать. Вот аккуратисты!
– Надо открыть, - шепнул Каруселин.
– Таких ключей нет.
– Ломик есть.
– Нашумим.
– Что поделаешь? Постараемся потише.
Ломик Каруселин тащил с собой, словно чувствовал, что он пригодится. Конец лома прошел в дужку замка, уперся в дверь. Раздался громкий хруст. Задвижка отскочила.
Наверху показался свет, видимо, немцы услышали подозрительный звук и кто-нибудь выглянул в коридор.
Но все было тихо. И свет исчез.
В подвале стояла непроглядная тьма. В коридоре не было окошек.
– Эх, фонарика нет!
– Есть спички, - сказал Хрипак.
– Можно и свет зажечь, - предложил Петр. - Окон нет.
– Давай, - согласился Каруселин.
Петр никак не мог вспомнить, где выключатель. Никогда не приходилось зажигать свет. Он всегда горел здесь. Вероятно, у дверей?
– Пощупай слева, - сказал Хрипак.
Петр провел рукой по стене возле двери. Нащупал выключатель, повернул. Загорелись три тусклые лампочки. Ток еще подавался.
Каруселин пошел по узкому коридору, осматривая стены, потолок, пол, двери. В одном месте, прямо против закрытой двери, поперек потолка тянулась серая цементная полоска.
– Интересно, - Каруселин попробовал ее ковырнуть пальцем. Цемент схватился хорошо. Он осторожно постучал по полоске ломом. Осыпались кусочки, обнажая пучок цветных проводов.
– Та-ак… Думаю, это то, что мы ищем.
– Перережем? - предложил Петр.
– Не спеши. Перерезать недолго. Кусачки в кармане. А если они под током? И где-нибудь грохнет?… - Он подергал дверь, от которой шел пучок проводов. - Эти, что остались, - он мотнул головой наверх, - ждут команды. А мы будем ждать их. У входа.
Каруселин решительно направился к двери.
– Гаси свет.
Щелкнул выключатель. Коридор погрузился во мрак. Они вышли за дверь и уселись на ступеньках.
– Будем ждать, - прошептал Каруселин. - Утром здесь будут наши.
За толстыми стенами тюрьмы грохотала гроза. А небо в маленьком окошке под потолком было голубым. Гроза грохотала уже сутки. Семеро узников прислушивались к ней, сидя на голых нарах или подпирая стены. Двигаться было трудно в этой тесноте: семеро - в одиночке.
– Наши идут, - сказал Федорович и перекрестился. - Даруй, господь, воинству советскому победу!
– Нету твоего бога, нету, - сердито сказал маленький тщедушный заключенный, сидевший на корточках на полу, под самым окошком. - Был бы, не допустил бы, чтоб тебя, его служителя, да в тюрьму.
– Грешен, - вздохнул Федорович. - Мирские песни пел.
– Невелик грех.
– Кто отмерит? - неопределенно ответил Федорович. Малиновая рубашка его слиняла, покрылась светлыми пятнами, правый рукав порван в плече. Под глазом темнело зеленовато-желтое пятно, след "душевного разговора" в камере для допросов.
Послышался слабый стук.
– Поп, прикрой глазок.
Федорович поднялся с нар и встал к двери спиной, длинноволосой головой прикрыв глазок. Спутанная сивая борода его торчала в разные стороны, как куски пакли.
Тщедушный передвинулся и приник ухом к стене. Лицо его замерло в напряжении. Потом он сказал тихо:
– Наши у самого города. Немцы попытаются ликвидировать заключенных.
– Как это ликвидировать? - не понял Федорович.
– А так. Вывезут в лес и перестреляют. А то и прямо в камере. Фашистов не знаешь?
Заключенные молчали.
Федорович вернулся на нары, сидел, опустив голову. "Так и пропадут православные души ни за грош? Где ж справедливость твоя, господи? Опять отвращаешь лик свой. А ведь тут не воры, не тати. Тут честные люди, отцы семейств. Чем же они тебе не потрафили, господи? Молитвы не возносят? Эка печаль! Я-то возносил! Меня за что ж? А эти, крови православной реки пролившие, уйдут? По нашим косточкам? Где ж справедливость твоя?"
Звякнул дверной запор. Фельдфебель-надзиратель каркнул:
– Баланда. Шнель, швайн.
За баландой ходили по очереди. Была очередь тщедушного.
– Погодь, - произнес решительно Федорович и пошел из камеры, прихватив алюминиевый бачок. Фельдфебель двинулся за ним.
Там, где сходятся тюремные коридоры, повар-арестант налил в бачок из большого котла на тележке несколько поварешек баланды, в которой плавали желтые, разварившиеся кусочки брюквы и еще бог весть что.
– Отваливай.
– И на том спасибо, - сказал Федорович.
Фельдфебель ткнул его в спину кулаком. Несильно.
– Шнеллер…
Федорович пошел, неся перед собой бачок на вытянутых руках.
Фельдфебель открыл дверь, пропуская заключенного. И тут Федорович внезапно надел на голову надзирателя бачок и втолкнул в камеру.
Баланда текла по коричневому мундиру. Фельдфебель, ничего не видя, ошалев, потянулся к кобуре. Но Федорович схватил его за руки.
– Чего мешкаете, православные?
Тщедушный выхватил из кобуры пистолет фельдфебеля. Все стояли растерянные. Что дальше?
– Бери ключи.
Ключи связкой висели на ремне надзирателя на длинной цепочке. Их сняли вместе с ремнем.
– Заткни ему рот, - приказал Федорович одному из заключенных. - Да двери прикройте.
Фельдфебелю сунули в рот тряпку, связали ремнем руки.
– Стрелять-то можешь? - спросил Федорович у тщедушного.
– Приходилось.
Тогда так, православные. Грех пропадать без драки. Открывайте камеры, пока этого не хватились. Берите, чем бить можно, а мы пойдем до того кашевара. Ты - за моей спиной, а я с бачком. Возьмем тюрьму, православные! Не сдаваться ж немчуре!
– Ну, поп!… - на скулах тщедушного ходили желваки.
– Между прочим, я советский гражданин, - прогудел Федорович, открыл дверь и пошел коридором, неся перед собой бачок. За его спиной шел тщедушный с пистолетом в руке. На том конце коридора появился второй надзиратель.
Федорович шел прямо на него. Видимо, надзиратель принял идущего позади тщедушного за своего напарника, он спокойно повернулся и пошел впереди. Возле перекрестья коридоров Федорович ударил его бачком по голове. Надзиратель рухнул мешком. Тщедушный извлек из его кобуры второй пистолет, протянул Федоровичу. Тот молча помотал головой: не умею, мол.
Возле арестанта-повара стоял надзиратель из другого коридора и наблюдал, как повар наливает баланду в бачок. Повар замер с открытым ртом, увидев Федоровича и тщедушного с двумя пистолетами в руках. Надзиратель обернулся, тоже увидел вооруженных арестантов, сунул свисток в рот, но свистнуть не успел. Повар обрушил на его голову тяжелую поварешку.
– Все правильно, товарищ, - прогудел Федорович. - Забирайте ключи, открывайте камеры.
Коридор, в котором была камера Федоровича, наполнялся заключенными. Они выходили из камер бесшумно, без единого слова, еще не понимая, что происходит.
– Православные, - тихо прогудел Федорович. - Большевики есть?
– Ну, - откликнулся кто-то неуверенно.
– Бери оружие. Будем драться… А я стрелять не умею.
– Товарищи, - сказал тщедушный, передавая кому-то пистолет. - Все делаем тихо и молча. Пока они не очухались, берем верхний этаж. Стрелять только наверняка и в крайней необходимости. Пошли, товарищ поп!
И они двинулись длинным коридором. Без шума не обошлось. Железная решетка на запоре перекрывала верхний этаж. Трое надзирателей были в коридоре. Один выстрелил. Кто-то из заключенных застонал. Остальные залегли.
– Знает кто немецкий? - спросил тщедушный.
– Немного могу, - откликнулись сзади.
– Скажи им, что если не откроют - перестреляем. Нам терять нечего. Хотят остаться в живых - пусть отдадут оружие.
Знавший язык прокричал несколько слов по-немецки. Надзиратели жались к стене. Может, не поняли?
– А ну еще разок, - велел тщедушный.
И после того как снова прокричали те же слова, выстрелил. Ближайший надзиратель схватился за ногу. Остальные подняли руки, пошли к решетке. Бросили на пол оружие. Звякнули ключи. Решетка со скрипом откатилась в сторону.
Надзирателей заперли в камере.
Потом захватили женский блок. Федорович метался по камерам, искал Гертруду Иоганновну, но ее не было. Наружная охрана стреляла по окнам.
– Хрен с ними, пускай стреляют, - сказал тщедушный.
– Пускай, - согласился Федорович. - Погоди-ка. - Он отломил доску от нар, снял с себя малиновую рубашку, привязал ее рукава к доске. - Вот так. Пусть город знает, что тюрьма наша, - и высунул самодельный флаг в окно.
И тотчас флаг изрешетили пули.
– Ишь ты, - сказал удовлетворенно Федорович. - Боевое знамя, как на баррикадах.
– Рубахи-то не жалко?
– Жалко, христианин, жалко. А шкуру собственную еще жальчей. Спаси и помилуй, господи!… Ежели ты, конечно, есть.
Штандартенфюрер Витенберг только молча скрипнул зубами, узнав, что тюрьма захвачена заключенными. Черт с ними, с заключенными. Конечно, самое верное средство замести следы - ликвидация. Тех, что сидели в подвале службы безопасности, попросту увезли в лес в спецмашинах. Привезли уже мертвых. Задохнулись от выхлопных газов. Остроумная выдумка. Их свалили в старый ров. Закапывать было некогда. Ничего. Главное, они будут молчать.
А сейчас надо вывозить архив. Списки агентурной сети, явки, клички. Все сложное хозяйство контрразведки. И вовремя убраться самому. Русские обложили город. Солдаты сдаются. Только эсэсовцы держатся. И пока не перекрыли мост, надо уходить. Как бы ни окончилась война - агентура всегда понадобится.
Документы службы безопасности грузили на два бронетранспортера. Их охраняли эсэсовцы. Грузили в несгораемых ящиках. В случае чего можно закопать или потопить.
Прежде чем уйти из кабинета навсегда, Витенберг огляделся. Разгром. Позор! Ну, ничего. Они оставят русским развалины. Этому городу больше не подняться.
Штандартенфюрер взял телефонную трубку. Слава богу, связь еще работает. Он назвал номер.
– Шарфюрер Китце, - раздалось в трубке.
– Китце, слушайте меня внимательно. Ровно через час - взрывайте. И уходите.
– Слушаюсь, штандартенфюрер.
– Успеха вам.
Штандартенфюрер знал, что Китце не уйти, штаб тоже минирован. Шарфюрер падет смертью героя.
Витенберг быстро спустился по лестнице, сел в машину.
На центральной улице образовалась пробка. Орали люди, сигналили автомобили.
Штандартенфюрер не стал ждать, повел свои бронетранспортеры по маленьким улочкам. Это даже кстати, что образовалась пробка. Он подъедет к мосту быстрее, чем другие, и переправится через реку без помех. Еще успеет взглянуть на фейерверк.
Но у самого моста стоял разбитый грузовик. Рядом и на мосту - трупы. Возле разбитой машины сидел на корточках солдат, прислонившись к скату, перебинтовывал руку с помощью другой руки и зубов.
Штандартенфюрер выскочил из бронетранспортера:
– Что случилось?
Солдат даже не встал, только голову повернул.
– Русские.
– Откуда русские? - Штандартенфюрер не поверил, но с того берега раздалась автоматная очередь и пули просвистели рядом.
Витенберг невольно присел рядом с солдатом.
– Здесь не может быть русских.
– Значит, это деревья стреляют. И машину разнесли снарядом.
Штандартенфюрер перебежал к своим бронетранспортерам.
– Нам надо выбраться во что бы то ни стало. Идите по домам, сгоняйте сюда жителей. Быстро.
Василь Долевич лежал за деревом возле самой дороги. Мост как на ладони. На мосту - ни души. Только на настиле лежит несколько мертвых фашистов. Да сразу за мостом стоит разбитая автомашина. В нее ударили в упор из сорокапятки. Говорят, что и партизанский танк вот-вот подойдет.
Налет на мост совершили так внезапно, что гитлеровцы и выстрелить не успели. Вправо и влево от моста залегли партизаны. Здесь фашистам пути нет.
Потом на той стороне появились бронетранспортеры.
Рядом с Василем лежал командир группы Захаренок.
– Сейчас попрут, - сказал он, ни к кому не обращаясь. И повернулся к Василю. - Ржавый, скажи артиллеристам, чтобы глядели в оба. Начнут прорываться, пусть бьют прямой наводкой.
– Есть! - Василь вскочил и побежал, петляя между стволов, к артиллеристам, благо они были рядом, передал приказ, вернулся и снова залег за деревом. На той стороне началось какое-то движение.
А потом из-за разбитой машины появились люди: женщины, дети. Они молча взошли на мост, прижимаясь друг к другу и ступая осторожно, словно мост мог под ними провалиться. Следом шли эсэсовцы с автоматами, а за ними ползли бронетранспортеры.
Партизаны лежали в укрытиях, боясь шевельнуться, не раздалось ни одного выстрела. Видно было, как на бронетранспортерах поворачивались черные стволы пулеметов.
– Сволочи, - выругался Захаренок тихо. Он растерялся. Что предпринять? Есть приказ - не выпустить из города ни одного фашиста. Но как будешь стрелять по женщинам и детям?
Безоружные горожане уже добрались до середины моста, живой щит фашистов.
– Хозяин, - сказал Василь, по привычке назвав Захаренка хозяином. - Я подползу с гранатами. Как женщины пройдут, брошу под бронетранспортер.
– Убьют.
– Не, я верткий.
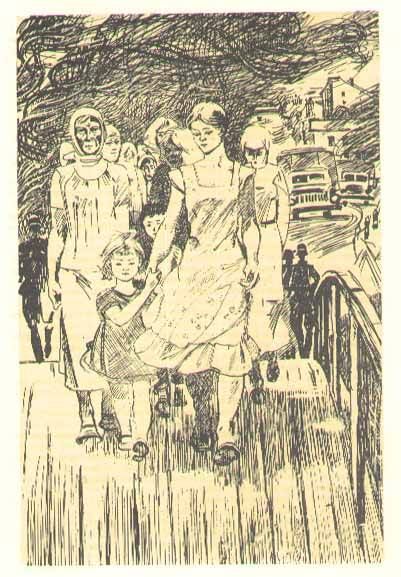 |
И вдруг увидел в первом ряду Злату с Катериной. Сердце оборвалось.
– Ступай… Товарищи, - тихо сказал Захаренок, - пропустите наших. А как я дам команду - ложись! Бейте по фашистам без передыху, чтобы головы не поднять. Ах, сволочи.
Василь пополз к мосту, с которого спускалась перепуганная толпа. А в толпе уже заметили партизан. Кто-то всхлипнул. Женский голос крикнул:
– Стреляйте, сынки, стреляйте по супостатам!
На мосту грохнул выстрел. Женщина упала.
– Вперед! - кричал Витенберг.
Злата увидела ползущего вдоль дороги Василя, прижала к себе Катерину.
– Падайте, как крикнут: "ложись", - сквозь зубы сказал Василь, когда первый ряд поравнялся с ним.
Он понимал: как только его заметят - поднимут стрельбу, и полз, как ящерица, припав животом к земле. С двумя тяжелыми противотанковыми гранатами в руках. И замер, словно мертвый, когда прошли женщины. Эсэсовцы не обратили внимания на труп. А Василь вскочил, словно в нем выпрямилась пружина, бросил обе гранаты под бронетранспортер. И упал на землю.
– Ложись! - крикнул Захаренок.
Злата придавила к земле Катерину, упала на нее, за ней повалились остальные. И тотчас заработали автоматы и винтовки, партизаны выскочили из-за деревьев, бросились на эсэсовцев.
Грохнули разом два взрыва. Бронетранспортер метнулся в сторону, сломал перила и рухнул на берег.
Витенберг, оглушенный, бросился в сторону, но чья-то пуля сразила его.
Второй транспортер, брошенный водителем, стоял на середине моста, урча невыключенным мотором. Оставшиеся в живых эсэсовцы бежали в город.
– Живы? - крикнул Захаренок.
Люди стали подниматься с дороги, оглядывать друг друга. Живы, неужели живы? Злата метнулась к мосту, таща за руку плачущую Катерину.
– Василь! Василь!… - звала она. - Ржавый!
– Ржавый, - тоненько затянула вслед за ней Катерина.
И обе остановились.
Василь лежал на дне придорожного кювета, придавив телом левую руку, а правую откинув в сторону.
– Василь, - тихо позвала Злата, по щекам ее текли слезы, она не утирала их, хотя из-за них все было, как в тумане. - Василь.
Подошел Захаренок, нагнулся, приподнял голову Василя. Василь вздохнул и открыл глаза.
– Отбили? - голос был едва слышен.
– Ну! А говорил, не убьют. Говорил, верткий. Так не убили ж.
– Василь! - сказала Злата.
– Да живой твой Василь. Живой, слава богу. Где болит-то? - спросил Захаренок.
– А нигде… Везде… - Василь приподнял руку и потерял сознание.
…Ровно через пятьдесят шесть минут после телефонного звонка штандартенфюрера шарфюрер Китце вышел из комнаты и направился к лестнице в подвал. Сейчас он выполнит приказ и уйдет.
Возле входа в подвал стояли два эсэсовца. Откуда они здесь взялись? А он-то думал, что остался в здании один, да охрана у ворот.
– Хайль Гитлер! - сказал весело Китце.
– Хайль! - откликнулись эсэсовцы. И тот, что помоложе, спросил: - Что вы здесь делаете?
– Выполняю приказ.
– Чей?
– Штандартенфюрера Витенберга.
– Тогда подымите руки.
– Позвольте, какое-то недоразумение.
– Руки! - строго скомандовал младший.
Китце поднял руки. Он ничего не понимал.
– Штандартенфюрер велел включить рубильник ровно через час. А вы меня задерживаете.
Эсэсовцы молча отобрали у него пистолет. Вывернули карманы. Звякнули упавшие на пол ключи.
– Это от комнаты в подвале? - спросил молодой.
– Да. И штандартенфюрер очень рассердится.
– Пусть сердится, - миролюбиво произнес молодой. - Идите вперед.
Щелкнул выключатель. За дверью у стены на корточках сидел странный мужчина в широкополой шляпе, нахлобученной на глаза.
Он встал и сказал что-то по-русски.
И старший эсэсовец ответил ему по-русски. И Китце понял, что никакие они не эсэсовцы. И рванулся, чтобы убежать, но молодой ловко подставил ему ножку, и он растянулся на полу.
– Нехорошо, шарфюрер. Сидите спокойно, а не то я вас пристрелю. Понятно?
– Так точно.
Китце не знал, что мнимые эсэсовцы спасли ему жизнь.
Партизанская бригада выполнила задачу. Ни один фашист не ушел из города через мост, не переплыл через речку. Гитлеровцы сдавались, кое-где сопротивлявшихся эсэсовцев уничтожали дружным огнем. В город входили советские войска.
Толик бросился к деду Пантелею за Серым, но дед уже шел навстречу, ведя овчарку на поводке. Пантелей Романович с трудом передвигал ноги, но не выйти на улицу он не мог.
Старик увидел издалека Толика и отпустил собаку. Пес бросился к своему хозяину, сбил Толика с ног и стал облизывать его, лежащего. А Толик смеялся.
Серый неожиданно рванулся к подворотне горелого дома, зарычал.
– Погоди-ка, дед, - Толик насторожился. - Кто там, Серый?
Пес залаял.
– Идем посмотрим.
В развалинах горелого дома жались друг к другу три автоматчика, глядели испуганно на Толика и на страшную серую собаку, которая скалила зубы.
– Хорошо, Серый, - сказал Толик и подумал: "Вдруг пальнут со страху?"
Но немцы положили автоматы на землю, встали и переминались с ноги на ногу, не спуская глаз с собаки.
– Хенде хох, - приказал Толик.
Они подняли руки.
– Коммен зи… сюда, - Толик ткнул пальцем в землю перед собой.
Немцы поняли, вышли из развалин. Толик взвалил два автомата на плечо, третий взял в руки. Кивнул немцам на подворотню. Те покорно вышли на улицу.
– Линкс, - приказал Толик.
Они повернули налево.
– Найн, найн! Рехтс! - поправился Толик. Все перепутал, Леокадия влепила бы двойку.
Немцы послушно повернули направо и побрели посередине улицы. Толик шел следом, ведя Серого на поводке. А по панели шаркал больными ногами Пантелей Романович. Он старался не отставать от Толика и думал о том, что сына не оживить и внука не оживить. И с ненавистью смотрел на спины в серых мундирах.
Главная улица была усыпана цветами, наверное, ни одного цветочка не осталось ни в садах, ни в палисадниках. По этим цветам и с цветами в руках шли по улице наши солдаты, сверкая гвардейскими знаками и медалями на пропыленных, пропотевших гимнастерках, с грязными лицами, на которых сверкали белки глаз да зубы в улыбках. Шли автоматчики, шли бронебойщики, таща на плечах свои длинные тяжелые ружья, шли артиллеристы возле своих пушек. Гремели танки с открытыми люками, с яркими пятнами цветов на зеленой броне. Шли освободители.
Толик увидел маму. Она стояла в черном платке на перекрестке, плакала, не скрывая слез, и широкими взмахами руки крестила проходящих солдат. Какой-то солдат вышел из строя, обнял ее, ткнулся в щеку желтыми усами.
– Что вы, мамо, мы ж вернулись. Насовсем.
Мать припала к его плечу, всхлипнула, утерлась кончиком платка.
– Моего среди вас нету? Ефимов Григорий?
– Не встречал, мамо, - сказал солдат. - Может, и есть, а может, другой город освобождает. Велика земля.
И побежал догонять своих.
А от моста навстречу войскам входили в город партизаны. Впереди, тяжело ступая, шел Захаренок, частный предприниматель, владелец мастерской с автоматом на могучей шее. К нему подбежала незнакомая женщина.
– Самовар-то мой когда почините?
Захаренок оторопел, не понял сперва, а когда понял - начал смеяться, за ним засмеялись идущие рядом, и те, что шли дальше и не знали, что за смех, откуда взялся, по какому поводу, тоже смеялись. Смех - заразителен.
– По-чи-ню… По-чи-ню… - выдавливал сквозь смех Захаренок.
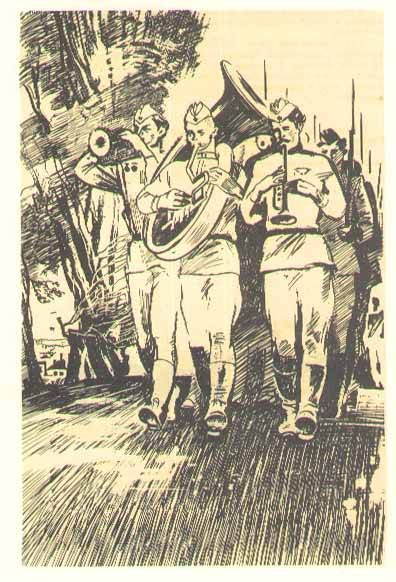 |
А женщина, не понимая, что же тут смешного, - ведь взял самовар в починку и сгинул бог знает куда на столько времени, - шла рядом и сердито кивала.
А от тюрьмы шла третья колонна, пожалуй, самая пестрая, самая измученная и счастливая. Несколько женщин бросились навстречу, обнимали своих близких. А впереди этой странной колонны шел Федорович в одной майке и в плисовых штанах, подвязанных веревкой, босой, и держал в руках доску с привязанной к ней малиновой рубахой, простреленной, как решето.
По улице шагал военный оркестр. Медные трубы сверкали на солнце. Рядом с оркестром бежали счастливые мальчишки и девчонки.
Гремел марш. Медные трубы звали Победу. А она была еще далеко, за сотни километров, за сотни дней. За сотни боев и смертей.
Но отсвет ее уже горел в медных, начищенных трубах!
 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |