"Сын колодца" - читать интересную книгу автора (Кармен Лазарь)
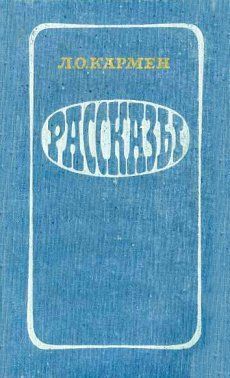 |
Лазарь Кармен Сын колодца (Из жизни каменоломщиков)
***
Больно глазам становится, если взглянуть сейчас на степь, что широко раскинулась за городом, за слободкой Романовной. Она дымится под палящим солнцем и сверкает, как серебряный щит.
– Ну и парит! Ай да жарища! Одно слово – баня! – восклицают каменоломщики.
Они на минуту высунутся из колодцев каменоломен, рассеянных в степи, и тотчас же скроются.
Степь будто вымерла. Ее оживляют только несколько баб-молочниц из ближайшей деревни, которые гуськом на маленьких тележках плетутся в город. Сидя на мешках, набитых сеном, они, чтобы не терять драгоценного времени, вяжут чулки и вышивают рубашки.
Да еще одно существо оживляет степь. Пимка.
Пимка – сын сапожника Митрия, первого «мухобоя» и скандалиста во всей слободке.
Восемь лет ему. Но он смышлен и боек.
Как стрела, мчится он вдоль степи.
На нем синие штанишки и белая рубашонка. В правом кармане звенят медные пуговицы.
Дзинь! Дзинь! Дзинь!
За ним вприпрыжку скачет Суслик – черная гладкая собачонка величиной в большую фисташку, со свисшим набок розовым языком.
Вид у Пимки необычайно озабоченный и торжественный.
Одна молочница, заинтересовавшись им, кричит:
– Малец! А малец! Куды?!
Но он не слышит.
Он торопится к колодцу, где работает дядя Иван, с важным поручением и предписанием от тети Жени.
Пимка устал. Как назло, у него лопнула подтяжка, и он занозил на ноге палец.
Присесть бы на камень отдохнуть, поправиться. Да некогда…
Но вот и колодезь.
Вокруг, как по арене, ходит впряженная в вырло[1]Настя – знакомая Пимке подслеповатая красная лошаденка в повязке на голове из полотенца для защиты от солнца. Она наматывает на барабан канат, поднимающий снизу камень.
У колодца стоит Степан, тяжчик,[2] и покрикивает на нее.
Пимка остановился в двух шагах от колодца и, с трудом переводя дух, спросил:
– Дядя Иван здесь?!
– А что?
– Тетя Варя родила!
– Гм, – засмеялся Степан, – вот отчего ты прискакал, пожарный?!
– Тетя Женя велела, чтобы он сейчас пришел.
– Ладно. – Степан повернулся к своей хате и крикнул:
– Тарас!
Из хаты не торопясь вышел длинный как шест парень в красной рубахе до колен, с открытой шеей и копной грязных волос. Он громко зевал.
– Полезай в колодезь и скажи Ивану, пусть домой идет. Жена родила.
– И чего ей приспичило? – спросил, не переставая зевать, Тарас.
– Спроси ее, – ухмыльнулся Степан.
Пимка с нетерпением и недовольством поглядывал то на Тараса, то на Степана. Его возмущало равнодушие, с которым они относились к столь важному событию.
– Это ты, гобелок, новость принес? – спросил Тарас.
– Да, – ответил быстро Пимка. – Позовите его и скажите, чтобы шел скорее, а то тетя Женя серчать будет…
– А ну ее к аллаху! – неучтиво отрезал Тарас и пошел к колодцу.
Пимка обиженно надул губы.
Тарас зевнул еще два раза, взобрался на поданную Степаном шайку[3] и ухватился за канат. Степан выпряг Настю, навалился животом на вырло, барабан заскрипел, завертелся, и Тарас стал медленно погружаться в колодезь.
У Пимки точно тяжесть свалилась с плеч. Он опустился на четверик,[4] подозвал Суслика, приласкал
– Ишь, пузан!
– А что ото у тебя из кармана сыплется? Деньги? – спросил он немного погодя.
– Н-не, – ответил Пимка, блеснув хитрыми карими глазами. – Ушки!
– У кого выиграл?
– У Петрушки, сына Григория Алексеевича… балалаечника.
– Здорово!
Налегая все сильнее и сильнее на вырло и описывая круги вокруг колодца, Степан завел с ним шутливую беседу:
– А ты видел уже ребенка?
– Видел!.. Раньше всех!
В глазах Пимки засверкали веселые огоньки.
– Ого-го-го! Как же это случилось? Раньше всех! Ах ты, апельсин!
Пимка объяснил:
– Когда тетя Варя собиралась рожать, меня не пускали в комнату. А я подождал, чтобы тетя Женя вышла, и залез под кровать.
– Под чью кровать?
– Да тети Вари.
– Правильно!
– И как только ребенок крикнул, я сейчас голову и высунул…
– Молодчина! – похвалил Степан.
Пимка увлекся своим повествованием и продолжал:
– Он совсем маленький, как суслик, и пищит…
Степан бросил вырло и стал считать сложенный в штабели камень. А Пимка уставился в колодезь и стал ждать с минуты на минуту появления дяди.
Но вдруг глаза его забегали и на пухлых щеках выступил румянец. Он вскочил и метнулся в сторону, как вихрь. За ним – Суслик.
– Что случилось? – спросил Степан.
– Саранча! – ответил Пимка и погнался вслед за саранчой, которая грациозно и с треском описывала дуги в воздухе, насыщенном солнечной пылью…
Шайка ударилась в дно колодца. Тарас, изогнувшись, сунулся в дыру, ведущую в каменоломню.
Перед ним открылся длинный, узенький коридор с низким потолком, подпертым на каждом шагу гнилыми балками, осклизлыми стенами и могильным запахом.
Тарас миновал коридор, свернул вправо и пошел на тусклый огонек.
Огонек привел его к Ивану.
Иван работал один в маленьком припоре.[5]
Он стоял на коленях перед громадным материком,[6] похожим на надгробную плиту, методично распиливая его гигантской пилой надвое.
Кхи! Кхи! Кхи! – визжала пила.
Иван весь ушел в работу, и Тарас видел только его густые волосы, позолоченные желтой пылью, красный, туго стянутый платок на шее и выкругленную в белой рубахе спину. Над ним, под самым потолком, на железном треугольнике, вбитом острием в стену, стояла большая керосиновая лампа. Она коптила и дымила от недостатка воздуха, как пароходная труба. Все стены, земляной пол, материк и сам Иван были облеплены сажей. Она носилась в воздухе, подобно черным мухам, и душила.
– Иван! – окликнул Тарас.
Иван вздрогнул от неожиданности, задержал пилу и поднял голову. Лицо у него было желтое, высеченное будто из камня; щеки куда-то провалились, и бесцветные глаза глядели из темных кругов тупо, в одну точку.
Иван не узнал его сразу и спросил визжащим, как пила, голосом:
– Кто это?
– Я!.. Тарас! Неужто не узнал? Сова!
– Ты?! – виновато забормотал Иван.
Правая рука, державшая пилу, упала вдоль тела, и он облокотился о материк. Сильная усталость сквозила во всей его фигуре.
– Совсем ослеп в этой норе, – проговорил Тарас. – А я пришел звать тебя. За тобой тут одного трубача прислали, жена родила. Слышишь?
Иван прекрасно слышал, но ни один мускул не шевельнулся на его каменном лице. Только меж бровями легла складка да в глазах промелькнуло страдальческое выражение.
– Так ты вылезай сейчас же, а то нагорит тебе от тети Жени. – И он засмеялся.
– Обойдутся, – устало вымолвил Иван.
– Раз зовут, стало быть, обойтись не могут.
– Плаху[7] кончать надо.
– Как знаешь. – Тарас пожал плечами.
Долго еще после ухода Тараса сидел Иван над плахой, не меняя позы. Со стороны можно было подумать, что он спит. Но вот из груди его вырвался протяжный вздох. Он взял в руки пилу и принялся за прерванную работу.
Кхи! Кхи! Кхи! – снова завизжала пила.
Иван пилил и думал о новом испытании, которое послало ему небо.
Еще рот!..
Ужаснее этого он представить себе не мог. Самим жрать нечего, и так второй месяц питаешься бледным чаем, селедкой и луком, а тут…
Смешно – в прошлом месяце он всего заработал шесть рублей. Проживи-ка на эти деньги с женой и безруким отцом (отец лишился рук в каменоломне и висел у него на шее).
Хорошо, что «тех» нет, Лели и Нины!
Перед Иваном в полумраке припора предстали рядышком, как живые и как на картинке, две тоненькие девочки – близнецы с большими курчавыми головками.
«Отчего они умерли?»
Врач для бедных сказал, что от плохого питания. Может быть. Им, врачам, известно.
А хорошие они были – тихие, смирные. И всегда вдвоем, в уголке. Все со своими глиняными чашечками, горшочками и самодельными куклами возятся и щебечут, щебечут…
Рука, водившая пилу, дрогнула.
«И зачем теперь это новое существо?… Тоже долго не проживет. Один только перевод денег. Крестины, свивальники… Новые долги. Опять же подрыв торговли. Чуть Варя купечеством занялась, – стоп!»
Иван вспомнил, что его ждут, и ему стало совестно.
– Как же это так?! Жена родила, а я не двигаюсь?!
Он отложил пилу, вскочил, отряхнулся от пыли и стал торопливо напяливать пиджак…
Первый, кто бросился ему в глаза, когда он поднялся наверх, был племянник.
Пимка встретил его сурово.
Дядя заставил себя ждать больше часу. Притом лицо его было такое равнодушное, холодное. А Пимка был так уверен, что он обрадуется и сейчас же вылезет из колодца.
– А, это ты? – сказал Иван.
Пимка сердито отвернул лицо и проворчал:
– Так долго!.. Идите… Тетя Варя родила…
– Иду, иду!
– С тебя магарыч, – сказал тяжчик и хлопнул Ивана по плечу.
– Да… магарыч, – вяло ответил Иван и мигнул глазом племяннику.
Пимка сорвался со своего места, и они зашагали по степи. За ними кинулся Суслик.
Иван шел медленно, покачиваясь из стороны в сторону, как человек, отвыкший от ходьбы. Пимка поминутно забегал вперед и заглядывал ему в лицо. Он хотел прочитать, что творится у него на душе. Но ему это не удавалось.
Лицо Ивана по-прежнему оставалось равнодушным и холодным.
На полпути он неожиданно обернулся и спросил:
– Девочка или мальчик?
– Мальчик.
Иван остановился и проговорил дрожащим голосом:
– Врешь?!
– Не вру! – бойко ответил Пимка.
Лицо у Ивана просветлело, и на бескровных губах зацвела улыбка.
Увидав, какое впечатление произвело на дядю это известие, Пимка схватил его за рукав и воскликнул:
– И красивый такой!.. Глазки такие большие, носик красненький.
– Шутишь?
– Вот крест, дяденька!
– Да?!
Иван просветлел еще больше, схватил обеими руками Пимку за бедра и поднял его высоко над головой.
Суслик, вообразив, что Иван обижает Пимку, звонко залаял и вцепился острыми зубами в его сапог.
– Дурной, – рассмеялся Иван.
Продержав племянника несколько минут в воздухе, он бережно опустил его на землю и сказал:
– А я, брат, припас для тебя ушку. В степи нашел. Должно быть, обронил какой-нибудь отставной от козы барабанщик, – и он протянул ему белую пуговицу.
– Спасибо, дядя!
Пимка схватил ее с жадностью и помчался вперед с Сусликом, оглашая степь веселым криком и смехом.
Он теперь совершенно примирился с дядей.
Иван, как все каменоломщики, жил в самом грязном переулке слободки и снимал конуру за пять рублей. Она, впрочем, обходилась ему в три, так как он сдавал за два угол молодому парню Федору, тоже каменоломщику.
На пороге квартиры Ивана встретила сестра его Женя – полная женщина с рябым лицом и мужским голосом, по профессии – прачка.
– Где пропадал так долго? – спросила она с неудовольствием.
– С материком возился, – робко ответил он.
– Ну, да ладно… Поздравляю с хлопцем. А важный хлопец. – И она трижды поцеловала его.
– Спасибо, сестра.
Он крепко пожал ей руку и переступил порог.
В крохотной и прибранной комнатке было тихо. Слышен был только шепот безрукого старика, отца Ивана, и двух старушек-соседок. Они сидели в углу у печки.
Родильница лежала на широкой кровати у стены и дремала. Иван издали разглядел е.-1хрупкую фигуру под одеялом, левую безжизненную руку, вытянутую вдоль тела, и опущенные синие веки. Плоская грудь ее чуть-чуть колыхалась.
«Где же он?» – подумал Иван, ища глазами новорожденного.
Он лежал по правой руке родильницы, завернутый в тряпки, и выглядывал из них красной, величиной с небольшой кулак рожицей.
Завидя Ивана, одна старуха подошла к нему и прошамкала:
– Уснула… Пусть спит… Я ей намедни водицы святой испить дала…
Иван кивнул головой и, стараясь не скрипеть сапогами, подошел к кровати. Он остановился в пол-аршине от нее, затаил дыхание и неловко стал мять в шершавых, с толстыми жилами руках фуражку. Когда неловкость прошла, он посмотрел на жену и сына, и слезы радости чуть не брызнули у него из глаз. В нем проснулось отцовское чувство. Радость его усугублялась еще тем, что это был первый его сын.
Иван сквозь туман глядел на это крохотное существо, и ему захотелось прижать его к груди. Но он воздержался, ведь это был не материк, а он только с материками умел обращаться.
Хотелось ему также приласкать и горемычную подругу свою…
Иван долго стоял, не двигаясь, у постели, и на душе у него было необычайно радостно. Он, кажись, всю жизнь простоял бы здесь.
Этот чистый уголок после холодного и гнилого припора казался ему настоящим раем.
В комнате пахло мятой. Тихо теплилась перед образом богородицы красная лампада, и медный венчик его блестел как золото. Kate живые цветы поверх образа – бумажные розы…
За стеной в прачечной кто-то выводил тонким, нежным голосом:
«Впоть в1три, впоть буйш – аж дерева гнуться»…
И песня эта навевала покой и мир.
– Иван, а Иван! – услышал он вдруг над ухом шепот сестры.
Он повернулся. Она отвела его в сторону и что-то сказала ему.
Он мотнул головой, надвинул картуз и вышел в переулок.
Нелегкая задача предстояла Ивану. Сестра наказала непременно достать пять-шесть, а если можно и десять рублей. Надо было заплатить бабке, купить полотна для свивальников, мыла.
Иван остановился в воротах и быстрым взглядом окинул переулок. В этом переулке он жил семнадцать лет и знал всех наперечет. Знал, кто чем занимается, сколько у кого детей, кто сколько зарабатывает.
«Призанять бы у кого-нибудь?» – мелькнуло у него, но ему тотчас же сделалось досадно и неловко за эту нелепую мысль.
Призанять здесь было не у кого. Как и он, все обитатели переулка, мелкие ремесленники, жили сегодняшним заработком и всецело зависели от своих заказчиков. А так как господа заказчики по возможности сокращали свои потребности, то благосостояние переулка сильно пошатнулось и все «сидели на якоре». Сидел на якоре Митрий-сапожник, Афанасий-штукатур, Григорий-балалаечник, Степан-кузнец, Федор – набойщик чучел, Файвелевич-старьевщик, Мирониха – торговка жареной рыбой и пельменями.
У Степана на кузне вот уже второй месяц не звенит наковальня, а Федор за три недели не продал ни одной совы и чайки. Иван, стоя в воротах, обратил внимание на худенькую женщину – Дмитриевну, жену Афанасия, в порванной косынке, с белыми, как тесто, губами. Она медленно пробиралась с жестяным чайником вдоль фасадов жалких одноэтажных хатенок, поминутно хватаясь за выступы.
Иван подумал, что, если бы на нее подул ветерок или села муха, она свалилась бы непременно.
Он провожал ее глазами до трактира. За нею бежала девочка лет семи, хорошенькая, но вся в лохмотьях, грязная, нечесаная, цеплялась за ее юбку и ревела:
– Ма-а-ма! Кушать!
Дуся – так звали девочку – заставила Ивана призадуматься над всеми детьми злосчастного переулка. Они больше всех терпели, и от их криков и плача житья не было.
Они с утра заводили такой концерт, что хоть беги в степь.
Пока была возможность, их ублажали. Сунут одному, другому в «кричалку» кусок хлеба или морковки. Но когда хлеб вышел, им стали затыкать кричалки испытанным способом.
Иная чадолюбивая маменька, у которой давно полопались барабанные перепонки и изныла грудь от этого концерта, вкупе с постояльцем-биндюжником или штукатуром распластает крикуна, как камбалу, спустит ему штаны и, задрав артистически рубашонку до носа и поплевав энергично на ладонь, всыплет ему по первое число.
Некоторые предпочитали голым ладоням мокрые полотенца, как, например, прелестная и очаровательная Родиониха, а Митрий – традиционный, освященный веками сапожный ремень.
И долго продолжалась бы эта тирания, если бы детишки сами не взялись за ум. Сообразив, что, сколько ни кричи, ничего не выкричишь у своих деспотов, они махнули на них рукой и порешили каждый про себя добывать хлеб собственной инициативой. (Впрочем, это практиковалось у них давно, сызмала.)
Вся юная гвардия, начиная с трехлетнего возраста, немытая, нечесаная, в грязных рубашонках, с утра в обществе обмызганных собак и кошек расползалась по переулку и шарила. И мало-мальски съедобное извлекалось из пыли и грязи и пожиралось с жадностью.
Юные индивидуалисты не брезговали ничем – ни головкой копченой скумбрии, ни кочаном капусты, ни хвостом луковицы, а краса и счастье Родионихи – Семка Безносый, шестилетний пузырь – даже огарком сальной свечи, чему однажды были свидетелями Нюмчик Жидок и Сашка Револьвер.
Более же предприимчивые забирались за пределы переулка и в награду получали массу деликатесов, на которые они в своем нищенском переулке не могли рассчитывать и которых так много на широких улицах, как-то: апельсиновые корки, бумажки от конфет с прилипшим к ним цветным сахаром, халвой, абрикосовые косточки и окурки – тьма окурков. А так как предприимчивости не занимать было будущим гражданам слободки, то с некоторых пор они жили в полное свое удовольствие.
Иной промышляет тем, что, облюбовав какого-нибудь дядю в каракулевом воротнике, гонится за ним до самого его дома и выцыганивает копейку, а то и две, другой, выкривив ноги, вывернув веки и скорчив гнуснейшую рожу, присаживается к кучке сирот и калек на паперти церкви и гнусит с ними в унисон: «Помогите бедному калеке, господь не оставит вас!», за что к вечеру у него оказывается в руках связка бубликов и кучка зеленых копеек; третий без стеснения залезает в лотки баб с апельсинами, яйцами и бочки с сельдями и феринками,[8] выставленные лавочниками на улицу, а остальные, под предводительством Пимки, прозванного его чудаком папашей «Адмирал Камимура», устраивают правильно организованные набеги на биндюги, вспарывают гвоздями животы мешков и отсыпают себе в картузы, шапки и подолы рубах немалую толику миндалю, галет, гороху, изюму и кокосов.
Часть добытого они съедают сами, а остальную сбывают по необыкновенно выгодной цене мелким лавочникам.
Нечего, конечно, говорить, что отважные «мореплаватели» не раз терпели в пути аварии – возвращались в свои Палестины кто с разбитым носом, кто с развороченным ухом, перешибленной ногой и помятым боком. Но зато все были сыты и у всех на головах пузырились картузы, и шапки, и карманы курток от всяких «даров природы».
Ретивый Пимка пригнал даже однажды домой пару индюков и приволок новенький фартук, снятый с извозчичьих пролеток…
Думая о них, Иван совершенно забыл о том, что наказала ему сестра. Но вот он вспомнил, и снова всплыл мучительный вопрос: «Где и у кого призанять денег?»
В нескольких шагах от него Митрий от нечего делать (его не спасала даже вывеска «Сапожник из Мукдена») сидел на подоконнике, свесив на улицу длинные, верблюжьи ноги, и наяривал на своей гармонике, заплатанной в сорока местах желтой оберточной бумагой: «Вихри враждебные…»
Прислушиваясь одним ухом к словам песни, выкрикиваемым во всю глотку Митрием, Иван ломал голову: «Где? Где?…»
Кроме этой голытьбы, у Ивана не было ни одного знакомого. Да и откуда к нему знакомые? Кому охота знаться с бедным и вечно угрюмым каменоломщиком?
В кассу сходить разве?!
Воспоминание о кассе заставило его измениться в лице. Он почернел весь и скрипнул зубами.
Как все каменоломщики, он не мог вспомнить о ней без гнева.
Нечего сказать – «касса». У него вон до сих пор топят печь квитанциями ее, а Пимка мастерит из них броненосцы и волочит их через все лужи по переулку!..
Единственный человек, на котором он остановился, был Петр-трактирщик, отец и благодетель каменоломщиков.
Когда у кого рождался ребенок, умирал кто-нибудь или случалось что-нибудь другое, шли к нему, и он выручал.
В прошлом году, когда у Ивана объявился летучий ревматизм, Петр одолжил ему пять рублей, а когда умерла Нина – одолжил еще столько же. Иван прослезился даже, когда вспомнил про Петра.
– Не друг, а мать родная, – говаривали о нем каменоломщики. – Он душу каменоломщика, как ты припор свой, знает и сочувствует.
Иван пошел бы к нему, да было совестно. Он до сих пор не отдал ему тех десяти рублей, притом дела Петра теперь обстояли также неважно.
Когда-то нет-нет да завернут к нему в трактир франты с Городской улицы, сердцееды в новых картузах с лакированными козырьками, в сногсшибательных ле-лях – рубахах, вышитых гладью и болгарскими крестиками нежными пальцами их дульциней, в красных, как кровь, на животе поясах, поддерживающих новенькие полосатые брюки, и в ботинках с такими «рипача-ми», что их слышно на другой окраине – на Пересыпи, за вторым кругом. Завернут, раздавят по здоровенному шкалу, закусят маринованной скумбрией и разобьют на бильярде пирамиду. А теперь хоть бы один завернул!.. Совсем пустует трактир, и на киях и бильярде завелась паутина…
«К хозяину, что ли, пойти?»
Хозяин! Странно звучало для него это слово!
Хороший хозяин, которого никто в глаза не видел. Да и как увидишь его, когда он ни разу не наведается в степь и не спустится в колодезь?
Тяжчик однажды спьяна проговорился, что хозяин боится спуститься в колодезь.
– Чего?! – поинтересовались каменоломщики.
– Чтобы не забили его!
– Что мы, звери? – обиделись каменоломщики.
Хозяин всегда объяснялся с ними через тяжчика или приказчика. Он напоминал собой далай-ламу тибетского, который живет где-то далеко-далеко, на недосягаемых вершинах, в неведомых краях. О нем знали каменоломщики только понаслышке, что он плотный мужчина с кривыми ногами, сутулый, с широким фиолетовым лицом и желтой бородой, что жена его «ходит в кружевах» и дети круглый год живут за границей и образуются для того, чтобы можно было потом управлять колодцами, хотя для этого образования особенного не полагается.
Еще им было известно, что он живет где-то на Фонтане, на собственной даче, среди массы цветов, в хорошеньком домике с балконом, на котором вся семья его пьет по утрам кофе из тоненьких фарфоровых чашечек.
Два года назад Иван, когда его сильно обидел тяжчик, пошел было к нему с жалобой. Но он потерпел неудачу. У самых ворот дачи на него набросились хозяйские собаки и сильно покусали его. И злился же потом Иван!
– Хотя бы глазком посмотрел, на кого весь век работаешь и жизнью каждую минуту рискуешь…
Иваном овладело отчаяние, точно такое же, когда Тарас сообщил ему о рождении сына. Он забыл недавнюю радость и умиление, и в нем снова вспыхнула злоба против нового, лишнего рта.
Этот новый рот уже заявлял о себе, предъявлял свои требования.
«Господи! – думал, чуть не плача от душившей злобы, Иван. – Сидел человек в припоре, резал спокойно камень. И вдруг бросай пилу, вылезай наверх и ищи денег!»
Он вспомнил сестру и обратил теперь на нее свою злобу.
«И чего ей надо? Чего она гонит? Неужели обязательно нужны новые свивальники?! Разве нельзя нарезать из старой простыни или нижней юбки?!»
Иван посмотрел на степь, где маячили колодцы, и его потянуло туда. Ему хотелось бежать, забраться назад в свою берлогу, а они пусть делают, что хотят, без него.
Как раз против переулка стоял новенький, точно с иголочки, двухэтажный дом. Фасад его весь был синий, а крыша зеленая, с куполом и громоотводом… По бокам громоотвода, развалясь в небрежных позах, сидели две алебастровые голые дамы, из коих одна держала s руках лиру, а другая – чашу, и смеющимися глазами поглядывали на прохожих.
– У, бесстыжие! – говаривали всегда, проходя мимо, слободские жены, отличавшиеся патриархальными нравами, и звонко сплевывали, а мужья их, напротив, гоготали и отпускали всяческие остроты.
Домик этот принадлежал Вавиле Дорофееву, бывшему тяжчику, нажившему капиталы «на браке» и прочих фокусах, на соках каменоломщиков и известному больше под именем «пиявки».
Иван загляделся на этот домик и подумал:
«Вот если бы у этого родился сын, он не тужил бы!..»
– Ты еще здесь?! – услышал вдруг Иван знакомый голос.
Он быстро повернулся и столкнулся с сестрой.
– А я думала, что ты давно ушел, – проговорила она, качая укоризненно головой. – Стыдись! Жена больна… сын… дома ни копейки!..
– Куда же пойти! – забормотал он. – Иду, иду!..
Все дороги ведут в Рим, только дороги каменоломщиков – к Петру.
Иван после долгого колебания пошел к нему, и тот опять не отказал ему, дал пять рублей…
Скромно были отпразднованы крестины новорожденного Александра.
На крестины были приглашены Иваном и Женей два пильщика из «думского» колодца и постоялец Федор.
Крестными были брат Митрий и Аглая Трофимовна Панталонкина – важная старушка в черном старомодном платке, с гладко причесанными волосами, в мантильке из плюша и кружевной наколке. Она с особым шиком и достоинством, когда ей подсунули акт о рождении, расписалась под жирным крестом Митрия: «Дворянка, вдова губернского секретаря».
Как водится, гости раздавили три пузана водки и «четыре пива», закусили керченской селедкой, колбасой и пирогом, изготовленным дворянскими ручками Аглаи Трофимовны, многократно лобызались и желали «всего, всего, дай боже», пропели хором «Вниз да по матушке по Во-о-лге», а после «Ой, за гаем, гаем!» под аккомпанемент Митрия на гармонике.
В заключение Иван из-за пустяков поссорился с Митрием; Митрий утверждал, что «апонцы» и жиды – одно и то же, Иван отрицал.
Слово за слово, Иван обозвал Митрия «рваным сапогом», а тот его «лапацаном».
– Кто «лапацан»?! – вскипел Иван.
Скандал разгорелся, и, если бы не вмешательство Жени, он завершился бы потасовкой.
Со дня крестин прошло два месяца.
Варя давно уже поднялась с постели и занималась своей торговлей. Она с утра уходила на рынок, нагруженная двумя громадными корзинами с зеленью.
Она – на базар, Иван – в каменоломню.
Что касается Санечки, то она поручила его вниманию соседей и бойкого, смешливого племяша Пимки.
Пимка присматривал за ним, а она, как только урвет минуточку, бежит домой.
Она прибежит, вся запыхавшись, вся в поту, бледная, с трепещущим сердцем и онемевшими от корзин руками, наскоро, на курьерских, покормит его, чмокнет раз-другой в лоб или щечку, перепеленает, прольет над ним слезу, промолвит: «И зачем ты в бедноте родился», и опять марш на рынок.
Пимка снова заступает ее место. Сидит на корточках у корыта, где барахтается и визжит, как поросенок, Санька, с нахмуренным челом, на котором отпечатано сознание важности возложенной на него миссии, качает и напевает классическое, слободское «Зетце!» – «Бей!».
Или напевает излюбленную песнь слободских блатных – воров «Дрейфуса».
А Варя тем временем разоряется, орет охрипшим голосом на весь рынок:
– Петрушка «гейша»!.. Сельдерей «падеспань»!.. Капуста «кекуок»!.. Помидоры «Мукден»… Пожалуйте, мадамочки, красавицы!..
Счастливую противоположность Варе представляла Екатерина Петровна Хвостова, живущая в одном доме с нею.
В девушках она работала на пробочном заводе и все заработанное отдавала родным. Печальное будущее ожидало ее. Но случилось так, что она познакомилась на народном балу с артельщиком из банка. Он воспылал и сочетался с нею.
Родиониха своим своеобразным языком вот как передавала историю их знакомства и женитьбы:
– Ну, значит, встретились они на балу. Она пондравилась ему. А она пондравиться может, танцует – мое почтение. Он ее на падеспань, потом на краковляк. А апосля танцев в буфет. «Не хотите ли, барышня, пирожное или апильцина?» – «Благодарствуйте! Не хочу», – отвечает и глазки книзу. Умница! Это ему пондравилось. Скромная, значит, семейственная, не то что другая – жадная: «Ах, пирожное! С нашим удовольствием!..» Одначе он уговорил ее чай внакладку пить. После чаю они опять два краковляка протанцевали. На другой день он ей свидание возле городской авдитории назначил и тут же ей, как полагается, коробку с мон-пасьенами, и пошло у них, пошло!..
Весь переулок завидовал Екатерине Петровне. И было чему.
Она жила, как княгиня, в двух комнатах с кухней. Комнаты были оклеены светлыми обоями, в одной стоял буфет с чайным сервизом, большой круглый стол и этажерка, а в другой – двухспальная кровать с двумя горками подушек и подушечек.
Три недели назад она благополучно разрешилась девочкой – Фелицатой. И надо было видеть, как ока ухаживала за нею. По двадцать раз меняла пеленки, одеяльца, купала ее, убирала в кружевные чепчики.
Когда она садилась в окна, расстегнув халат, и кормила свою лялечку белой, как сахар, грудью, все соседки и дворничиха собирались под окном и любовались ею.
– Ну, андель, – говорила в умилении дворничиха.
И точно ангел. Щечки розовые, носик точеный, глазки как маслинки, волосы гейшей, в ушках серьги, на пальчике обручальное колечко. Она и в душе была ангелом. Помочь кому – бедной невесте ли, нищему – она первая. Двугривенный, а то и тридцать копеек отвалит. И никому от нее отказу. Персияшка зайдет во двор с обезьянкой, чехи с арфой и скрипкой, шарманщик – она обязательно завернет в бумажку две-три копейки и выбросит в окно.
Особенно нежна была она к соседям. Когда Варя родила, она сейчас же два фунта сахару, осьмушку чаю и фунт мыла отправила ей и, как только, бывало, услышит отчаянный крик Саньки, оставляет свою Фели-цату на руках матери и бежит к нему. Она извлечет его из тряпок и, присев на край кровати, покормит грудью.
Санька смеется ей в глаза и от удовольствия фыркает, как жеребенок. Молоко ее не похоже на жижицу, которой кормит его мать. От него несет не то резедой, не то фиалкой, и сладкое оно такое.
И хохотала же Екатерина Петровна, господи, когда ей приходилось отнимать Саньку от груди.
Он вцепляется руками в ее лиф, прическу и орет.
– Пусти! – смеется она, – Надо ведь и лялечке оставить немного.
Но он не принимал никаких резонов и впивался глубже в ее прическу.
Пимка, все время скромно смотревший на эту сцену из угла, вставал, подходил и говорил Саньке, смачно утирая руками нос:
– Да ну, будет, товарищ! Зекс – довольно! Слышишь?! А то рыбы дам! – И он давал ему леща.
И только таким манером ей удавалось освободиться от него.
Варя после каждого такого посещения ее являлась к ней и целовала ей руки.
Саньке четыре года. У него большая голова, зеленоватое лицо, круглые, как у совы, глаза и рахитичная грудь, руки и ноги.
Сегодня в первый раз он выглянул самостоятельно во двор.
К нему подскочил Валя Башибузук:
– Давай в квач-квач играть!
– Я не умею.
– Дурачок!
Он сделал из большого и указательного пальца бублик и пояснил:
– Я плюю в эту дырочку. Если заденет палец, ты даешь мне по уху, а нет – я тебе.
– У-у! – мотнул Санька головой.
– Я плюю! – объявил Валя и запел: – Квач-квач, дай калач! Видишь? Чиста ручка, как петрушка.
Не успел Санька моргнуть, как что-то здорово огрело его по уху. Он заорал.
– Ну, чего, дурак?! – рассердился Валя. – Мы же честно играли! – И шмыгнул в переулок.
С этого дня Санька сделался полноправным гражданином переулка и вошел в состав его юной гвардии под кличкой «Сургуч».
И завертелся Сургуч, как осенний придорожный лист в облаках пыли.
В один день он ознакомился со всей слободкой – площадями, базарами, улицами, задворками, научился стрелять наравне со своими юными товарищами и, как они, возвращался всегда домой с полными карманами.
Такая беззаботная жизнь пришлась ему по сердцу, и все чаще и чаще он исчезал из дому.
Сегодня его можно было встретить на похоронах, завтра – на параде на Соборной площади, послезавтра – в порту, на проводах иконы Касперовской божьей матери.
Больше всего он любил похороны. Ввинтится в толпу и заглядывает всем в торжественно настроенные лица. Он путается в ногах, как собачонка. А когда ему надоест толкаться, он вынырнет у самого балдахина, впереди удрученной вдовы, ведомой под руки, и вдруг среди стройного пения архиерейских певчих «Господи, помилуй» и сдержанного плача вдовы раздается его звонкий голос:
– Пимка, иди сюда! Здесь слободнее!
Иногда он примазывался к певчим, отбирал у тенора или баса пальто и палку и, нагрузившись, следовал за ним, обливаясь потом, до самого кладбища, за что первый удостаивался вкусить колевы с мармеладом.
Особенно Санька любил генеральские похороны. Он забегал вперед и поворачивался лицом к оркестру. Оркестр играет «Коль славен наш господь в Сионе», а он дирижирует своими грязными лапами и отбивает такт ногой, чем приводит в негодование капельмейстера, а у музыкантов-солдат вызывает улыбку.
Когда не было похорон, он торчал на станции конки. Подбирал брошенные пассажирами пересадочные билеты и сбывал их другим по копейке и по две…
Варя терзалась, глядя на сына.
– Отчего бы тебе не подумать за Саньку? – говорила она частенько мужу.
– А что?
– В школу бы какую запределить его.
– Это твое бабье дело, – отмахивался Иван.
Варя иногда всю ночь не смыкает глаз и все думает, думает, как бы Саню в люди вывести.
«И есть же такие счастливчики! К примеру, Сидориха. Вот так повезло ей с ее Ваней. Юнкер он, и какой бравый!
Нет такой девицы на слободку, которая не страдала бы по нем и дусей в глаза не называла!
А как он мать уважает, хотя она семечками торгует. Все «маменька» да «маменька». По воскресеньям в церковь с нею ходит, ручку целует. Скоро он в прапорщики выйдет, а там, смотри, офицер.
«Господи, вот бы и моему Санечке офицером быть!» – И она рисует себе соблазнительную перспективу:
Соборная площадь, парад, войска. Санечка в новеньком мундире, новеньких сапогах, сабля на боку блестит.
– Равнение направо, м-марш! – командует он.
Варя до того увлекается, что забывает про окружающих. Весь дом спит, и слова команды вырываются у нее, как у заправского офицера.
Иван просыпается и спрашивает спросонья в испуге:
– Что случилось?
– Ничего, спи!.. – отвечает, краснея, Варя.
Варя грезит дальше. Она не прочь, чтобы Санечка был машинистом на пароходе, как Сережка, сын мясника Василия. Тоже хорошее дело.
Он каждый раз привозит из Порт-Саида то страусовое перо, то кусок шелку, то шкатулочку, то громадного омара.
Третий гудок. Она, Варя, стоит на палубе и прощается с Санечкой. Санечка в синем костюме и джонке на голове.
– Прощай, Санечка!
– Счастливо оставаться, маменька!
– Мадам, – говорит толстый краснорожий капитан с голосом, как гудок, – прошу сходить.
Она целует в последний раз Санечку и сходит по сходне…
После таких ночей Варя вставала с воспаленными глазами, сонная, но сияющая. Она подзывала Саню, гладила его по голове и спрашивала:
– Хочешь в школу?
– Н-нет.
– Чего?
– Боюсь, там бьют… Валя рассказывал…
– Глупенький. Там хорошо. Учат грамоте. А ты чем хотел бы быть?
– Разбойником!
– Фу!.. Дурачок!
С некоторых пор Варя забросила торговлю и с утра, нарядившись в праздничное платье и накинув черный платок в букетах, исчезала на весь день из дому. Она возвращалась лишь к вечеру, разбитая, усталая.
– Где шляешься? – спрашивал Иван.
– После узнаешь, – отвечала она загадочно. Она «шлялась» по приемным всех школ, какие были в городе, крепко прижимая к груди прошение, написанное знакомым наборщиком. Но напрасно. Все школы были переполнены, и для Санечки ее нигде не оказывалось свободного местечка.
Варе сделалось страшно. Она боялась, что ей никогда не видать Саню офицером или машинистом.
А Саня, не подозревая страданий матери, оставался по-прежнему беспечным – весь день околачивался в порту, на площадях и базарах.
Но вот в жизни его произошел перелом. Бегая однажды взапуски с товарищами по слободке, он обратил внимание на такую картину: по мостовой в облаке пыли двигалась колонна мальчишек, одетых в серые блузы, стянутые черными поясами, и в лихо заломленных набок фуражках. У каждого в руке было по ружью, ну точь-в-точь солдаты, только семнадцативершковые.
Впереди шли три барабанщика и, на ходу утирая рукавами блуз носы, бойко нажаривали палочками.
Прохожие останавливались и глазели.
Мужчины смеялись, а женщины расплывались в миндальную улыбку и сентиментальничали:
– Деточки вы мои миленькие!
Барабаны вдруг смолкли, и «армия» затянула:
Армию сопровождали: важный господин в шевиотовом пальто, очках и форменной фуражке и еще двое. А позади плелся обоз – две платформы, нагруженные шинелями и узелками с провиантом.
Санька чрезвычайно заинтересовался этой армией, примкнул к ней и пошел рядом, в ногу.
– Р-раз! Р-раз! – командовал мальчик в желтом поясе – взводный.
Санька решил идти с ними хоть на край света.
Они вышли в степь и сделали привал.
Детишки побросали ружья и атаковали платформу с провиантом. Они расселись потом на травке, развязали узелки и принялись за еду. Они запаслись колбасой, сыром, маслом, яйцами, редиской.
У Саньки глаза разгорелись при виде такой массы снеди. Он затесался среди детей и поглядывал то на одного, то на другого с жадностью голодной собачонки.
На него обратил внимание кругленький мальчик с большими серыми глазами. Во рту у него торчала сосиска, а перед ним, на носовом платочке, служившем ему скатертью, лежали жареный цыпленок и огурцы.
– Эй, карандаш! – крикнул он Саньке.
Санька подошел.
– Хочешь поесть?
– Хочу.
– Садись!
Санька сел.
Мальчик дал ему кусок цыпленка и хлеба.
– Где учишься? – спросил погодя мальчик.
– Нигде.
– Чего же не поступишь в школу?
– Боюсь.
– Балда! Хорошо в школе. Час учишься – и на двор. Играешь в дыр-дыра, тепку, чехарду…
Санька внимательно слушал его и спросил, робко указывая на важного господина в очках:
– Кто он?
– Инспектор. Христофор Валерианович… Шкалик…
– А этот?
– Блин, сторож… Дорбанюк! – крикнул он соседу – веснушчатому карапузу. – Жарь блина!
– Идет! Только, чур, вместе!.. Эй, вы!
Мальчишки запели хором:
– Блин! Целый блин! Полблина! Четверть блина!
– Молчать! – крикнул инспектор, закусывавший в сторонке вместе с классным наставником, а сторож покраснел и погрозил кулаком…
На другой день, не сказав никому ни слова, Санька побежал в школу. Он немало был удивлен, увидев совершенно пустой двор.
– Где же все? – спросил он самого себя. – Не надул ли тот пучеглазый?
В эту минуту послышался звонок, затем оглушительный топот, точно сорвалось стадо баранов, и во двор высыпало множество мальчишек – все те, которых он вчера видел.
С криком и смехом они перемешались в кашу. Кто полез на мачту, водруженную посреди двора, кто – на трапецию, некоторые занялись чехардой.
Один, перепрыгивая, зацепился и кувыркнулся.
Санька засмеялся. Понравилось.
Он очень огорчился потом, когда вторично прозвучал звонок и мальчишки опрометью бросились назад по классам.
Двор опустел и сделался мрачным.
Санька хотел было уйти, но, услышав вдруг стройное пение, остался. Детишки пели серебристыми голосами в классе под аккомпанемент фисгармонии:
Санька прибежал домой как ошпаренный. Он упал на грудь матери и расплакался.
– Что случилось?
– Хочу в школу!
Варя не верила ушам. Она взяла его за подбородок, заглянула ему радостно в глаза и спросила:
– Ты взаправду?!
– Да! Да!
Варя притянула к своим губам его голову и воскликнула:
– Родной мой! Дай время, и я устрою!..
Саня рос. Ему стукнуло двенадцать лет, а вакансий в школе все еще не было. Варя устала от бегания по всяким инспекторам.
Иван тем временем сильно постарел. Он весь сгорбился, пила в руке пошаливала.
– Чего помощника не возьмешь? – спрашивали товарищи.
– Шутники… На какие средства?
– А Саня-то твой?
– Какой он помощник?
– Скажите… Когда мне было девять лет, я помогал отцу.
– Оно так, да жаль, – проговорил как бы про себя Иван. – Мать плакать будет. Она в школу отдать его все собирается. Все думает из него либо машиниста, либо прапорщика сделать.
– Отчего Османа-пашу из него не сделает? – острили каменоломщики.
Заявления товарищей навели Ивана на мысль действительно привлечь к себе Саньку в помощники.
«Если Гриша, сын Прохора, – думал он, – помогает отцу, и Вася, сын Алексея, так отчего бы Саньке не помогать? Он поможет пилу наточить, лампу заправить…»
И вот однажды поутру, когда Варя собиралась на базар, Иван остановил ее.
– Что такое?
– Дело.
Она спустила на пол корзину и присела на кровати. Предчувствие чего-то недоброго сдавило ей грудь.
– Я хочу поговорить нашшет Саньки, – процедил, не глядя на нее, Иван.
Варя насторожилась.
– Довольно ему собак гонять.
– Он не гоняет собак, – вступилась она горячо.
– Ну да все равно!.. Пора подумать о нем. Мне давно нужен помощник. Хочу взять его в колодезь.
– На, выкуси! – И Варя показала кукиш.
Она потом вскочила и крикнула истерически:
– Жди!.. Не отдам тебе я его! Не отдам!
– Чего ты, сатана! – нахмурился Иван.
Варя затопала ногами:
– Не отдам, говорю! Слышишь?! Не для того растила я его!.. Довольно с меня, что колодезь съел отца и брата! Хочешь, чтобы он съел и сына?!
– Такая уж наша судьба!
– Плевать на твою судьбу!
– Дура баба! – стал усовещивать ее Иван. – Мне обязательно нужен помощник. Не те силы у меня нынче… Отдай его! Все равно юнкером не будет!
– Нет, будет! – затопала она опять ногами.
– Когда рак свистнет!
Он плюнул и, хлопнув дверьми, вышел из комнаты.
Целый месяц Варя ни на шаг не отпускала от себя Саньку. Она боялась, как бы муж не отнял его у нее тайком.
– Не дури! – упрашивал Иван.
– И чего ты артачишься! – урезонивали ее окружающие.
На нее наседали со всех сторон – Женя, соседи.
Она боролась, противилась.
Силы наконец стали покидать ее, и она почувствовала, что Саня мало-помалу уходит от нее.
Она в ужасе поглядывала то на окружающих, то на степь, по которой разбросались колодцы.
Эти колодцы напоминали ей могилы. Ей казалось, что степь, жадная, ненасытная, протягивает к ней руки и хочет вырвать у нее Саню.
И она в изнеможении закрывала глаза…
Солнечный день. По степи молча двигается небольшая группа – Иван, Варя и Саня.
В правой руке у Вари – корзина. Она идет, низко нагнув голову, стараясь скрыть слезы.
– Далеко еще до колодца? – спрашивает отца Саня.
Он в новенькой розовой рубашонке; под рубашонкой материнский крест.
Он щурит глаза, и лицо его серьезное, как у взрослого.
– А вот!..
Знакомый колодезь. Знакомый Степан-тяжчик.
Они подошли вплотную.
– Здорово, товарищ. Помощника привел?
– Да!
– В добрый час! Сейчас лезть будешь?
– Сейчас…
Степан приготовил шайку. Иван встал на нее и привлек к себе за руку сына.
Варя рванулась к колодцу, и в глазах ее отразился испуг.
– Осторожно!
– Не бойся! – успокоил ее Иван. – А ты не боишься? – спросил он Саню, который прижался к нему всем телом.
– Н-нет… папа…
– Не смотри вниз, а то голова закружится. Наверх смотри…
Барабан скрипнул. Иван перекрестился и вместе с сыном стал погружаться в бездну.
– Саня, милый, родной! – забилась Варя около, как подстреленная.
– Боюсь! – заплакал вдруг Саня.
– Не бойся, дружок! – Голос Ивана дрогнул.
– Саня! Саня!
Варя обеими руками вцепилась в край колодца и долго безумными глазами смотрела в бездну, которая поглотила ее Саню и вместе с ним ее лучшие мечты и надежды.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |