"Конунг. Властитель и раб" - читать интересную книгу автора (Холт Коре)
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Позволь мне теперь рассказать тебе, йомфру Кристин, о самом последнем бое в жизни твоего отца – и самом тяжелом. Этот бой, кровавый и страшный, оставил во рту Сверрира привкус дикого меда, когда приближался к концу. Это объяснялось не только тем, что он одержал победу, – как бы она ни была дорога ему. Главная причина лежала в том, что твой отец-конунг, как очень немногие, обладал состраданием, и оно проявлялось даже к врагам. Йомфру Кристин, послушай же, что я скажу тебе в эту ночь!
Отец твой, взял Вестланд и покорил Вик: его люди держали бондов и горожан в страхе. До самой Конунгахеллы доставал его длинный и острый меч. Но в Тунсберге еще сидел Рейдар Посланник. И с ним – сотни две баглеров. Они укрылись на горе, завидев, что мы приближаемся. И мы обложили их.
Стояла осень, и долгие, темные ночи царили в Тунсберге. Я все еще помню торопливых, испуганных горожан на улицах, корабли у причала, звезды над городом, а с наступлением темноты – кольцо костров вокруг горы. Горожане рассказывали, что баглеры успели увести с собой скот. Был у них на горе и колодец. Осень стояла сухая, и две сотни людей нуждались в воде. На нашей же стороне йомфру Кристин, были песочные часы. У конунга были причины для радости: он знал, что победит.
Редко когда в своей жизни он бывал в таком вспыльчивом, скверном настроении, как теперь. Он словно бы понял, что время его истекает, дела его жизни подсчитаны Богом. Цель конунга в том, что прежде свидания со Всевышним страна должна стать его – от Вермланда и до самого моря. Он требовал, чтобы бонды и горожане знали имя конунга и с почтением кланялись королю. Но конунг также миловал. И милость его тяготила.
Еще один отряд баглеров засел на острове Хельги, на озере Мьёрс. Конунг тревожился, что они смогут прорваться в Тунсберг и прийти на помощь тем, кто осажден на горе. А потому он велел, чтобы вокруг этой самой горы возвели частокол. Тогда баглеры не сумеют взять нас в кольцо. Мы принялись рубить деревья в лесу, но дело двигалось туго. Быстрее бы было разобрать пару домов, стоящих поблизости, и потом затесать жерди. Жители этих домов пусть ищут другое место.
Мне всегда хорошо жилось в Тунсберге, йомфру Кристин, но редко встречал я там гостеприимство. Всегда было так, что с самой моей первой встречи с этим городом его жители сдержанно относились ко мне. Я не входил в число своих. Так было в Тунсберге. Разве я не был приближен к конунгу? Не был тем, кто много знает? Идя по улицам, я замечал, что прохожие смотрят мне вслед, но не всегда с восторгом. Той осенью я получил приказ конунга следить за разбором домов и возведением частокола.
Однажды пришел конунг. «Почему она поет?» – спросил он. Конунг стоял на ветру, а люди его разбирали дом. Вытаскивали бревна, мох и прочая пакля сыпались из стен. Люди чихали, ругались, но снова брались за дело, увидев поблизости конунга. «Почему она поет?» – спросил он.
В доме сидела старуха и пела. Глупо сказать: «В доме», – ибо мы разобрали крышу. Внутрь упал дерн, и огонь в очаге потух, но она сходила к соседям и вновь развела огонь. Села у очага. Не посмотрев на нас. Снова запела грустную песню, а может – не с грустью, а страстью и пылом? Не знаю. Голос ее был скрипучий. Может, она призывала на помощь Бога, но тогда ей хорошо удалось скрыть свой призыв. Если же она кликала дьявола, чтоб одолеть конунга, то клич ее тоже услышать было не легче. Но петь она пела. Все громче и громче. —Почему она поет? – все допытывался конунг.
– Я не знаю, – отрезал я.
Наши люди уже порядочно потрудились, разбирая стены, и нам стала видна голова старухи.
– Ты не можешь пойти и спросить у нее, почему она поет? – не отставал конунг.
– Разве не следует мне сперва подождать, когда разберут ее дом? – ответил я. И когда оставалось всего одно бревно от стены, я перешагнул через него, откашлялся и учтиво спросил, не желает ли она рассказать конунгу, отчего она поет в такой день. Она не ответила.
А люди затесали бревна и вскоре унесли их к горе.
Конунг опять вспылил, как это часто бывало в последнее время. Я шел за ним в монастырь святого Олава, где мы остановились на ночлег. Он бежал впереди меня, ни разу не обернувшись.
В такую же ночь, как эта, меня разбудили мои люди, которые стояли в дозоре у подножия горы. Они сказали, что к ним подошла молодая женщина, прося разрешить ей подняться на склон и покричать оттуда, зовя свою собаку. Она сказала еще, что там, наверху, потерялась собака. Сперва стражники хотели прогнать е, но она бросилась на колени, уткнув лицо в землю и обхватив руками пень. И у них не хватило духу пинать ее ногами. Я пошел с ними. Когда я при свете факелов взглянул на нее, мне показалось, что она скорее ребенок, а не женщина. Она рассказала мне, что собака ее убежала на гору, и она хочет позвать ее, чтобы та спустилась.
– Как зовут твою собаку? – спросил я.
– Фарман, – ответила она.
Мою собаку когда-то тоже так звали: давным-давно я похоронил ее в монастырском саду, в Нидаросе, и долго потом горевал о ней. И я сказал, чтобы женщина шла за мной: при свете луны мы поднимемся на склон, и ты крикнешь, сказал я. И мы должны заслониться щитами, иначе в нас могут попасть стрелы.
Я взял с собой два щита, и мы взобрались на склон крутой, мрачной горы. Была ясная лунная ночь, и стража баглеров могла без труда разглядеть нас с вершины. Я поднял щиты, и она закричала:
– Фарман!.. Фарман!..
Голос ее звенел чисто, красиво. Собаки нигде не было видно. Помедлив немного, мы спустились с горы.
– Эти бревна – из нашего дома, – сказала она, погладив один из столбов частокола. – А моя мать сидела и пела, когда вы забрали их.
– Надеюсь, твоя собака найдется, – сказал я.
– Да, – проговорила она и ушла.
Я приказал своим людям вернуть собаку хозяйке, если найдут ее.
Ты, наверное, знаешь, йомфру Кристин что у церкви святого Лаврентия, что под горой в Тунсберге, очень высокая башня. Конунг сказал, что желает послать наверх человека: пусть тот заберется на башню и посмотрит оттуда, что делают баглеры. Однако непросто было найти такого, кто решился бы совершить этот подвиг, не побоявшись сорваться вниз в случае неудачи. Тогда к конунгу пришел один горожанин и рассказал, что есть один парень, по имени Асбьёрн, который однажды взбирался на башню и прикреплял на шпиль флюгер, который снесло ветром. Послали тотчас за Асбьёрном. Он не любил конунга и прямо сказал об этом.
– Но, – сказал он, – властью в стране обладаешь ты, государь. И я выполню твой приказ.
– Почему же ты против меня? – спросил конунг.
– Потому что ты есть, – сказал парень. – Но если бы тебя не было, то я пожелал бы, возможно, чтобы ты был.
Ответ его пришелся конунгу по душе. Он показал рукой на церковный шпиль:
– Если ты заберешься туда, сказал он, и посмотришь оттуда вокруг, – ты получишь две серебряные монеты. Но если ты повернешь назад с полпути, я выколю тебе один глаз.
– Не можешь ли ты приказать своим людям заново выстроить нам дом вместо этих монет? – спросил парень. Конунг не смог обещать, хотя эта помощь больше, чем серебро, порадовала бы и парня, и его мать. А тот рассказал еще, что у него есть брат, и он – на горе, в стане баглеров.
– Ему, наверное, обещали монеты в обмен на то, что он подстрелит меня, – добавил Асбьёрн. – И брат, и я умрем богачами, – сказал он. А потом он стащил башмаки, обмазал руки смолой, сплюнул, перекрестился и, засмеявшись, добавил, что дело закончится тем, что в последний раз перекрестит его уже священник. И начал взбираться на башню.
Там были железные прутья, и парень взбирался все выше и выше, удаляясь от нас, держась подветренной стороны. То и дело с горы в него летели стрелы. Но не долетали до цели. Одна вонзилась как раз между рук смельчака. На такой высоте он нам казался не больше осы. Он начал спускаться.
– Ты не забыл о глазе? – крикнул ему конунг.
– Помню, – ответил Асбьёрн. – Разве забудешь угрозу увечья. Но ты, господин, и сам понимаешь, что мне нужны оба глаза, чтобы тебе послужить. А спускаюсь я потому, что мне нужна не та помощь, которую ты предлагаешь со своим каленым железом. Я хочу, чтобы она спела для меня.
– Приведите ее, – сказал конунг.
Ее привели, и она была той же, что и тогда, в последний раз: угрюмой, горбатой и злой. Она подошла к сыну и обняла его. Прижавшись к ней, он оттолкнул ее. А она вошла в церковь, села у алтаря, словно сам сын Божий позвал ее на пир. И запела. Пела она не красиво, но сильно.
А сын ее начал взбираться. Теперь ему было легче. С горы вновь летели стрелы: одна угодила в башню, за ней – еще одна.
Другая стрела угодила в палец, но Асбьёрн не упал. Потом он рассказывал, что никогда не висел на башне увереннее, чем тогда, – словно разбойник на кресте. Он вырвал стрелу, откусил клочок кожи… Зубы у него были крепкие. Сильно сочилась кровь. Но он уже был наверху.
А вскоре он начал спускаться вниз.
Конунг сорвал с шеи платок и перевязал ему палец.
– Скоро пройдет, – сказал он и дал ему три монеты. – Я обещал тебе две, а третья – для матери.
– Она не поет за деньги, – сказал парень.
– Что ты там видел? – спросил конунг.
– Люди на горе насыпают земляной вал и носят камни, укрепляя крепость, – сказал Асбьёрн. – И еще я увидел то, что порадовало меня побольше.
– Что же это?
– Тебе неизвестно, что мой отец строил церковь святого Лаврентия? И башня, на которую я забирался, воздвигнута именно им. Отец мой боялся, когда работал там, наверху. И мать говорила об этом. Отец кормил большую семью, и ему открылось, что прежде чем башня будет достроена, сам он умрет, а дети останутся беззащитными. Так и случилось: он упал и разбился. Но прежде успел пожертвовать Богу свой глаз, чтобы Господь не оставил сирот. И я, взбираясь на башню, думал: «Если конунг мне выколет глаз, это значит, что в нашем роду целых два глаза отданы Богу. Отец сомневался, лучший глаз принести ему в жертву или же худший. Зоркостью он не отличался. Но он понимал, что пожертвовать Богу надо не худшее. Наконец решившись, он вырвал здоровый глаз. Положил его в ларчик из серебра и прикрепил на верхушке шпиля. Там он висит до сих пор. Отец говорил, что оттуда глаз его видит Бога.
– После всего, что ты рассказал, я тоже вижу Его, – молвил конунг.
К Асбьёрну подбежала его сестренка и закричала:
– Ты не видел там Фармана?
– Да, – улыбнулся он. – Сверху я видел его.
Одного из баглеров на горе звали Гудлейк. Он был молод и приходился сыном служанке, которая жила у сестры конунга, фру Сесилии. Один священник, противник Сверрира, – Сэбьёрн из Хамара, – сблизился со служанкой. Он не знал, что она ждет ребенка. Через год она умерла, и однажды к Сэбьёрну в дом пожаловали пилигримы, неся на руках младенца и говоря, что он – его сын. И сын, и отец, когда пришло время, примкнули к баглерам. И теперь оба они обретались на осажденной горе.
Но Гудлейк не чувствовал себя здесь своим. Люди не любили его отца – старого, немощного священника, который некогда, как говорили, появился перед конунгом Сверриром в исподнем, чтобы, потешаясь над ним, его помиловали. Не любили люди и Гудлейка, ибо он не тратился ни на выпивку, ни на женщин, а каждую добытую монетку прятал себе в пояс. Гудлейк мечтал, что однажды разбогатеет и уедет далеко на юг, в страну данов, чтобы прожить там остаток жизни. Теперь пояс его был уже тяжелым…
И никогда он не трогал пояса… А однажды в Упплёнде он украл церковную казну. Потом Гудлейк узнал, что именно в этой церкви стоял на коленях его отец, моля Божию Матерь о прощении за то, что был близок с женщиной, на которой не был женат. И сын стащил серебро. Зашил деньги в пояс. И спал, не снимая его. Но за эти злосчастные недели на горе в Тунсберге голод превратил Гудлейка из человека в животное.
Йомфру Кристин, даже теперь, в изгнании, ты не терпишь ни в чем нужды, и можешь ли ты понять, что значит голод? И знаю ли я об этом, – близкий друг конунга? Да, я знаю. Во времена моей далекой молодости, когда биркебейнеры еще обматывали ноги берестой, – мы разгребали на кочках снег и замерзшими пальцами искали ягоды, чтобы выжить. С тех пор я знаю, что такое голод. Но я всегда сохранял в себе силы. И я надеюсь, что не утратил с тех пор и достоинства. В войске конунга Сверрира мы были сильны мужской дружбой. Но там, на горе, дружбы осталось немного. Да и как ей быть, когда на все войско делили лишь пару говяжьих ног. Баглеры ослабели: они не привыкли страдать от голода. Но у горы поджидали их Сверрир и смерть.
Потом я узнал, что Гудлейк впервые открыл свой пояс и принялся клянчить у друга: «Продай мне кусок!» А друг все взвинчивал цену. Сперва запросил две монеты, потом – три, четыре. И наконец разделил ногу и запросил целых пять монет за ее половину. Он получил серебро. Но потом пожалел, что продал за деньги еду.
Продавца звали Торир. Он был из Тунсберга. И был у него брат по имени Асбьёрн. Однажды Торир стрелял в своего брата.
– Если попадешь, получишь серебряную монету, – сказал ему Рейдар Посланник. Но Торир попал просто в башню. И остался ни с чем. Тогда он был рад. Но потом, когда кишки скрутило от голода, когда он терял сознание, – он готов был проклясть брата Асбьерна. У них там, внизу, есть еда! Есть вода для питья! Под горой ждали мы и смерть…
– Знаешь ли ты, – сказал Торир, чтобы помучить Гудлейка, – что тот, кто ест мясо собаки, будет гореть в аду?
Гудлейк вскричал, а Торир почувствовал новые силы: он бросился вслед за Гудлейком, который совсем изнемог.
– Ты будешь гореть в аду!.. Ты будешь гореть в аду!..
Гудлейк опять закричал, а тот все требовал денег. Гудлейк швырнул ему еще серебра. Продавец же спросил:
– Разве не стоит многих монет мясо собаки для друга?..
С наступлением ночи Гудлейк пришел к своему отцу Сэбьёрну. Тот сидел в церкви святого Михаила и ожидал, когда же голодные воины придут молить о помощи Деву Марию. Но никто не пришел, – только сын. Гудлейк плакал и желал уяснить, будет ли он гореть в преисподней за то, что ел собачье мясо.
– Нет, нет! – закричал отец. Сам Сэбьёрн три дня и три ночи держал во рту камень. Слюна отделялась как надо, и он не терял сознания, сидя погруженным в молитву. И теперь он пошел за подарком для сына. Он спрятал его в алтаре.
Это была дохлая лягушка. Старый Сэбьёрн, над которым смеялись, помня, как он щеголял в исподнем на глазах у конунга Сверрира, чтобы скорей получить прощенье, прочел теперь «Аве Мария». И дал пищу сыну.
Тот съел, ощутив, что сил стало больше.
Он был в состоянии пересчитать серебро, упрятанное за поясом.
Настала осень, и по утрам вода была скована льдом, когда я сопровождал конунга из монастыря к его воинам. Он шел, завернувшись у плащ, и молчал. На востоке над Хаугаром алело небо, и день раскрывался над фьордом, как светлое опахало. У берега стыли темные корабли; мы слышали слабый крик, и на лодке плыл человек, перекликаясь с воинами на корабле. Тянуло приятным запахом дыма, и в открытых дверях домов виден был огонек очага. А гора была мрачной, тяжелой, застывшей. На ней жили люди; они голодали, гибли; смотрели с горы на нас. Но не спускались.
А мы отправлялись все дальше и дальше на поиски пищи. Каждое утро от берега отплывали лодки, и воины в них гребли на север.
На закате они возвращались. Привозили немного пищи из соседних селений. Бонды скрывали свои запасы. И каждый день воины, возвращаясь, рассказывали об отрубленных пальцах или ступнях. Бонды молчали. Конунг строго следил за тем, чтобы еда справедливо делилась между людьми в его войске. Те, кто стоял в дозоре, получал по ночам чашку горячего супа. А на горе голодали.
Но не спускались…
Конунг надеялся, что долго они не продержатся. И сойдут с горы. Либо подняв руки, либо, если еще будут силы и храбрость, выйдут с оружием и будут биться. Каждая неделя в Тунсберге была теперь мукой для конунга и для нас. И умный Рейдар Посланник там, на горе, понимал это. Так встретились две сильные воли: Сверрира и Рейдара. И конунг сказал: «Моя пересилит».
Верил ли он в свою силу? Он вскакивал по ночам. Поднимал меня. А потом, рассердившись, отправлял снова спать. Лицо его сплошь покрыли морщины, и я с трудом вспоминал, каким он был прежде, мой друг Сверрир. Он никогда не говорил о ней…
Нет, никогда – ни об одной из них: о королеве в Бьёргюне и о другой, о женщине его жизни, уплывшей за море под черным парусом. Он также знал, что с каждой неделей в бондах Тунсберга нарастает протест. И если бы конунг добился здесь скорой победы, то Вик целиком стал бы его. А с ним – вся страна.
Тогда он придумал план. У дороги, ведущей с юга к горе, стояла деревянная крепость. Она возвышалась на прочных сваях. Из нее нас могли обстрелять, если мы подойдем слишком близко. Конунг замыслил разрушить ее. Одна ее свая слегка наклонилась. И если ее подрубить, то рухнет и все остальное. Непросто было добраться до крепости и исполнить приказ.
Он попросил меня подыскать сильного, смелого парня, который был бы готов на все, чтобы прославиться и заслужить любовь конунга. Но прежде чем я взялся за дело, он сам подыскал смельчака: Асбьёрн – тот, кто взбирался на башню и кого ранило стрелой. Мы знали, что Асбьёрн участвовал в битве на льду, возле Осло, и там уложил двух из наших людей. Узнали мы это совсем недавно. Но Асбьёрн, этот глупец, поменял невесту. Брошенная девица легко развязала язык. Конунг помиловал Асбьёрна. И парень теперь так и кружил вокруг Сверрира, ловя его взгляды, желая услышать хоть слово от человека, во власти которого – жизнь или смерть. И вот ему отдан приказ.
Под покровом ночи Асбьёрн был должен пробраться к крепости, обвязать веревкой ту самую сваю и дать сигнал. И воины дернут ее.
Он отправился в путь. Ночь была темной, беззвездной; на горе не слышно ни звука, а сотня наших людей сняла с себя башмаки. Под чьей-то ногой покатился камень. Едва не ругнувшись, воин утих, и снова не слышно ни звука, только шум весел у берега фьорда.
Наконец Асбьёрн дал нам знак.
Сотня схватилась за эту веревку и дернула что есть сил. Тишину разорвали крики. Мы слышали возгласы сверху горы, топот чужих ног, мелькание факелов. Вдруг веревка порвалась в наших руках. И воины покатились по склону горы, снова к подножию, перелетая через кусты и камни.
Кто-то из баглеров выбежал к нам и ткнул факелом прямо в глотку Асбьёрну. Потом говорили, что брат его, Торир, совершил эту месть.
Я никогда не забуду тот крик: хуже любого звериного воя. Асбьёрн кричал непрерывно, пока мы его несли обратно к монастырю. Факелов мы не зажгли. Люди шли, спотыкаясь, пока один не вбежал в чей-то дом и не вынес оттуда горящую головню. Увидев огонь, Асбьёрн закрылся руками. Воины бросили головню, и она догорела в луже. А конунг гневно велел:
– Внесите его в дом!..
Мы достигли монастыря. За дело сразу взялись монахи. Я никогда не видел ужаснее раны. Весь рот обгорел. Черные зубы, культя языка, обожженное горло. Тот, на горе, вероятно, сильно продвинул факел и подержал его там. Не сразу погасла его смола. Асбьёрн кричал и кричал. Меня преследовал этот крик. Я остался в монастыре и хотел уснуть, но не мог. Конунг ушел в келью аббата, но вскоре вернулся:
– Они пришли за мной… Они пришли за мной!.. Разве ты не видишь? – кричал он. – Почему ты молчишь и отводишь глаза, Аудун? Ты что, не видишь, что они здесь?..
Асбьёрн кричал.
Все уже знали, что так поступил его брат.
А на дворе была черная ночь.
Конунг пришел ко мне и сказал:
– Разум меня не покинул. Ночью меня разбудил крик Асбьёрна, и я принял это как знамение. Словно сам святой Олав стоял передо мной и наделил меня мудростью. Ты что же, не веришь, что святой конунг Олав мог посетить меня? – вскричал он. И обошел вокруг стола. – Так вот, Аудун, мы разделим войско: часть мы отправим на гору Фродаас; они под покровом тьмы доберутся туда и будут ждать наступления дня. А на рассвете они нападут на город, где остаются еще наши люди. И пусть не прячут оружия, Я буду с теми, кто бьется в городе. Буду верхом на коне. Там, на горе, увидят нас. Ха! Ты не рад? – быстро спросил он, и голос его зазвучал подозреньем. – Я буду в городе со своими людьми. Мы будем сражаться, но понарошку. Я сделаю вид, что падаю с лошади и умираю. Ха-ха! И они все увидят с горы! Но не поймут, в чем же дело. Они решат, что на помощь им прибыл отряд баглеров из Упплёнда. И побегут с горы вниз. А мы повернем и возьмем их…
Конунг веселился, как дитя, и бросился вскоре к своим воинам. Он снова был прежний конунг: грозил малодушным, хвалил храбрецов, походя на мамашу с детьми. С наступлением ночи часть биркебейнеров поднялась на Фродаас и спряталась там.
И вот пришло утро.
Тогда мы явились у всех на виду: я был с биркебейнерами, конунг – с другими, которые в городе. Мы закричали, вперед вырвался конь и упал: потом мне сказали, что это конь конунга. Никогда еще в жизни мы так охотно не умирали. Падая оземь, оставались лежать: кто-то протягивал руку и тихо срывал былинку, кладя ее в рот. Но баглеры не появлялись.
Для конунга это было позором: наши враги не пришли. С горы доносился веселый смех. Хёвдинг баглеров понял маневр Сверрира и велел своим людям ждать. А конунг лишился коня. И пешком возвратился назад, в монастырь.
– Ты больше не веришь мне? – спросил он.
Я ничего не ответил. Ты должен мне дать правдивый ответ, сказал он. Аудун, ты больше не веришь в мой ум? Разве я не был всегда умен? Ты сам говорил мне об этом. Но теперь ты решил, что другие умнее меня?
– Я не знаю, чему мне верить, – ответил я конунгу.
И вмиг пожалел об этом. Он посмотрел на меня. Потом поклонился и обронил:
– Да, это честный ответ. Я тоже не знаю, как быть.
Мы снова пошли к Асбьёрну, который не мог глотать. Он еще жил и стонал. Конунг спросил меня, не поможет ли териак против ожога. Я ничего не знал.
– Как, ты не знаешь? – воскликнул конунг, унизив меня наметкой.
Он побежал к одному из монахов, который вздремнул на скамье.
И закричал:
– Ты боишься огня преисподней?..
Монах тотчас перекрестился. А конунг довольно захохотал. Потом сорвал с монаха венец и отхлестал им его по лицу.
– Вот как тебя отхлестает дьявол за то, что ты служишь проклятому! – все кричал он.
Однако никто не мог сказать, поможет ли териак против ожога. Я сбегал в город спросить у знахарок, но так ничего и не узнал. Когда я вернулся, то конунг сказал:
– Если ему не помочь, он умрет.
И конунг достал серебряную коробочку, всегда висевшую у него на поясе. Он высыпал порошок в чашу. Размешал его в вине, подержал во рту, чтоб согреть. Потом взял Асбьёрна за нос и заставил разинуть рот. Внутри было черным-черно.
Он влил внутрь вино, и несчастный снова начал кричать.
Затем к конунгу вышел Симон. Он заявил, что придумал план, как заставить баглеров сойти вниз. У наших врагов не хватало воды. Там, на горе, лишь один колодец, и в такой мороз вода в нем уж точно замерзла. Но как только совсем замерзнет, не оставив ни капли, они спустятся вниз и будут молить о пощаде. Что, если нам бросить в колодец труп?..
Симон расхохотался, а конунг прищурил глаза. Я часто их видел такими: в такие мгновения оба были безобразны. Симон всегда источал злобу, стоя перед конунгом страны. Да и конунг нечасто сиял добротой, советуясь с Симоном.
Теперь конунг тоже захохотал, – да так, что закашлялся. На глазах появились слезы. Потом он кивнул Симону, подавая тем самым знак, что тот угодил конунгу и может браться за дело. Сверрир так хохотал, что утратил дар речи. Он проводил Симона до двери и хлопнул его по плечу. И если Симон был счастлив тем, что его одобрил конунг, – то странное это было счастье. С наступлением ночи отряд из двадцати человек должен будет пробраться на гору с юга. Они обстреляют баглеров, чтобы привлечь к себе их внимание. Все остальное – за Симоном.
Но прежде надо найти труп.
Если бы понадобилось, Симон бы взял в руки меч, но случилось так, что как раз скончался старый крестьянин из Тунсберга. Едва стемнело, как Симон явился в амбар и унес его труп. У гроба сидела женщина. Она пела, и Симон прогнал ее прочь. Покойника было легко нести, – у Симона сил бы хватило. Я ждал у входа, и Симон сказал, чтобы я помог ему. Мы понесли покойника вместе. Он был облачен в поношенную сорочку. Ничего поновее не могли сыскать, отправляя его в последний путь. Мы сняли сорочку; мертвец был худой… Симон держал за ноги, а я ухватился за волосы. Мне пришло в голову, что вши мертвеца смешаются вместе с моими.
Мы вышли к открытой равнине, к северу от горы; когда-то здесь было место казни. Однажды, в далекие юные годы, стояли здесь я и Сверрир. Мы видели, как Катарина, монахиня с Сельи, склонилась под топором ярла Эрлинга. Она была дочерью конунга Сигурда и, значит, сестрой Сверрира и Сесилии. Симон любил Катарину. Позднее, когда наступила осень, я видел, как Симон, придя на то место, грыз землю. Меня он не видел. Стоял на коленях и грыз землю. Искал ли он кровь Катарины? Не знаю. Но он был один во всем нашем проклятом войске, кто не боялся мук ада. Так, он стоял на коленях и грыз землю как раз на том месте, где ее юная кровь смешалась с травой и ветром.
Я незаметно ушел. И никогда ни единым словом не обмолвился об увиденном твоему отцу-конунгу. Тебе первой я рассказал об этом.
Итак, мы были на месте… Из темноты показались три воина, они исполняли приказ конунга. Они взобрались по склону горы. Затем мы услышали крики и брань с другой стороны, где наши люди ввязались в бой. А мы потихоньку поднимали наверх труп, передавая его из рук в руки. Симон не отставал. Я оставался на месте. Именно Симон был должен проделать те несколько дерзких шагов, чтобы столкнуть мертвеца в колодец.
И тут мы услышали крик.
Баглеры обнаружили нас: в нас полетела горящая смола. Враги зажгли факелы и обстреляли нас из луков. Мы повернули назад. С нами спустился и Симон. Ему подпалили руку. А труп бедолаги остался лежать наверху.
Затея не удалась. Я возвратился назад, в монастырь, и сообщил о провале конунгу. Тот захохотал.
– Это выдумал Симон, не я! – хохотал он. – Это выдумка Симона, Аудун! Вы убежали, а мертвый старик остался лежать на горе!.. – Он резко умолк и поднялся. Сказал, что Асбьёрн отмучился. Умер. Териак ему не помог.
Конунг молчал, и я тоже. Потом он спросил, не останусь ли я разделить с ним ложе. Я согласился. Он долго не мог уснуть и все говорил в темноту, что если бы кто-то спел для него. Но всякая песня в конце превращается в крик.
Выпал снег.
Однажды ночью баглерам удалось спустить с горы своего человека. Он заспешил на лыжах прочь. Наверное, кинулся искать помощи в Упплёнде. Нелегкий ему предстоял путь. Конунг отправил за ним вдогонку своих всадников, но лыжня терялась в горах, и они повернули обратно. Потом мы узнали, кто это был: Свейн из Рафнаберга, сын бонда Дагфинна и жены его Гудвейг. Баглеры вынудили и Свейна, и Дагфинна примкнуть к ним. И Дагфинн тоже был на горе.
Эрлинг сын Олава из Рэ побывал у себя дома и вернулся довольный назад, неся с собой двух белых кур. Родные приберегли их как раз для него. «Курицы стары и жестковаты, но их можно рвать щипцами, » – сказал Эрлинг. Я предложил ощипать этих куриц. У меня была задняя мысль, и умный Эрлинг понял меня, заявив, что лучше быть званым гостем. Пока мы варили кур, пришли оба брата Фрёйланды из хутора возле горы Лифьялль. Они сразу учуяли запах еды. И принялись вспоминать, как однажды спасли Эрлингу жизнь, дав ему два куска хлеба, когда он лежал, ослабев от голода в горах Раудафьялль, Эрлинг не помнил такого. Со слабой надеждой он задал вопрос, не забыли ли братья взять с собой миски? Они у них были всегда. Эрлинг вздохнул и прибавил, что родичи его в Рэ и думать не смели, что все войско Сверрира пожелает попробовать этих двух кур.
Мы сидели в просторном доме: его хозяева скрылись, как только конунг взял город. Я спросил у Эрлинга, не хочет ли он пригласить еще одного почетного гостя?
– Неужели он голодает? – заволновались другие.
– Вы знаете, – ответил им я, —что он никогда не возьмет лишнего куска себе, когда не хватает еды людям.
Они согласились со мной.
Тогда я пошел за ним. Он просветлел лицом и обрадовался. Но не только горячий суп поманил его: отраднее было узнать, что люди его, собравшись вместе, помнят о конунге и приглашают к себе. Позвали его без страха. И он радостно поспешил на их зов.
Все было так, как однажды. Мы разбранили Эрлинга-повара, но ели курятину с удовольствием. Горячий бульон питал изможденное тело, мы отогрелись у очага и напрочь забыли про все: о вьюге над Раудафьяллем, о крови на льду, мертвеце на горе, о воплях из черного горла.
Мы снова переживали мужскую крепкую дружбу. И в эти ночные часы о многом рассказывали друг другу. У каждого из нас был свой кусочек в большой общей саге, где запечатлелась наша судьба. Тот, кто лжет, знает, что значит слово. Я спросил:
– Эрлинг, не надо ли было добавить луку?
– Да, – ответил он, и никто не смеялся. А конунг сказал:
– Я вспоминаю о птицах над Киркьюбё…
Да, он вновь говорил о Киркьюбё, о том, что такое висеть над обрывом, когда тебя держат семь человек, а ты – на веревке, с корзинкой на животе, и собираешь яйца; вокруг тебя хлопают птичьи крылья, и море шумит внизу. Иногда скала круто обрывается, и ты повисаешь на веревке. Не смотришь вниз. Ты покачиваешься, хватаясь за выступ, и снова скользишь. Те, семеро, – наверху. Они держат крепко. И ты наполняешь корзину яйцами и поднимаешься. Семеро тянут тебя наверх, и ты снова – на твердой земле. Конунг спросил:
– А если бы я сорвался?..
Он посмотрел на нас. Мы продолжали молчать.
– Однажды она стояла внизу, – продолжал он. – Стояла у берега, и ее лицо побелело от страха: что если я упаду? И я полюбил ее.
Мы продолжали молчать. А разумный Эрлинг подлил еще супу. Мне стало понятно, что конунг теперь не вполне здоров.
Эрлинг хотел подлить ему супу, но конунг спросил, не угостить ли нам женщину – ту, что сидела и пела.
– Мне кажется, будто она сидит у меня в душе и поет, – сказал он. – Но чаще кричит.
Эрлинг сын О лава из Рэ быстро сбегал за той старухой.
Когда он вернулся, мы разошлись. Что-то в нас пело. И что-то кричало.
А баглер на лыжах спешил на север. Он вломился в хлев по дороге и там пососал молоко у коровы, и вновь, встав на лыжи, шел дальше. Он сбился с пути, но на следующий день вышел прямо к церквушке в Ботне. Там он приложился к стене, но губы на сильном морозе примерзли к камню. Содрав себе кожу, он снова отправился в путь. И вот, наконец, Рафнаберг.
Жива его мать, Гудвейг, и он опустился устало у очага. Она раздела его и дала молока. И тут он увидел, что Гаут здесь. Свейн, торопясь, рассказал, что случилось. Он мчится вперед, на остров Хельги, за помощью баглерам на горе.
– У них мой отец! – кричал он. – Что будет с ним, если я останусь у вас?..
И он рассказал, чем грозили они, если Свейн не выполнит их приказа. Он обратил весь свой гнев на ту, что дала ему жизнь. Мать стояла в ночной сорочке, наспех одевшись в юбку, с неприбранными волосами: еще одна ночь в ее жизни исполнена боли и злобы. Они не отрубят ему руку, нет! Они только вырвут ноготь. Потом подождут немного, подтащат поближе к костру, от жары он очнется и закричит сильнее. Тогда они вырвут еще один.
– Но если я побегу дальше, чтобы позвать на помощь, то ты останешься здесь одна!
И мальчик рыдал в объятиях матери.
Она поднялась и пошла к Гауту. Он стал ей врагом в эту ночь – тот, кто прощал всех вокруг. И она издевалась над ним. Должна же она на кого-то излить свою горечь и боль. Он был единственным здесь, в Рафнаберге.
Гаут не отвечал. Она взяла в руки горячий уголь из очага и хотела выжечь ему глаз. Тогда он схватил ее руку и отвел назад. Сказал, что не будет проку ни для кого, если Гудвейг возьмет этот грех на душу.
– Убей их! Убей их! – кричала она, не выпуская сына. Гаут сказал:
– Я пойду в Тунсберг и попрошу конунга помиловать баглеров на горе.
И вскоре он двинулся в путь. Он шел без лыж. Рафнаберг был покрыт плотным слоем снега.
А на следующий день одинокий лыжник пошел на север.
Наступил Рождественский сочельник, и по приказу конунга биркебейнеры развели у горы большой костер. Они варили овцу. Травы для варева нашлись в Тунсберге у горожан, и в огонь подбросили можжевельника, чтобы он усилил запах еды, дразнящий баглеров на горе. Когда над Тунсбергом стемнело, и холодное, блеклое небо застыло над фьордом и деревнями, – баглеры наблюдали с горы, как внизу, у костра, сидят люди и поедают овцу. И смеются.
На самом же деле поела лишь стража. Другим в королевском войске конунга досталось совсем немного. Рейдар Посланник созвал всех людей к себе. Он снова пообещал им, что биркебейнеры скоро устанут и покинут Тунсберг.
– Или же, – что еще лучше, – к нам подоспеют на помощь наши друзья из Упплёнда. Да и еда у нас пока есть! Четверть селедки на брата – конечно, немного, но раз под горой голодают, то сможем держаться и мы! Или кто-то захочет спуститься к конунгу Сверриру, чтобы подставить голову под его топор? Разве вы позабыли, что с той битвы на льду Осло он никого не простит? И мне известно, – но как, это тайна, – что в прошлую ночь конунг созвал на совет своих воинов и заявил им: «Когда баглеры нам сдадутся, – ни одного не щадить!..»
Рейдар велел принести пару бревен из того злополучного дома на сваях. Они разожгли костер. Впервые за много дней, баглеры сели вокруг огня. Вскипятили воду, потом долго варили остатки кожаных ремней. Длиною в два пальца на каждого. Сперва – кусок сельди, потом ремешок, и запить напоследок горячей водой.
– Сосите ремни не спеша, – сказал им Рейдар из Миклагарда. Он оставался вместе со всеми. Делил с ними пищу. И голодал. Воины знали: в нем есть та же сила, что и в конунге Сверрире.
В этот сочельник старый Сэбьёрн отправился в церковь святого Михаила, стоящую на горе, чтобы служить там службу. В церкви не было ни одной свечи. Он знал, что все свечи съедены. Но он притворялся, будто они сгорели. Люди давно не ходили в церковь: на службу они не пришли и теперь, оставшись сидеть у огня. Старый священник встал перед алтарем, ища в темноте Книгу Божию. Но она исчезла.
Он прочел в пустом храме краткую молитву, никак не собравшись с силами додумать до конца одну мысль, которая не оставляла его. Руки замерзли. Он подышал на них. Казалось, что даже дыхание замерзло. Вдруг руки его коснулись кого-то: он сразу не смог понять, кто здесь, перед ним: живой человек или труп.
Потом оказалось, что это тот парень, которого все сторонились. Его звали Торир. Он лишился последнего разума. Вокруг говорили, что видели сами, как он сунул факел в лицо тому, кто был его братом. В этой войне и прежде случалось, что брат восставал на брата. Но сунуть горящий факел прямо в глотку родному? Люди его сторонились. И он избегал их.
Однажды ночью он приник в церковь на горе. Вошел туда гордо. Но в темноте встал на колени, а после и вовсе пополз. В храме было еще холоднее. Наконец он подполз к алтарю и пошарил, надеясь найти хоть огарок. Руки наткнулись на книгу. Она была мягкая, прямо как женская кожа, и казалось, ее переплет еще сохранял тепло.
Теперь он знал точно: «Ты попадешь в ад! Ты и твой Сверрир, проклятый конунг, – вы оба сгорите в аду! Ты сунул факел в рот собственному брату? Будете с конунгом в преисподней!»
Об этом ему шептали стены, каменный пол… Колени его затряслись: «Ты попадешь в ад!.. Мерзнешь?.. Будешь гореть в аду!..» Он стоял с книгой в руках, понимая, что это Божия Книга. Она обожгла ему руки. Он попытался кричать, но не мог издать ни звука. И убежал из церкви.
А на рассвете он встретился с Гудлейком, сыном старого Сэбьёрна. Тот рыскал вокруг в поисках пищи. Свет восходящего солнца слабо сиял над горой, и руки Гудлейка казались голубоватыми. Он разгребал снег, выкапывая из земли былинки и корешки. Но земля была слишком промерзшей. Торир теперь понимал, что после такой ужасной ночи тот, кому все равно попасть в ад, может без страха делать, что хочет. И он спросил:
– У тебя еще есть серебро?..
У Гудлейка оставалось еще немного монет в поясе, некогда столь тяжелом. Он поспешил их достать. Спросил, что продается за деньги.
– Остаток теленка, – сказал ему Торир. – Я украл его ночью, и Бог Всемогущий простил мне мое воровство…
Гудлейк отдал серебро. Взамен получил телячью кожу. Торир порвал Книгу Божию на лоскуты, и кусок за куском давал Гудлейку. Тот медленно клал их в рот и жевал.
А ночью священник не смог найти Божию Книгу на алтаре.
Гудлейка вырвало. Кончилось и его серебро.
В ночь перед Рождеством конунг страны и я сидели в келье аббата, в монастыре святого Олава, и делили селедку. Сверрир сказал, что с утра уже знает грустную новость: ее привезли на корабле из Бьёргюна. Старший сын конунга, Сигурд, умер.
Конунг разговаривал мало, я – еще меньше. Смерть от вина – а похоже, что так и случилось, судя по переданному письму, – вряд ли возвысит конунга и его род. Но конунг – еще и отец. В глубине его темных глаз лежало страданье, словно увядший цветок. Он молчал. Только отметил, что после того, как он сам умрет, Хакон останется править страной. «Он – мой единственный сын.» И еще он добавил: «Сигурд прожил без чести и воли. И все-таки это мой сын».
Потом конунг встал и вынес мне нечто, найденное в монастыре. Он показал мне книгу, написанную мудрецом. Когда-то ею владел наш добрый, а ныне покойный друг, ученый монах Бернард. Он был здесь аббатом, пока не примкнул к войску конунга Сверрира. Конунг громко начал читать по-норвежски. Его сильный голос звучал удивительно и достойно. Я стоял позади и заглядывал в книгу через плечо. Когда-то Бернард говорил: «Эта сага написана на нежной коже девицы…»
…Одна девушка вышла на поиски Бога: она исходила много дорог, но так Его и не нашла. По тем же дорогам, следом за ней, шел тот, кто ее любил. Однажды он видел ее на площади и больше не мог забыть. И он скитался по всей стране, ища свою любимую, но так и не мог найти. Она под конец, обессилев, упала и больше не поднялась. Он умер следом за ней. И они обрели свое счастье в том, что без устали гнались за тем, чего не нашли…
Конунг сказал: «Я еще не настолько голоден, чтобы съесть эту книгу».
Все Рождество мы сидели в келье аббата в Тунсберге.
Matutina[12]:
Конунг рассказывал о своем детстве, о доме в Киркьюбё. Вспоминал о птицах в горах. О том, как бились о берег волны, о долгих зимах и светлой весне. О тех, кто жил в усадьбе епископа и кто умер и был погребен. Мы оба с тобой шли за гробом, но мало что понимали тогда. Однажды мы сами ляжем в гроб. И те, кто пойдет за нами, провожая в последний путь, – тоже нас не поймут.
Он говорил о своей матери, волевой фру Гуннхильд, вспоминая ее добрым словом. «От нее мне досталась сила, – сказал он. – И знание о моем происхождении. Но те минуты сомнений, которые меня посещают, достались не от нее. У нее всегда была воля к борьбе. И лишь после смерти она обрела покой».
Об Унасе он умолчал. Но с радостью вспомнил епископа Хрои и моего отца, Эйнара Мудрого, и еще мою мать, фру Раннвейг из Киркьюбё, которую очень любил. Потом он спросил: «Смогли бы они простить?..»
Мы оба молчали, зная ответ.
Prima[13]:
Теперь он вспомнил Астрид и ее белую кожу. Он говорил, что она походила своей белизной на снег, а внутри горел скрытый огонь. И если ты ее тоже любил, Аудун, то теперь тебе это простится. А знаешь, что я иногда ненавидел ее? Я долго не мог понять – почему. Теперь знаю. Ведь женщина – это путы, она не дает нам сражаться, когда раздается клич к бою! Она родила мне двух сыновей. Но я отослал ее.
Однажды я предстану пред престолом Всевышнего, и все мои злые дела будут брошены на весы. А их много. Добрые тоже есть, но вряд ли они перевесят все злодеяния. Тогда мне на помощь придут они – моя сильная мать, фру Гуннхильд: она будет рвать на себе волосы, взывая к Господу, чтобы передо мной открылись врата небесные… И твоя добрая мать, преклонив колени, с нимбом вокруг головы, произнесет: «О Боже! Смилуйся над несчастным!» И Эйнар Мудрый, и Бернард и другие, – все, кто мне друг, поспешат на помощь. И ты, Аудун, если раньше меня отдашь Богу душу. И все вы просите: «Смилуйся, Всемогущий! Отвори ему двери рая!..»
А потом придет Астрид. Моя любовь к этой женщине сможет спасти от проклятья и вечных мук ада.
Но захочет ли она простить?
– Да, – сказал он и заглянул мне прямо в глаза.
Tertia[14]:
Теперь он заговорил о том, что сам Бог избрал его, Сверрира. И я думаю, сказал он, что ты, Аудун, тоже избран идти за мной. Я же избран править людьми. И правил ими. Молил ли я Господа, чтобы Он ниспослал мне силы? Нет, нет! Я молил лишь о том, чтобы силы мне были сохранены. И если я чувствовал силы в душе, то отчего же мне было не дать им волю, отчего не зажечь ту свечу, которую мне вручил Всемогущий? Лгал ли я на своем пути? Да, бывало. Но ложь никогда не была сильнее моей веры в себя и в свой путь. Бог призвал меня. И я не изменник, чтобы свернуть с указанного пути…
Потом меня прокляли. Предали анафеме за мою верность гласу Всевышнего. Попаду ли я в ад? Я не знаю. Свет разума, озарявший мне мою жизнь, не способен постичь тайны ада. Но знаю одно: если бы я начинал все снова, я вновь бы последовал зову Всевышнего, который сильнее меня.
Я снова в сомнениях: прощать мне врагов или нет.
Sextia[15]:
Он рассказал о книгах в своей жизни. Я помогал ему сосчитать, сколько же было книг, но скоро мы сбились со счета. Он просто махнул рукой, словно бросая на чашу весов радость от книжной премудрости. И я осознал, что она весит премного. Он просиял в лице. Соломоновы Притчи, Псалтирь, мудрые книги пророков, богослужения круг. А больше всего он любил, как я думаю, лживые саги, которые слышал или читал. Он мог усмехаться ночью, когда вспоминал эти саги. Любил перечитывать их, вполголоса, наклонившись к огню, – счастливый и молодой.
Еще он любил молитвы.
Он снова спросил у меня:
– Я должен простить их, людей на горе?
Nona[16]:
Он рассказал о недуге, давно поразившем его: жажде власти. Власти ненужной и бесполезной. О вере, что только лишь он способен править людьми, что он говорит разумнее всех, что все должны подчиняться его повелениям. И еще – подозрительность. Но разве я не был обязан подозревать? Разве меня в темноте не поджидали убийцы? И разве они обращались в бегство не только из-за моего ума? А все те, что плели интриги? Они льстили и получали прощенье. И вновь предавали меня. Была ли моя подозрительность к людям порождена злой душой? Да, я убивал врагов. Попаду ли за это я в ад? А что, если я помилую баглеров, и за это они нападут на моих же людей? Где тогда окажусь я – в аду?
Vespera[17]:
Меня навещают умершие. Они говорят со мной. Приходил Бернард, старый друг из Тунсберга, который замерз и погиб в горах Раудафьялль. Он стоит и теперь за спиной. Но только не оборачивайся, Аудун; покойники очень не любят, когда их видят живые. Он так и стоит, где стоял. Я ощущаю его дыхание у себя за спиной. За Бернардом стоят другие. Моя сильная мать, фру Гунхильд, Унас, – да, Унас, – мой умерший сын, и еще Сесилия, моя покойная сестра. С ними – и Сигурд из Сальтнеса, павший в бою под Хаттархамаром, и его брат Вильям, зарубленный у себя на дворе. Они собрались все вместе. И молятся обо мне.
В глазах у них – мудрость смерти, им ведомы все слова. И то последнее слово, которое мы после смерти прочтем на устах всевышнего, прежде чем он укажет дорогу во свет или тьму. Помолись, Аудун, со мной ночью.
Должен ли я их простить?
Completorium[18]:
Говорят, что прощать – это мудрость. Я знаю, что на горе у баглеров кончились силы. После прощения враги перейдут ко мне. Отцы их и братья станут меня восхвалять: «Ты – справедливый конунг в стране!» Так что это разумно. Но потом ведь они предадут меня. И все потеряет смысл.
Что будет с моими людьми? Теперь мы впервые за много лет добились победы над баглерами; осталось только добить последних врагов, и в стране воцарится мир. Мои воины голодали, терпели стужу, и вдруг я велю им сложить оружие? Они хотят отомстить. И я понимаю их. Слишком долго сражались мы с баглерами, лишившись многих людей. Я их понимаю. Что будет, если я буду прощать врагов?
Я знаю, что против меня сплетут заговор. Симон решит, что разум мне изменил, если я помилую баглеров. Он захочет мне помешать. Но смогу ли я помешать ему? Удержу ли я своих воинов от сраженья, едва баглеры спустятся вниз?
Этой ночью я снова думал об этом. И вновь у меня – мертвецы. В одну руку я взял все свое зло, в другую – смирение перед волей Всевышнего. Должен ли я простить?
Теперь, Аудун, ты знаешь ответ.
Ждать больше нечего!
Я хочу оставить посмертную память в своей стране.
– Мой конунг, ты даруешь им жизнь?
– Потому что сам я умру.
Гаут добрался до Тунсберга и там повстречался с Симоном. Симон сказал ему, что конунг полон ненависти к баглерам на горе и к своим собственным воинам. Все заметили это в сражении на льду Осло. Он всех ненавидит, но больше всего врагов, – и это тот, кто раньше охотно миловал, и его доброта казалась многим безумством.
– А сам я, – прибавил Симон, – уже глубокий старик…
Гаут изумленно взглянул на него…
– Ты знаешь, Гаут, что когда ты прощал и странствовал по стране, напоминая всем нам о силе прощения, – я усмехался. Хуже того: я плевал. Ты шел прощать, а вдогонку тебе летел мой желчный плевок. Теперь признаюсь тебе в этом. Простишь ли ты мне?
– Да, Симон.
– Так знай, Гаут, как я постарел с тех пор. Четверть столетья назад я пошел по пути, указанном конунгом Сверриром. Понюхал я крови, увидел смерть. Да и моя все ближе. Теперь собираюсь прощать я. Конунг – не хочет. Можешь взойти на гору и предложить им мир?
Гаут согласился.
Симон добавил, что лучше всего предложить трем из баглеров сойти вниз с горы.
– Пусть будет даже пять человек. Мы их окружим. Воины Сверрира теперь дружелюбнее конунга. И мы вместе пойдем к нему и заявим: «Отпусти этих баглеров с миром!» Так, перед лицом своих же людей, которые жестче к нему, чем к врагам на горе, конунг смирится. Коль скоро пять получили прощение, то будут помилованы и остальные.
Гаут пошел к горе. У ее подножья стояли на страже воины Симона. Они пропустили Гаута к врагам. Те встретили его радостно. Была ночь. Четверо баглеров сразу же вызвались следовать вниз за Гаутом. Рейдар Посланник одобрил их план. Голод сломил и его. Гаут пока оставался у баглеров.
Тем временем Симон, сидя в засаде со своими людьми, напал на баглеров сзади и зарубил их. Один перед смертью успел убить одного биркебейнера.
Симон предчувствовал, что конунг размяк и готов помиловать баглеров. Но Симон был против. Он был готов уничтожить их всех до единого. Тогда мир в стране воцарится прежде, чем смерть унесет проклятого конунга и его самого.
Тот баглер, кому удалось уложить биркебейнера, успел изуродовать тело врага. Воинов мучил голод, и в Тунсберге все крепчал мороз. Те, под горой, твердили: баглеров; – истребить.
Конунг пока молчал.
Наконец вниз спустился Гаут. Баглеры отпустили его.
Когда он узнал, что случилось, когда он всмотрелся в угрюмое лицо Симона, видя на нем предательство, когда он понял его обман, – тогда он впервые почувствовал злобу, схватился за нож и своею единственною рукой ткнул Симона прямо в грудь.
Тот истек кровью, но уцелел.
Сам конунг вышел к Гауту и спас его от биркебейнеров.
Кончался последний день года. Звонили колокола.
На следующий день после нового года усилилась стужа и резче стали порывы ветра. Шел снег, покрывая равнину и заметая на ней следы. Позже он прекратился, но черные тучи нависли над городом и горой. Баглерам нечем было разжечь костер. Дрова отсырели. Но как и прежде, мы видели головы стражников, стоящих у крепости. А биркебейнеры, запахнувшись в плащи, сидели в дремоте вокруг костров. Конунг послал своих воинов в город. И вскоре они возвратились, ведя за собой двух коров.
В те осень и зиму в Тунсберге с едой было плохо. Конунг велел не трогать коров: молоко пили дети, больные и старики. Потом отменил приказ. И в этот холодный, пасмурный день его воины ели мясо. И вновь поплыли по воздуху запахи пищи, новость была у всех на устах, воины собирались в кружок, стража топталась на холоде, женщины наклонились над котелками с едой. Наконец горячее варево пошло по рукам, и люди обжигали себе губы.
Тогда пришли соглядатаи. Отяжелев от еды, люди вскочили с мест. Появились хёвдинги, – ленивые, расстегнув пояса. Все решили, что это баглеры сходят вниз. Но это было не так. На закате биркебейнеры выстроились на равнине, к северу от горы. Кто-то тошнил, отвыкнув от пищи. И вот появился конунг.
Он шел молча, от воина к воину. Мы никогда не видели его таким. Он словно светился. Наш несгибаемый, твердый конунг как будто был охвачен веянием Божиим, будто очищен, и в глазах его сияла воля. Он не был мягок, но и не тверд. Это – новый конунг Сверрир, и – скажу прямо, – последний; тот, кто счистил с себя всю накипь и теперь вновь приветствует своих воинов.
Он не произнес ни слова. Он только шел от воина к воину и брал их за руки. Заглядывая им в глаза, говорил: «Завтра, на рассвете я хочу говорить перед войском…»
Потом он вскочил в седло и повернул назад, в монастырь.
Наступила странная ночь. Прошел слух, будто конунг не хочет больше быть конунгом. Сонные люди, впервые наевшись за долгое время, ворочались с боку на бок, но сон к ним не шел. Что хочет сказать им конунг?
Они не знали, что этой ночью конунг послал на гору Гаута. Стража на северной стороне получила приказ пропустить его. Там были братья с хутора Лифьялль и Эрлинг сын Олава из Рэ.
Настало утро.
Снова пришли лазутчики, и сонные воины поднялись. Теперь – с новой силой после вчерашней еды. Они должны были вновь собраться у горы, на равнине. И снова дул ветер, как и вчера; над Фродаасом и Хаугаром брезжил серый рассвет, падал снег, покрывая гору, селенья и мрачный фьорд.
Так и стояли они, суровые, исхудавшие. К воинам выехал конунг.
Он был верхом, в черном плаще, невысокий и плотный, и в свите его был только я. Он остановился перед войском. Долго молчал, перебегая глазами с одного на другого; потом указал пальцем на одного. Тот вышел из строя.
Конунг сурово окинул его взглядом, не привнося ни слова. Жестом отправил его назад.
И тут же Сверрир спешился и быстро вскочил на камень. На камне был снег, но не скользко: конунг склонил голову в краткой молитве. Потом воздел руки кверху.
И вот он заговорил: как прежний конунг Сверрир, с его звучным и властным голосом. Услышат ли его те, на горе? Голос Сверрира доходил до каждого воина в его войске. Он вздымался, как хищная птица, и стремительно падал, и каждое слово – как острый клюв, било в цель.
Но конунг был и мягок. Уста его – медоточивы. Да, голос его сочетал в себе сладость и желчь, мягкость и силу, милость и злость.
Он говорил:
– Есть ли кто-нибудь в войске, кто против конунга Сверрира? Сделайте шаг вперед…
Все оставались на месте.
Конунг заговорил о своем брате ярле Эйрике. Тот умер в Тунсберге странной смертью; кто же убил его? Мы не знаем. Мы лишь догадываемся, что наши враги подложили ему в кубок яд. Конунг напомнил и о своем отце, конунге Сигурде: он был убит в Бьёргюне, еще до прихода Сверрира в земли норвежцев. Конунг сказал о друзьях, которых он потерял в бою, о своих ближайших советниках, которые следовали за ним, не щадя своей жизни. А я, сказал Сверрир? Что делал я? Может ли кто-то назвать день и час, когда я не голодал вместе с вами? Вспомнить тот бой, когда я не шел впереди? Разве не я стоял у Фимрейти под градом стрел, и не бился ли я в Бьёргюне? Но я не погиб. Всемогущий Бог и святой конунг Олав хранили меня. Я был призван жить, призван сражаться на своем земном пути. Так скажите же мне, был ли я трусливее вас, малодушнее вас, отворачивался ли от вас? Сделайте шаг вперед!
Все молчали.
Конунг снова заговорил. Он вспоминал сражения и боевую Дружбу. Вспомнил о биркебейнерах, о кострах, о дорогах, о наказаниях – да-да, ибо если конунг не будет суров, власть похитят разбойничьи вороны. Но в памяти остается боевое братство мужчин! После победных боев мы собирались вместе, и знахарки лечили нам раны. И разве было такое, чтобы я приказал: «Сперва займись моей раной…»
Скажите мне, разве бывало, чтобы конунг страны требовал себе больше благ, чем было у его войска?
Смеялся ли я над кем-то? Бывал ли несправедлив? Выслушивал вас без внимания? Говорил не от вашего имени, а от себя?
Сделайте шаг вперед!
Все молчали.
Он продолжал:
– На долгом моем пути сюда из Киркьюбё святой конунг Олав не раз являлся мне – посланником Сына Божия. Святой говорил: «Однажды в стране воцарится мир! Ты будешь шагать по трупам врагов. Но все же наступит мир. Твой тяжелый долг – сражаться с врагами, вести за собой людей. Отбрось, если надо, мужскую честь! Отбрось все сомненья. Ведь ты, сын конунга, избран Богом для мира в стране. И пусть твои люди идут за тобой.»
Да-да, вы всегда шли за мной! Через Доврские горы в снегу, через Раудафьялль, тоже под снегом, через снежные дебри Ямтланда! Вы были со мной в море, на корабле, в шторм и бурю; и когда вы сидели на веслах, рядом с вами сидел ваш конунг! Вы пошли за мной долгим кровавым путем, невзирая на трупы врагов; и теперь все мы здесь, у горы в Тунсберге. Так идемте же со мною к миру!
Да, пусть наш путь приведет нас к миру! Мы, кровавые воины, видим время, которое впереди! Так узрим же святого конунга Олава: он сегодня явился мне ночью и молился о нас. Внемлем святому, и он говорит нам: «Идите мирным путем.»
Наши враги на горе обескровлены. Будем ли это достойно храброго биркебейнера – вызвать на бой голодного? Они скоро спустятся вниз. Будет ли это достойно – встретить их взмахом секир, когда у них нет сил ответить? В стране у них есть братья. Живы еще их отцы. И все они будут за нас, если наступит мир.
Я не прошу у вас права помиловать. Милую я, конунг этой страны. Одно мое слово – и войско молчит, поднимет мечи или бросит на землю. Я вас не спрашиваю. Ибо я – конунг. Да или нет?
Сделайте шаг вперед, если вы не согласны…
Все остались на месте.
Тогда он сказал:
– И все же у вас я прошу совета: простим мы людей на горе?..
Все молчали.
И тут пришли баглеры.
Жалкий строй отощавших людей спустился с горы. Впереди шел Гаут. Люди были одеты в лохмотья, многие спотыкались, им помогали идти. Последним шел Рейдар Посланник. Кто-то упал, его снова подняли; все побросали оружие. Баглеры шли между двух рядов биркебейнеров. А те стояли с мечами в руках. Они направлялись к конунгу, кланяясь перед ним, выпрямляясь и отходя в сторону, прямо в глубокий снег.
И каждого конунг прощал.
Воины конунга тоже прощали.
Один баглер вытошнил кожаные лохмотья Книги Господней: их сразу покрыл белый снег.
На другой же день мы отплыли из Тунсберга. Было холодно, низкое небо висело над городом.
Баглеры плыли на кораблях с нашими воинами. Здесь же был Симон: он быстро оправился от полученной раны и делил постель со своим же обидчиком, Гаутом. Впереди, на большом корабле, был конунг. Плыл с ним и Рейдар Посланник.
Конунга свалил недуг. Он лежал в постели под палубой и не мог подняться. Взор его потускнел, он был бледен. Он позвал меня и попросил, чтобы я взглянул напоследок на оставляемый город. А потом он спросил, что я видел…
Я ответил ему, что смотрел на гору: она мрачная, неподвижная. А макушка бела от снега. Будто нога человека там не ступала. Будто люди на ней не жили, не мучались и не терзались, не охраняли крепость, не вглядывались во тьму. Ничего там не разобрать. Но я вижу церковь святого Михаила. Она маленькая и низкая. Я вижу только ее.
Конунг проговорил:
– Этих мест я уже не увижу.
Мы направлялись к Россанесу, и он снова спросил, что я вижу.
Я сказал, что смотрю на город: на его уцелевшие от боев дома. Вижу дым очагов, и мне кажется, что различаю склонившихся над огнем людей. Они говорят друг другу: «Отныне мы будем жить, кормиться, держать скотину, возделывать землю, а к вечеру возвращаться домой отдыхать.» Вот что я вижу.
Конунг проговорил:
– Этих мест я уже не увижу.
Мы обогнули Россанес, и он снова спросил, что я вижу.
– Теперь ничего, – сказал я. – Мне чудится пение женщины. Она скрючилась у огня, и ее хриплый голос выводит веселую песню. Без горечи и страданья.
Конунг взглянул на меня.
– Я тоже слышу ее.
Вдоль берега, по черному, зимнему морю мы приближались к Бьёргюну.
Мы перенесли конунга на носилках с корабля в его крепость. Вокруг него собрались друзья, а за ними – все биркебейнеры. Бьёргюн еще не оправился от пожара, который устроили баглеры. Дома и улицы покрывала копоть. Но в день, когда конунг Норвегии в последний раз навестил этот город, – начался снегопад. Мы несли конунга к крепости, а вокруг лежал ослепительный снег.
Конунга положили в зале, – там, где стояло почетное сиденье. Люди приветствовали конунга. В очаге разожгли огонь; конунгу холодно. По стенам висели ковры, а пол устилали медвежьи шкуры, приглушая наши шаги. Когда мы внесли его в зал, он дремал. Потом удивленно открыл глаза. И усмехнулся.
– Корабль уже не качается под ногами, – тихо промолвил он. – Я не слышу шагов людей…
Собравшись с силами, конунг велел всем покинуть зал, кроме меня. Он попросил написать письмо к сыну Хакону, который в ту зиму сидел в Нидаросе. Конунг наказывал сыну быть милосердным, не посрамить своего имени и справедливо править страной. Выказывать мудрость, но также и силу. И полагаться скорее на разум, чем на меч. И следовать мирным путем, если сможет.
– Сын мой Хакон, сразу пошли людей на юг, к архиепископу в Лунд, и к святому отцу в Ромаборг. Примирись с ними. Тогда они снимут проклятье, неправедно обращенное на меня. И если цена окажется высока, – все равно заплати им, не жалей ни серебра, ни почестей. Когда я умру, они не отвергнут твоих молений.
Итак, сын мой Хакон, благословляю тебя, пока не настал мой последний час…
Конунг откинулся на подушки, велев прочитать мне послание вслух. Я выполнил повеленье. Он приказал отправить немедля письмо и добавил:
– Тебе не хватает умения произносить речи, – так, как умею я. Но ты, Аудун, превзошел меня в искусстве письма.
И он улыбнулся.
Потом попросил, чтобы к нему привели Халльгейр знахарку. Многим хотелось бы верить, – сказал он пришедшей Халльгейр, – что ты исцелишь меня травами, вольешь в меня новые силы. Но это не так. Мне уже не помогут ни травы твои, ни Слово Господне. Я просто хочу в свой последний час поблагодарить тебя за то, что ты верно служила нам. Ты исцеляла нам раны после сражений. Мы снова шли в бой, а ты утешала умирающих. Не знаю, как сильно твое умение и мудрее ли ты других. Но в твоем лице я благодарю всех их: тех женщин в стране, которые в муках рожали детей и хоронили своих стариков. Я не часто мог им воздать честь и хвалу. Но теперь я о них не забыл.
Силы оставили конунга, он откинулся на подушки. Халльгейр заплакала, и я, обняв ее, вывел из зала.
Но конунг снова воспрял и повелел привести Гаута. Тот было пал на колени, но конунг сказал:
– Если бы я был в силах, то я преклонил бы колени перед тобой, Гаут. Ты был единственным в этой стране, кто умел прощать ближним, и тебя почитали и мы, и враги в проклятой войне между братьями. Простишь ли ты мне, что я не прощал?
Гаут простил конунга.
Сверрир сказал:
– Ты победил, Гаут.
Я вывел Гаута из зала.
А конунг хотел видеть Симона, и я разыскал его. Симон был еще слаб после Тунсберга. Он шел, согнувшись, чтобы рана в груди не раскрылась и не начала кровоточить. Он тоже хотел пасть ниц перед конунгом. Но Сверрир сказал:
– Не вставай на колени! Ты был единственный, кто не боялся, когда меня прокляли архиепископ и папа. И чем ближе я подвигался к аду, тем вернее ты мне служил. Я знаю, ты ненавидишь многих из нашего войска. Ты ненавидишь меня. Но больше – моих врагов. Хочешь оказать мне последнюю услугу?
– Да, государь!
– Когда-то ты говорил, что любил монахиню ордена нашей святой церкви. Ее казнили в Тунсберге по приказу ярла Эрлинга Кривого. Мне говорили, будто она приходится мне сестрой. Я хочу, чтоб мы вместе помолились о ней…
Симон встал на колени.
Оба произнесли:
– Катарина, монахиня ордена нашей святой церкви, женщина, грешница, Господь да помилует твою душу.
И Симон ушел.
А потом пришли воины, их было много, и кто-то плакал. Вот братья Фрёйланды с хутора Лифьялль; они успели состариться на службе у конунга Сверрира. Вот Эрлинг сын Олава из Рэ: его вечно веселый взгляд теперь омрачен печалью. Один за другим, они приближаются к конунгу и гладят его по голове. За ними идут другие: воины со всей страны, и все они – безоружны. Вот Кормилец, он долго служил у Сверрира, накрывая ему на стол. Вот Малыш, убогий слуга; а вот старые биркебейнеры: мало из них осталось в живых. Вот молодые: всех я не знаю по именам. Многие плачут. И каждый склоняется перед конунгом. И уходит.
Наступила ночь. И я привел королеву.
Я внес две свечи и зажег их, а сам удалился. В полночь я тихо вернулся назад – зажечь новые свечи. Конунг как будто уснул. Держа королеву в объятьях.
Когда рассвело, я привел тебя, йомфру Кристин.
Но теперь я умолкаю, и ты молчи, йомфру Кристин. Ты будешь молчать о его словах и о своих. Но однажды, когда ты состаришься, ты поведаешь своим детям, что он сказал тебе, твой отец-конунг, в чем признался тебе в ту последнюю встречу между дочерью и отцом.
Затем пришли священники.
Они еще оставались в Бьёргюне, и их призвали соборовать конунга. Они, окружив его, молчали. И конунг тогда сказал:
– Вы здесь, чтобы напомнить проклятому конунгу о вечном огне и муках ада?
Они не ответили.
Он продолжал:
– Вы здесь, чтоб напомнить проклятому конунгу о преисподней, о том, что ждет его после смерти?
Они не ответили.
Он продолжал:
– Вы здесь, чтоб напомнить мне об адских мучениях, о зловонии и огне?
Они не ответили.
Он же сказал:
– Подойдите поближе! И если у вас хватит мужества, совершите надо мной соборование.
У них было мужество. И уходя, они благословили его.
Тогда он пожелал остаться со мной. Он напомнил мне о моем рассказе про то, как я сам узнал о смерти моей доброй матушки, фру Раннвейг из Киркьюбё. Ты стоял тогда в церкви Христа в Нидаросе, как ты говорил. И там ты ее увидел.
– Да, – ответил я конунгу. И снова пересказал ту историю: я преклонил колени перед Матерью Божией. Она улыбалась, держа на руках Божественного младенца. Я стоял перед ней на коленях и молился. Тогда я увидел, что губы ее шевелятся одновременно с моими. И она произносит ту же молитву, что я. Снаружи не доносилось ни звука. И только через окно проник солнечный луч, заиграл в пылинках и ослепил меня. Стены были зеленого цвета, а Пресвятая Дева одета в красное. Я на коленях приблизился к ней.
И тут я увидел: на руках у нее – не младенец, а моя добрая мать. Значит, матушка умерла, ее не было среди живых. Лицо ее было белым, она не улыбалась, но источала радость. Вглядевшись, я обнаружил, что она похожа на Деву Марию. Она была словно ее дитя, а я – ее сын. И я не почувствовал скорби, узнав, что она умерла. Я радовался, что подошли к концу ее одинокие годы…
Конунг сказал:
– Когда я умру, отправишь к Астрид корабль под черным парусом, с известием обо мне?
Я обещал ему это.
Он сказал, чтобы я после его кончины положил его тело на видном месте, чтобы люди простились с ним.
– Может статься, что тело окажется белым, сияющим, ибо я был конунг, а не лжец перед Богом. Пусть люди простятся со мной. Если же я солгал, то тело мое почернеет.
Он кивнул мне. Я наклонился и поцеловал его.
Затем я позвал королеву и тебя, йомфру Кристин. А он сказал:
– Поцелуйте меня…
Это было его последнее слово.
Умер Сверрир, человек с далеких островов, конунг Норвегии, властитель и раб.
Корабль под черным парусом ушел с известием за море, а воины и народ молчаливо прощались с умершим, проходя мимо белого, светлого тела.
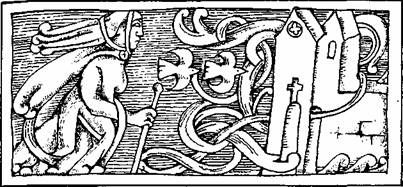 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |