"Блистательные неудачники" - читать интересную книгу автора (Коэн Леонард)
Книга вторая. ПРОСТРАННОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ Ф.
Дружок мой дорогой!
Вот и пролетели пять лет, как им было положено. Не знаю, где тебя застанет это письмо. Думаю, ты меня частенько вспоминал. Ты всегда был моим самым любимым мальчишкой-сиротой. Нет, ты значил для меня больше, гораздо больше, но теперь это уже не имеет ровным счетом никакого значения, потому что это – мое последнее письменное послание, и нет смысла тратить его на то, чтобы расшаркиваться перед тобой в любезностях.
Если адвокаты выполнили распоряжения, которые я им оставил, теперь ты стал хозяином всего моего земного достояния – коллекции мыла, фабрики, масонских фартуков, бревенчатого дома. Ты, должно быть, и образ жизни мой перенял. Интересно, куда он тебя приведет. Сейчас, стоя на самом кончике пружинящей доски над краем последней пропасти, куда мне скоро предстоит сигануть, я думаю о том, куда этот образ жизни привел меня самого.
Пишу тебе это последнее письмо в палате трудотерапии. Я всегда шел на поводу у женщин и не жалею об этом. В монастырях, на кухнях, в пропахших духами телефонных будках, на курсах, где занимались поэзией, – я шел за женщинами повсюду. Следовал за ними в парламент, потому что знаю, как они любят власть. Шел за женщинами в постели мужчин из любопытства, хотел узнать, что там можно найти. Даже воздух возбуждается от запаха их духов. Мир покоряется их зазывному смеху, сулящему любовь. Я шел за женщинами в мир, потому что любил его. Всюду следовал за мягкими округлостями бедер и грудей. Когда женщины призывно свистели мне из окон публичных домов, когда они тихонько посвистывали мне из-за спин мужей, круживших их в танце, я шел за ними и с ними тонул, а порой, заслышав их свист, чуял в нем лишь печаль увядания, ссыхающуюся тоску их мягких округлостей.
Отзвук этого свиста вьется вокруг каждой женщины. В моей жизни было лишь одно исключение. Я знал только одну женщину, которая отдавалась, звуча совсем по-иному – может быть, то была музыка, может быть, молчание. Конечно же, я говорю о нашей Эдит. Вот уже пять лет прошло, как меня похоронили. Ты, конечно, знаешь теперь, что Эдит не могла принадлежать тебе одному.
И за молоденькими сестричками в палате трудотерапии я тоже следую по пятам. Их мягкие округлости прикрыты накрахмаленным бельем – сладко манящей броней, которую моя бывалая похоть пробивает с такой легкостью, будто это яичная скорлупа. Я тащусь за их белесыми больничными ногами.
Мужчины тоже издают свои звуки. Знаешь, какой у нас звук, дружок мой дорогой, жизнью потрепанный? Это звук, который слышится, если поднести к уху раковину самца морского моллюска. Угадай, что это за звук. Даю тебе три попытки. Заполни три строчки внизу. Сестричкам нравится смотреть, как я по линейке отчерчиваю линии.
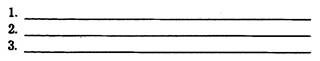 |
Сестрички любят склоняться над моим плечом и наблюдать за тем, как я орудую красной пластмассовой линейкой. Они насвистывают мне в волосы, от их свиста веет спиртом и сандаловым деревом, а крахмальные одежды похрустывают, как белая папиросная бумага или искусственная солома, в которую кладут пасхальные яйца из сливочного шоколада.
Как же я сегодня счастлив! Я знаю, эти страницы будут полны счастья. Ты ведь, конечно, не думаешь, что я уготовил тебе в дар печаль.
Ну, и что же ты мне ответил? Разве не удивительно, что я продолжаю тебя учить даже через бездну разделяющей нас пропасти?
Он совсем другой, этот звук, который издают мужчины, диаметрально противоположный свисту. Это – шшшш, тот звук, который слышится, когда указательный палец подносят к губам. Шшшш – и буря срывает крыши с домов. Шшшш – и нет лесов, чтобы ветер не трещал ветками. Шшшш – и ракеты с водородными бомбами летят, чтобы заставить смолкнуть инакомыслие и разнообразие. Этот звук не лишен приятности. На самом деле это бойкий мотивчик, как звук пузырьков над моллюском. Шшшш – будьте добры, все послушайте. Звери, не войте, пожалуйста. Брюхо, сделай одолжение, прекрати бурчать. Время, сделай милость, отзови своих сверхзвуковых псов.
Это звук, с которым моя шариковая ручка чертит по красной линейке линии на больничной бумаге. Шшшш, говорит она еще не разлинованной белизне. Шшшш, шепчет она белому хаосу, пора спать укладываться в разлинованную спальню. Шшшш, просит она танцующие молекулы, я люблю танцы, но только не иностранные, я люблю танцы, которые танцуют по правилам, по моим правилам.
А ты, дружок, в линейки укладываешься? Ты в ресторане сидишь или в монастыре, когда я под землей лежу? Ты в линейки уложился? Хотя, ты вовсе не обязан это делать, ты же знаешь. Я снова тебе голову морочу?
Что же это за тишина такая, которой мы так отчаянно стремимся упорядочить беспорядочность? Мы что, работали, пахали, затыкали рты, городили заборы, чтобы до нас трубный глас донесся? От хрена уши. Трубный глас доносится из столпа огненного, но мы уже давным-давно загасили огонь столпа. Запомни: трубный глас доносится из огненного столпа. Совсем немногим и далеко не часто дано вспоминать об этом. Я был одним из тех, кого Господь наделил этим даром?
Я скажу тебе сейчас, почему мы все щели законопатили. Я ведь прирожденный учитель, и не в моей натуре хранить в себе знание. Конечно, пять лет тебя измучили и измотали, подготовив к тому, чтобы теперь ты смог меня понять. Я всегда хотел тебе все рассказать, чтобы мой дар обрел полноту. Как твои запоры, милый?
Думаю, им года двадцать четыре, этим мягким округлостям, что плывут рядом со мной в этот самый момент, этим пасхальным сладостям, обернутым в казенное белье. Двадцать четыре года шли они по жизни, почти четверть века, но для груди это еще юношеский возраст. Они проделали долгий путь, чтобы смущенно глазеть мне через плечо, глядеть, как весело я орудую линейкой, чтобы доказать кому-то, что с психикой у меня все в порядке. Они еще молоды, откровенно молоды, но свистят неистово, пьяня ароматом спирта и сандалового дерева. На ее бесстрастном лице ничего не написано – до блеска надраенное лицо медсестры, черты индивидуальности безжалостно стерты, оно как голубой экран, где показывают кино о том, как нас пожирает болезнь. Сострадательное лицо сфинкса, которому мы свои загадки загадываем, а округлые груди, как врытые в песок лапы, трутся, лаская крахмал казенной одежды. Знакомо тебе это зрелище? Да, ты прав, такое выражение частенько бывало на лице Эдит, нашей замечательной сиделки.
– Ты так здорово проводишь линии.
– Да, мне они тоже нравятся.
Слышишь свист? Бежать надо, жизнь спасать, скоро бомбы рваться начнут.
– Хочешь, я принесу тебе цветные карандаши?
– Если только они не переженятся на наших ластиках.
Остроумие, изобретательность, свист – доходит теперь до тебя, почему мы сделали леса звуконепроницаемыми, огородили первозданную дикость резными скамейками? Чтобы слышать свист, чтобы слышать, как морщины выдавливают упругость, чтобы видеть, как наши миры умирают. Запомни это и забудь. Завяжи себе где-нибудь в мозгу извилину узелком на память, только пусть этот узелок будет совсем маленьким. Я тебе по секрету скажу, что сам сейчас понемногу освобождаюсь от всяких понятий такого рода.
Поиграй со мной, дружок.
Пожми мне руку, духовно протянутую. Ты насквозь пропитан воздухом нашей планеты, крещен огнем, дерьмом, историей, любовью и утратой. Помни это. В этом – объяснение золотого правила.
Вглядись в меня пристально в сей миг моей странной недолгой истории: сестра склонилась над моей работой, член у меня гниет и чернеет – ты видел, как гниет мой мирской член, но попробуй представить себе мой мистический фаллос, закрой глаза и представь мой мистический фаллос, которого у меня нет и никогда не было, но именно он обладал мною, он был мною самим, он нес меня по жизни, как ведьму помело, переносил из одного мира в другой, с одних небес на другие. Ладно, хватит об этом.
Это у меня, как у многих учителей, манера такая: многое из того, чему я учу – просто тяжкое бремя, которое я больше не в силах нести в себе. Я чувствую, что запас всякой чуши, накопившийся в голове, иссякает. Скоро у меня вообще ничего не останется, чтобы с ближним поделиться, только мои истории. Тогда, наверное, мне только и останется, что сплетни разносить, и мои молитвы миру иссякнут.
Эдит занималась организацией оргий и поставкой наркотиков. Однажды у нее завелись вши, дважды – мандавошки. Я написал слово «мандавошки» очень маленькими буквами, потому что всему свое место и время, а молоденькая сестричка стоит у меня за спиной и все пытается сообразить, то ли ее влечет ко мне моя сила, то ли собственное милосердие. Я вроде как всецело поглощен терапевтическими упражнениями, она выполняет должностные обязанности, ухаживая за больным, но слышишь свист и шипение? – звук свистящего пара разносится по отделению трудотерапии, смешивается с солнечным светом и одаряет радужным ореолом каждую склоненную голову – и страждущего, и врача, и сестры, и сиделки. Хорошо бы тебе когда-нибудь взглянуть на эту сестрицу. Когда мои адвокаты тебя найдут и выполнят мою волю, ей исполнится двадцать девять.
В каком-нибудь зеленом коридоре, в большой кладовке среди ведер, швабр и антисептических тампонов Мэри Вулнд из Новой Шотландии скатает с ног белесые чулки, одарит старика свободой коленей, и ничего важнее не будет для нас в целом свете, только уши, чтобы услышать звук шагов приближающегося санитара.
Вся планета пышет паром, облака пушистого пара клубятся над ней, когда молоденькие девчонки сходятся с ребятами в бунте религиозного мятежа, как взопревший сиплый педераст на кладбище, наша маленькая планета тискает хлипкий воздушный шарик собственной судьбы, а каким-то простакам эти звуки слышатся как начало их конца. А кое-кто слышит их совсем не так – тем, кто мастерски умеет летать во сне и наяву, слышится в этих звуках совсем другая мелодия. Отдельные звуки свиста и шипения они пропускают мимо ушей, они слышат сразу всю гамму этого звука звуков, их взор способен проникнуть в ярко мерцающие отсветы, молниями пронзающие цветущий конус огненного столпа.
Я слушаю «Роллинг Стоунз»? Непрерывно.
Хватит с меня боли?
Прошлое мое потасканное, как старая шляпа изношенная, от меня ускользает. Не знаю, сколько времени мне отпущено на ожидание. Я, должно быть, каждый год промахивался, когда монетку кидал в ту реку, вдоль которой мне идти надо было. Зачем я эту фабрику покупал? Кто меня тянул в парламент? Так ли уж хорошо было спать с Эдит? И мой кофейный столик, и маленькая комната, и верные друзья-наркоманы, от которых нечего было ждать, – мне кажется, все это я оставляю почти по ошибке, ради пустых обещаний, ради случайных телефонных звонков. Старая шляпа изношенная, в угол заброшенная, противная красная рожа старая, в зеркало на себя смотреть усталая, рожа неухоженная, удивленная и настороженная, смеющаяся над вечным движением. Где мое прошлое потасканное? Я убеждаю себя, что есть еще время на ожидание. Доказываю себе, что путь мой был правильным. Или логика самого доказательства неверная? Или гордыня мне соблазн шлет намеками на иной образ жизни? Или трусость удерживает меня от испытаний былого? Я говорю себе: подожди. Вслушиваюсь в дождь, в научные отзвуки больничного гомона. Я счастлив множеством мелочей. Засыпаю, не вынимая из ушей наушников от приемника. Даже позор в парламенте меня уже мало волнует. Мое имя все чаще и чаще мелькает в списках имен героев-националистов. Даже то, что я попал в больницу, приписывают козням англичан, которые тем самым хотят заткнуть мне глотку. Ох, боюсь, мне еще придется возглавить правительство, гниющего члена боюсь, много чего боюсь. Слишком уж легко идут за мной люди: это у меня такая способность роковая.
Дружок мой дорогой, не нужен тебе мой образ жизни.
Что-то в твоих глазах, мой любимый, отражало меня таким, каким мне самому хотелось быть. Только вы с Эдит были ко мне великодушны, может быть, только ты один. Ты озадаченно вопил, когда я тебя изводил, ты был прост, как правда, и мне хотелось быть таким же, а когда у меня ничего не получалось, я был готов на все что угодно, лишь бы у меня это вышло. Меня пугал рациональный разум, поэтому мне хотелось слегка свести тебя с ума. Я отчаянно надеялся, что твоя оторопь меня чему-нибудь научит. Ты был той стеной, от которой до меня, как до летучей мыши, эхо доносило отголоски моих собственных криков, и по нему я определял направление этого долгого полета в ночи.
Никак не могу перестать учить. Я научил тебя хоть чему-нибудь?
После такого признания от меня, наверное, меньше смердеть стало, потому что Мэри Вулнд ясно дала мне понять, что готова к сотрудничеству.
– Ты бы не хотел старческой рукой меня погладить под юбкой?
– Ты какую руку имеешь в виду – правую или левую?
– Хочешь вдавить мне указательным пальцем сосок, чтобы он совсем исчез?
– А потом появился снова?
– Если он снова появится, я возненавижу тебя навсегда. И имя твое впишу в Книгу недотеп.
____________________
– Вот так-то лучше.
____________________
____________________
Умммммм.
______ _____ _______
– Я уже вся мокрая.
Теперь ты видишь, почему я не могу кончить учить? Все мои витиеватые изречения годятся для печати. Ты представляешь себе, как я тебя с твоими тривиальными муками ненавидел?
Да, должен признаться, бывали минуты, когда я тебя ненавидел. Прощальная речь ученика в его собственном стиле, сделанная на выпускном вечере, не всегда бывает наградой учителю словесности, особенно если сам он никогда выпускником не был. Временами ты вгонял меня в депрессию: тебя такие муки терзали, а у меня за душой не было ничего, кроме системы.
Работая с евреями (теперь эта фабрика твоя), я иногда замечал, что время от времени левантийское лицо хозяина кривило странное болезненное выражение. Оно возникало у него тогда, когда ему приходилось выпроваживать одного своего жалкого единоверца, заросшего бородой, несчастного, пропахшего дешевой румынской кухней. Тот приходил на фабрику раз в два месяца и назойливо клянчил милостыню для какого-то подозрительного еврейского института физиотерапии. Наш хозяин всегда давал тому типу какую-то мелочь и с неуклюжей торопливостью старался как можно скорее спровадить его с черного хода, как будто присутствие незваного гостя на фабрике могло привести к чему-то гораздо более страшному, чем забастовка. В такие дни я всегда теплее относился к хозяину, потому что он был вроде как не в своей тарелке – становился потерянным и легкоранимым. Мы с ним, бывало, неспешно прохаживались между огромных рулонов кашемира и твида – я никогда его не отталкивал, если видел, что у него возникала потребность побыть немного со мной. (А он, со своей стороны, не ставил мне в упрек мои мускулы, которые я накачал благодаря системе динамического напряжения. Почему же ты мною брезговал?)
– Во что превратилась теперь моя фабрика? В груду тряпок с этикетками, она меня тяготит, отвлекает от главного, душу мне бередит.
– Должно быть, сэр, она стала склепом вашего честолюбия.
– Верно говоришь, парень.
– Она для вас как заноза, сэр, как соринка в глазу.
– Не хочу, чтобы этот бездельник здесь снова появлялся, слышишь меня? В один прекрасный день они все уйдут отсюда за ним. Причем я сам их еще и уводить буду. Этот плюгавый оборванец счастливее, чем все мы вместе взятые.
Конечно, он так ни разу и не отказал тому жалкому нищему, регулярно от этого страдая, как страдает при месячных женщина, сетуя на жизнь, законы которой диктует Луна.
Ты терзал меня, как Луна женщину. Я знал, что ты повязан старыми законами страдания и неопределенности. Меня страшит мудрость калек. Пара костылей и дурацкая хромота могут помешать той прогулке, на которую, чисто выбрившись и что-то себе насвистывая, я выхожу в новеньком костюмчике. Я завидовал тебе за уверенность, которую сам ты и в грош не ставил. Меня томила магия рваного шмотья. Я ревновал к тем мукам, которые сам тебе уготовил, но не мог дрожать от страха перед самим собой. Никогда я не был пьян, как хотел, так нищ, как хотел, так богат, как хотел. И от этого та боль, которой мало не покажется, чтобы молить об утешении. Она заставляет меня протягивать руки в страстном желании стать президентом новой республики. Мне ласкают слух крики вооруженной шпаны, скандирующей мое имя за воротами больницы. Да здравствует революция! Дайте же мне побыть президентом в последние тридцать дней, что мне отпущены.
Где ты бродишь сегодня ночью, дружок мой дорогой? Ты стал вегетарианцем? Стих и смирился, как орудие добродетели? Можешь ты, наконец, заткнуться? Тебя что, одиночество в экстаз приводит?
В акте твоего сосания проявлялось глубокое милосердие. Я ненавидел его, я его проклинал. И вместе с тем, не побоюсь признаться, что ты воплощаешь мои самые сильные заветные желания. Надеюсь, тебе удастся извлечь ту жемчужинку, которая оправдывает убожество уединенного механического возбуждения.
Это письмо написано языком прошлого, мне трудно бывает найти в уме отжившие слова и умершие выражения. Мне надо растягивать извилины разума, чтобы перебраться в прошлое, в те его огороженные колючей проволокой области, из которых я всю жизнь пытался себя вытащить. Но мне не жаль потраченных усилий.
Наша любовь не умрет никогда, обещаю тебе я, послав сквозь года весть эту, змеем бумажным летящую в воздушную страсть твоего настоящего. Мы были вместе рождены, мы поцелуями признавались друг другу в страстном желании возрождения. Мы лежали, обнимая друг друга, и каждый из нас был учителем другого. В неповторимости каждой ночи мы искали лишь ей одной присущее звучание. Мы пытались убрать помехи и страдали от догадки, что помехи эти составляли часть звука той ночи. Я был твоим приключением, а ты – моим. Я был твоим путешествием, а ты – моим, и Эдит вела нас двоих как путеводная звезда. Это письмо – плод нашей любви, искра скрещенных в ударе мечей, звон литавр, осыпающийся водопадом иголочек, влажный след блестящих капель пота, перемешанных в крепком объятии, кружащие в воздухе белые перья петуха, обритого мечом самурая, пронзительный вопль двух капель ртути, неодолимо притягивающих друг друга, тайна, окутывающая близнецов. Я был твоей тайной, а ты – моей, и нас вместе тешила мысль о том, что тайна – наш дом. Наша любовь не может умереть. Я пришел из прошлого сказать тебе об этом. Мы оберегаем друг друга как два мамонта, сцепившиеся бивнями в смертельном поединке над обрывом пропасти надвигающегося ледникового периода. Эта странная любовь сохранит облик нашей мужественности твердым и чистым, чтобы мы не могли возложить на брачное ложе ничего, кроме собственного естества, и наши женщины в полной мере узнали нас такими, какие мы на самом деле.
Наконец Мэри Вулнд допустила мою левую руку к изгибам казенной одежды. Она внимательно следила за тем, как я сочинял этот отрывок, и поэтому я написал его взахлеб и не без доли экстравагантности. Женщины любят в мужчине крайности, потому что они отрывают его от собратьев и делают одиноким. Поэтому все, что женщины знают о мире мужчин, поведано им перебравшими через край и оставшимися одинокими беженцами из этого мира. Доводя таких мужчин, как мы с тобой, до белого каления, они сами не могут устоять перед ними в силу четко выраженной направленности собственного интеллекта.
– Продолжай писать, – свистит она.
Мэри повернулась ко мне задом. Округлости заходятся в свисте, как сирена, возвещающая конец всякой работы. Мэри делает вид, что ее очень интересует сотканный кем-то из пациентов коврик, продолжая отлично играть свою роль в нашей замечательной пьесе. Медленно, как змей-искуситель, я веду тыльной стороной руки вверх по тугому грубому чулку, обтягивающему ей бедро. Полотно юбки прохладно похрустывает, сминаясь под натиском костяшек пальцев, чуть влажное бедро, упруго обтянутое чулком, тепло изгибается буханкой свежего белого хлеба.
– Выше, – свистит она.
Мне спешить некуда. Некуда мне спешить, дружок мой закадычный. Я бы вечность напролет готов был этим делом заниматься. Ее нетерпеливые ягодицы сжимаются как две боксерские перчатки перед началом поединка. Моя рука замирает, чтобы унять дрожь бедра.
– Скорее, – свистит она.
Да, по напряжению натянутого чулка понятно, что я уже почти достиг того его полуострова, который повязан подвязкой. Я неспешно пройдусь по всему полуострову, с двух сторон окруженному пышущим жаром кожи, потом перескочу на сосок подвязкиной застежки. Паутинка чулка натягивается еще сильнее. Туго сжимаю пальцы, чтобы не задеть до времени ничего лишнего. Мэри, покачиваясь, переминается с ноги на ногу в предвкушении удовольствия. Указательный палец, как разведчик, определяет дислокацию подвязки. Она тоже пышет жаром – и маленькая металлическая петелька, и резиновый грибок прогреты насквозь.
– Пожалуйста, ну, пожалуйста, – свистит она.
Как ангелы на кончике иголки, пальцы танцуют на резиновой головке. Куда дальше перескакивать? На внешнюю сторону бедра – напрягшуюся и горячую, как панцирь морской черепахи, распластанной на тропическом берегу? Или в болотное месиво посредине? А может, прилепиться летучей мышью к огромному, мягко нависающему утесу ее правой ягодицы? Под белой крахмальной юбкой очень влажно. Как в самолетном ангаре, где пары выхлопа собираются в тучу, из которой в самом помещении идет дождь. Мэри потряхивает задом как копилкой, жаждущей золотой монеты. Вот-вот хлынет ливень. Выбираю середину.
– Дааааааа.
Жар кисельной влагой обволакивает руку. Вязкий душ обдает запястье. Магнитный дождь проверяет часы на антимагнитную устойчивость. Продолжая покачиваться, она меняет позицию, потом насаживается мне на кулак, будто сбрасывает на него ловчую сеть для гориллы. Я змеей проползаю сквозь мокрые волосы, сжимая их пальцами как сахарную вату. Погружаюсь в артезианское изобилие, сосковые оборочки, бессчетные извилины мозгов, перекачивающие кровь созвездия слизистых сердец. Влажные послания знаками азбуки Морзе ползут мне вверх по руке, западают в голову, их все больше и больше, они будят спящие области темной стороны сознания, избирают счастливых новых властителей на место обезумевших претендентов, лишенных разума. Я – затвор, открывающий путь волнам в безбрежной феерии жидкого электричества, я – вольфрамовый провод, светящийся в море разума, я – творенье утробы Мэри, я – пена ее волны, перила для задницы медсестрички – перила огромной длины, по которым она, маневрируя, катится вниз, поднимается вверх, с наслажденьем массируя розу промежности – похоти грех.
– Хлип-хлюп, хлип-хлюп.
Разве мы не счастливы? Мы делаем, что нам хочется, и никто нас не слышит, но это чудо совсем крошечное в роге изобилия тех чудес, которые нам дарованы, как и радужные ореолы, зависающие над каждым черепом, – чудеса совсем незначительные. Мэри глядит на меня через плечо, хлопая глазами навыкате, белыми, как яичная скорлупка, она раскрыла рот, как золотая рыбка, на губах играет удивленная улыбка. В золотом солнечном сиянии отделения трудотерапии каждый считает себя непризнанным гением, возлагая плетеные корзинки, глиняные пепельницы, кожаные бумажники, перевязанные сыромятными ремешками, на лучезарные алтари замечательного собственного здоровья.
Дружок мой дорогой, можешь теперь преклонить колени, читая дальше мое послание, потому что именно сейчас я подошел к самой сути того, о чем должен тебе сказать. Раньше я не знал, как это выразить, а теперь знаю. Я не знал, о чем тебе возвестить, а теперь уверен в том, что нашел нужные выражения. Все, что я говорил тебе до этого, было лишь вступлением, все предыдущие слова только прочищали мне горло. Признаюсь, что мучил тебя, но только ради того, чтобы привлечь к этому твое внимание. Признаюсь, что предавал тебя, но только для того, чтобы потом дружески похлопать тебя по плечу. Когда мы целовались, дружок мой старинный, когда мы ласкали друг друга, именно это я хотел нашептать тебе на ухо.
Бог живет. Чудеса творит. Бог живет. Чудеса творит. Бог творит. Чудеса живут. Тот, кто жив, творит. Чудеса не мрут. Господь не хворал. Бедный люд много врал. Люд больной тоже врал. Чудеса не слабели. Чудеса не скрывались. Чудеса управляли. Божья власть оставалась. Бог всегда был живым. Бог всегда правил миром, хоть Его убивали, подменяя кумиром. Хоть Его хоронили, набивая мошну, Чудеса толстосумов тянули ко дну. Хоть Его хоронили, Он всегда был живым. Хоть Его извращали, Он собой был самим. Хоть Его искажали, Чудеса продолжались. Хоть о смерти твердили чудаки во всем мире, в сердце люди хранили веру в то, что Бог в силе. Оскорбленья удивляли, раны кровью истекали, но Чудес не колебали. Чудеса все направляли. Много сил ушло на ветер, чтобы Бога опорочить. Много лгали лжепророки. Им внимали толстосумы, предлагали камни Чуду, что без них царило всюду. Перед Богом закрывали сундуки свои с деньгами, но ему вполне хватало. Только им все было мало. Чудеса творят. Бог царит везде. Правит бал живой. Человек в нужде голоден порой. Сильный человек справится с бедой. Пусть он врет, что одинок – да поможет ему Бог. Не пустому болтуну, не такому капитану, что пустил корабль ко дну. Чудеса живут. Хоть смерть его простили повсюду во всем мире, сердца не убедили, что Бога схоронили. Хоть выбили законы на каменных скрижалях, они не защищают человека от беды. Хоть алтари законам воздвигло государство, оно не научилось повелевать людьми. Арестовали Чудо, оно пошло за стражей, желая подаянье страждущим подать. Но Чудеса не медлят – им надо еще многих поддержать. И стражники остались несолоно хлебавши прозябать. Чудеса творят. Злу их не прельстить. Они пустой руке готовы пособить. Они спешат к тому, кто их принять готов, кто в огненном столпе услышит трубный зов. Но Чудеса – не средство. Чудо – это цель. Многим удавалось Чудо оседлать, но Чудеса несли их от их задачи вспять. Было много сильных, кто безбожно врал. Они прошли сквозь Чудеса и вышли так же, как вошли, черт бы их побрал. Многие из тех, кто слаб, тоже врали еще как. Они шли к Богу втайне, они Ему служили, но мало кто похвастать мог, что горе исцелили. Хоть горы танцевали перед их глазами, они твердили, что Бог мертв, залившись слезами. Сорвали с Бога саван, и Он стал нагой, но Он и без покрова всегда будет живой. Вот это я нашептываю себе в разуме своем. Вот этому в уме своем я смеюсь. Вот этому служит разум мой, потому что такая служба и есть Чудо, царящее в мире, и сам разум есть Чудо, воплощенное во плоти, и сама плоть есть Чудо, танцующее на циферблате часов, потому что время – это Чудо Божественной протяженности.
Дружок мой дорогой, разве ты несчастлив? Только вы с Эдит знаете, как долго я ждал, чтобы высказать наболевшее.
– Чтоб тебе пусто было, – брызжа слюной бросает в мою сторону Мэри Вулнд.
– Что?
– У тебя что, рука отсохла? Тащи!
Сколько же раз, дружок, мне на роду написано погибать? Не дано мне, наверное, вникнуть в тайное. Я – старый человек, одной рукой пишу письмо, другой во взмокшей промежности ковыряюсь и ровным счетом ничего не понимаю. Если бы то, что я сказал тебе, было евангелием, разве отсохла бы у меня рука? Конечно, нет. Что-то здесь не вяжется. Мне все только и делают, что врут. Все как один лапшу мне на уши вешают. А правда мне бы сил прибавила. Умоляю тебя, дружок, объясни им, что я имею в виду, пойди дальше меня. Я же знаю, что со мной, знаю, что надеяться мне не на что. Иди дальше, научи мир тому, чему я хотел его научить.
– Тяни.
Мэри вильнула задом, и рука моя ожила, как доисторическая рептилия, превращающаяся в зверя. Теперь мягкое нутро ее естества куда-то подталкивает мне руку. Теперь роза ее промежности уже не трется мне как раньше о пригрезившиеся перила руки, а как ластик соскабливает свидетельства ставшей было явью мечты, и вот я, увы, получаю совсем уже мирское послание.
– Ну, тащи же, пожалуйста, тяни. Нас в любой момент могут заметить.
Это правда. Воздух в отделении трудотерапии напрягся, нет больше золотого солнечного сияния, просто солнце обдает помещение жаром. Да, я дал чуду умереть. Врачи вспомнили, что им надо работать, и перестали зевать. Полная маленькая женщина, бедняжка, кому-то дает указания с таким видом, будто она, по крайней мере, герцогиня. Мальчонка один заплакал, потому что снова во сне обмочился. Бывший директор школы портит воздух и грозит нам, что опять физкультуру отменит. Господи, Боже мой, может быть, хватит с меня уже боли?
– Скорей.
Мэри тужится изо всех сил. Пальцы мои что-то задели. К телу Мэри это явно не имеет никакого отношения. Это какой-то инородный предмет.
– Тащи давай. Вытаскивай скорее. Это тебе друзья прислали.
– Сейчас, уже вынимаю.
Дружок мой дорогой!
Я уже почти очухался.
Я тебе не ту коробку с фейерверками послал. И не положил в мою замечательную коллекцию мыла и косметики средство от прыщей. Я тебе уже говорил, что лечил им прыщи Эдит. Хотя, конечно, ты об этом ничего не знаешь, поскольку всегда был уверен, что лик Эдит предназначен лишь для ласк и поцелуев. Когда мы с ней встретились, ни целовать ее, ни ласкать никакого удовольствия не доставляло, даже смотреть на нее было противно. Она была в кошмарном состоянии. Потом, где-нибудь дальше на страницах своего послания, я расскажу тебе о том, как мы создали образ милой женушки, в котором она впервые перед тобой предстала, когда ты увидел ее в парикмахерской гостиницы «Мон-Руаяль», где она замечательно делала маникюр. Так что лучше бы тебе заранее начать себя к этому готовить.
Мыльная коллекция, хоть там есть прозрачные куски, мыло с запахом сосны, лимона, сандалового дерева и другие его образцы, теряет смысл без этого средства, от которого проходят прыщи. Если мыться другим мылом, прыщи только станут чистыми и душистыми. Хотя, может быть, с тебя и этого хватит, думаю я себе, обманчиво успокаиваясь.
Ты всегда мне во всем перечил. Я себе такие мускулы для тебя накачал, а ты их даже не оценил по достоинству. Тебя я себе тоже качком представлял с мускулистыми ручищами, но ты от меня отвернулся. Я представлял тебя себе с мощными грудными мышцами и трицепсами, выпирающими подковой, сильным, но не обрюзгшим, с телом, где четко прорисовывается каждая мышца. Иногда, сжимая тебя в объятиях, я мог точно определить, насколько ниже у тебя должны были быть опущены ягодицы. Когда ты становился передо мной на корточки, задницу ни в коем случае нельзя было опускать так сильно вниз, чтобы ягодицы упирались в пятки, потому что в таком положении мышцы бедер уже не работают,
Твое тело лоснилось, а ребра выпирали так, будто вместо косых мышц живота внутрь тебя вставили стиральную доску. Мне бы не составило никакого труда избавить тебя от физического убожества. Я мог бы отвести тебя в тренажерный зал, где тебя быстро привели бы в порядок. И из члена твоего можно было бы такую кувалду выковать, что ею даже пеликан подавился бы. У меня был специальный набор для сфинктера, подключающийся к крану, как стиральная машина, были всякие приспособления для увеличения груди. Ты хоть какое-то представление имел о моей системе йоги? Можешь назвать это полным крахом, можешь – высшим моим достижением, но что ты знал о той работе, которую я проделал над Эдит? Что ты вообще знаешь об этом священном Ганге, который миллион раз осквернял своими скаредными переправами?
Может быть, это случилось по моей вине. Я убрал оттуда некоторые особенно важные детали, не объяснил что к чему – но сделал я это только потому (да, пожалуй, это больше похоже на правду), что мне казалось, ты можешь превзойти меня в своем величии. Я видел в тебе короля без королевства. Я представлял тебя истекающим кровью ружьем. Я видел в тебе принца потерянного рая, прыщавую кинозвезду, гоночный катафалк, нового еврея, хромого бойца штурмового отряда, за которым люди идут в огонь и воду. Я хотел, чтобы горе твое донеслось до небес. Я видел такой огонь, от которого любая головная боль проходит. Я видел, как избирательной системой ты торжествуешь над дисциплиной. Я хотел, чтобы твоя оторопь стала сачком для ловли чудес. Я видел экстаз без веселья и веселье без радости. Я видел, как все сущее меняет свою природу за счет простого развития собственных свойств. Я готов был пожертвовать учением во имя чистоты молитвы. Я многое у тебя отнимал, потому что желал тебе больше радости, чем могла дать моя система. Я понял, что в погоне за совершенством тела можно его изувечить, так и не накачав мускулы.
Кто такой – новый еврей?
Новый еврей это тот, кто изящно сходит с ума. Он подходит к абстракциям как к финансовым операциям, и в результате успешно проводит мессианскую политику, вызывает цветные метеорные потоки и другие погодные явления, которые многие принимают за знамения. Постоянно повторяя уроки истории, он регулярно впадает в амнезию, но сама его забывчивость обласкана фактами, которые он принимает с явным удовлетворением. За тысячу лет он смог поменять цену стигмы [59], заставив мужчин всех наций стремиться к ней, как к самому желанному сексуальному талисману. Новый еврей – автор канадского чуда, чуда французского Квебека и чуда Америки. Он наглядно доказывает, что страстные желания чреваты сюрпризами. Тайна его оригинальности кроется в сожалении. Он путает карты сторонников ностальгических теорий превосходства черной расы, направленные на сохранение единства. Потерей памяти он утверждает силу традиции, смущая мир собственным возрождением. Он растворяет историю и обычай в безусловном приятии собственного наследия во всей его полноте. Он путешествует без паспорта, потому что великие державы считают, что он не опасен. Способность проникать за тюремные решетки усиливает его наднациональную сущность и льстит его склонности к юриспруденции. Иногда он – еврей, иногда – гражданин Квебека, но при этом всегда остается американцем.
Вот так я тешил себя иллюзиями о нас с тобой, vieux copain [60] – мы оба виделись мне новыми евреями, людьми не без странностей, воинствующими, окутанными тайной, как члены какого-то непонятного нового племени, слухами и сплетнями обреченного на неисповедимость Божественного откровения.
Я послал тебе не ту коробку с фейерверками, которую надо было, причем, должен сказать, это произошло не совсем по ошибке. Ты получил «Панамериканский набор состоятельного брата», который называют самым большим набором из тех, что можно купить, потому что в нем больше 550 разных шутих и фейерверков. Дело в том, что я просто не мог знать, сколько времени будут длиться твои мучения, и потому решил быть к тебе снисходительным. За ту же цену я мог бы тебе послать «Первоклассные демонстрационные фейерверки» – набор, в котором больше тысячи образцов взрывчатой красоты. Я отказал тебе в мерцающем «Электрическом пушечном салюте», добрых старых «Вишневых бомбах», «Фонариках серебряного дождя», «Битве в облаках», которая, разрываясь, звучит на шестнадцать ладов, и очень опасных «Японских ночных ракетах» в банках с выдергивающимся сегментом. Пусть милосердие запишет себе в скрижали, что я сделал это из человеколюбия. К тому же взрывы могли бы привлечь внимание недоброжелателей. Но чем мне оправдать отсутствие «Большого семейного праздника на лужайке» – фейерверка, специально предназначенного для тех, кто не любит грохота? Я обделил тебя и «Музыкальными порхающими фонтанами Везувия», и «Звездным фейерверком с хвостом кометы», и «Цветочными горшками с ручками», и «Большими цветными шутихами», и «Треугольными вращающимися колесами», и «Патриотическими цветами огненного флага». Не держи на меня зла, дружок. Пусть сострадание подскажет тебе, что я сделал это для блага твоего же собственного дома.
Мне хочется внести ясность во все вопросы: об Эдит, обо мне, о тебе, о Текаквите, об а…, о фейерверках с шутихами.
Я вовсе не стремился к тому, чтобы сжечь тебя заживо. Вместе с тем я не мог допустить, чтобы твой исход оказался слишком легким. Против этого восставала моя профессиональная гордость учителя, а также – в какой-то мере – та зависть, о которой я уже писал.
Страшнее может быть другое – то, что я хотел привить тебе иммунитет к опустошенности одиночества регулярными его впрыскиваниями в гомеопатических дозах. Ведь диета парадокса вскармливает скорее циника, нежели праведника.
Может быть, мне надо было пройти этот путь до конца и послать тебе автоматы, замаскированные фейерверками в тех восхитительных контрабандных операциях, которые я проворачивал. Мне бы надо поставить себе диагноз тех, кто родился под знаком Девы: за что бы я ни брался, во всем недоставало чистоты. Я всегда сомневался в том, нужны ли мне ученики и последователи. Я никогда точно не знал, куда меня больше тянет – в парламент или в скит отшельника.
Признаюсь тебе, что никогда толком не мог понять, что такое революция в Квебеке, даже после того позора, который пережил в парламенте. Я просто отказался высказаться в поддержку войны, причем не потому, что я француз или пацифист (об этом речь не идет), а потому, что я устал. Я знал о том, что делали с цыганами, я вполне мог бы достать «Циклон Б», но я был совершенно измотан. Ты помнишь, каким был мир в то время? Он чем-то напоминал огромный музыкальный автомат, наигрывавший мелодию, вгонявшую в сон. Той мелодии было две тысячи лет, и мы танцевали под нее с закрытыми глазами. Мелодия называлась Историей, и нам она нравилась – и нацистам, и евреям, в общем, всем. Мы ее любили, потому что сами сочинили, потому что мы знали, как знал это еще Фукидид, что самое главное в мире то, что происходит с нами самими. История позволяла нам чувствовать себя самими собой, поэтому мы ночи напролет проигрывали ее мелодию снова и снова. Мы ухмылялись, когда старшие ложились спать, мы были рады, что избавились от них, потому что они не знали, как творить Историю, несмотря на все свое бахвальство и пожелтевшие от времени вырезки из газет. Спокойной вам ночи, старые трепачи. Кто-то гасил свет, и мы сжимали друг друга в объятиях, вдыхали аромат надушенных волос, прижимаясь друг к другу всеми эрогенными зонами. История становилась нашим гимном, История выбирала нас творить себя самое. И мы вверяли ей себя, обласканные ходом событий.
Мы стройными сонными батальонами шли в лучах лунного света исполнять Ее волю. Как сомнамбулы мы брали в руки мыло и ждали, когда включат душ.
Ладно, не бери в голову. Я слишком глубоко вник в строй старого языка. В недрах своих он может устроить мне западню.
Я чувствовал себя до предела измотанным. Меня мутило от неизбежного. Я пытался выбиться из колеи Истории. Ладно, не морочь себе голову. Скажи только, что просто устал. Я отказался.
– Убирайся из парламента!
– Лягушатники!
– Им нельзя верить!
– Не вздумайте за него голосовать!
Я выбежал оттуда с тяжелым сердцем. Мне так нравились красные кресла парламента. Мне так нравилось трахаться под памятником. У меня крем был заныкан в Национальной библиотеке. Целомудрия мне не хватило для пустого будущего, все выигрыши прошлого сгорели на кону.
А теперь сделаю тебе важное признание. Меня завораживала магия оружия. Я незаметно подкладывал его в упаковки с фейерверками. К этому меня принуждала игла, на которой я сидел. Я поставлял в Квебек оружие, потому что висел между молотом свободы и наковальней трусости. Оружие иссушает чудеса. Я хотел схоронить оружие для будущей Истории. Если История правит, пусть я стану ее глашатаем. Ружья отдают зеленью. Цветы напирают. Я тащил Историю вспять от одиночества. Не следуй по моим стопам. Пусть твой образ жизни будет лучше моего. Герой из меня получился гнилой.
Среди кусков мыла в моей коллекции. Не бери в голову.
Позже.
Среди кусков мыла в моей коллекции. Я дорого за нее заплатил. На выходные мы с Эдит были в Аргентине, номер там в гостинице сняли. Не принимай близко к сердцу. Я выложил за это удовольствие 635 американских долларов. Официант там один на нас все время таращился. Иммигрант, должно быть, недавно приехавший, вести себя толком не научился. Раньше небось владел жалким клочком земли где-нибудь в Европе. Сделку мы оформили у бассейна. Она мне очень нужна была. Просто позарез. Прямо руки тряслись по сумеречной мирской магии. По мылу человеческому. Целый кусок, если не считать того, что ушло на одну ванну, в которую я тут же и плюхнулся – будь, что будет.
Мэри, Мэри, где ты, Ависага моя маленькая?
Пожми, дружок, мне руку духовно протянутую.
Я покажу тебе сейчас, как все происходило в действии. Так доходчиво, как только сумею. Не могу же я сделать так, чтобы ты там очутился в самый разгар событий. Вся моя надежда на то, что мне удалось подготовить тебя к этому паломничеству. Тогда я и мысли не мог допустить о низости моих стремлений. Мне казалось, я постиг суть величайшей мечты нашего поколения: мне хотелось быть чудотворцем. Так я представлял себе славу. Только вот что я тебе скажу, опираясь на весь свой опыт: не надо тебе быть чудотворцем, будь чудом.
В те выходные я договорился, что тебе дадут поработать в архивах, а мы с Эдит полетели в Аргентину погреться на солнышке и провести там кое-какие опыты. У Эдит возникли проблемы с телом: оно стало понемногу расползаться, она даже опасалась, что тело ее начало умирать.
Мы сняли большой номер с кондиционером и видом на море, и как только довольный чаевыми портье, внесший наши вещи, затворил за собой дверь, мы заперли замок на два оборота.
Эдит застелила двуспальную постель большой клеенкой, аккуратно расправив ее по краям со всех четырех сторон. Мне очень нравилось смотреть, как она нагибается. Ее задница была моим шедевром. Соски ее вполне можно было бы назвать эксцентричной экстравагантностью, но попка у Эдит была безупречной. Конечно, с каждым годом для поддержания ее в форме надо было все больше времени тратить на электромассаж и принимать больше гормонов, но сама по себе идея была хороша.
Эдит разделась и легла на кровать. Я встал рядом. Во взгляде Эдит сверкнула молния.
– Я тебя ненавижу, Ф. Ненавижу тебя за то, что ты сделал со мной и с моим мужем. Какой же я дурой была, что связалась с тобой. Как бы мне хотелось, чтобы он раньше тебя со мной познакомился…
– Ладно тебе, Эдит. Зачем былое ворошить? Ты же хотела быть красивой.
Леонард Коэн -
– Теперь я уже ничего не помню. У меня все в голове смешалось. Может, я и раньше красивой была.
– Может быть, – отозвался я на той же печальной ноте, что прозвучала в ее тоне.
Устроившись поудобнее, Эдит изменила положение бедер, и солнечный лучик упал ей на лобковые волосы, окрасив их оттенком ржавчины. Такая прелесть была недоступна даже моему мастерству.
Я встал на колени и приложил тонкое до прозрачности ухо к маленькому садику, залитому солнцем, вслушиваясь в тайну крошечного болотного механизма.
– Ты лезешь, куда тебе не положено, Ф. Ты Бога гневишь.
– Тише, курочка моя маленькая. Такую жестокость даже мне не под силу вынести.
– Лучше бы ты оставил меня такой, какой нашел. Теперь я уже никому не понадоблюсь.
– Я вечно мог бы сосать твои соки, Эдит.
Она провела чудесными коричневатыми пальчиками мне по подстриженным волосам на шее, и волосы от возбуждения встали дыбом.
– Иногда мне тебя даже жалко, Ф. Ты мог бы стать великим человеком.
– Не болтай, – булькнул я.
– Встань, Ф., хватит меня вылизывать. Я себе представляю, что на твоем месте кто-то другой.
– Кто?
– Официант.
– Какой? – спросил я.
– С усами и в плаще.
– Так я и думал. Так я и думал.
– Ты тоже обратил на него внимание, правда, Ф.?
– Да.
Я поднялся слишком резко. Волчком закружилась голова, и недавно со вкусом пережеванная еда превратилась в брюхе в блевотину. Мне стала ненавистна вся моя жизнь, что лезу, куда не положено. Амбиции мои мне опротивели. На какую-то долю секунды мне захотелось стать заурядным парнем, уединившимся в номере тропической гостиницы с сироткой-индеаночкой.
– Не плачь, Ф. Ты же знал, что так должно было случиться. Ты хотел, чтобы я прошла весь путь до конца. Теперь от меня никому прока не будет, я на все готова.
Я еле доплелся до окна. Оно было наглухо задраено. За окном изумрудной бездной расстилался океан. Пляж метили горошины солнечных зонтиков. Как мне теперь недоставало моего учителя – Чарльза Аксиса! Я тупо уставился на чьи-то безукоризненно белые плавки, неомраченные топографией гениталий.
– Ф., пойди сюда. Не могу смотреть, когда мужика рвет, а он ревет.
Она положила мою голову себе между голых грудей, вставила в уши соски.
– Ну, давай.
– Спасиботебе, спасиботебе, спасибо.
– Слушай, Ф. Слушай так, как тебе хотелось, чтобы все мы слушали.
– Слушаю, Эдит.
– Ты не слушаешь, Ф.
– Я пытаюсь.
– Мне жаль тебя, Ф.
– Помоги мне, Эдит.
– Тогда снова берись за дело. Тебя сейчас только это может выручить. Постарайся завершить работу, которую начал со всеми нами.
Она была права. Я был Моисеем нашего маленького исхода. Но мне никогда не довести его до конца. Гора моя могла бы быть очень высока, но высилась она в пустыне. Пусть эта мысль служит мне утешением.
Я привел себя в рабочую форму. Аромат ее промежности еще щекотал мне ноздри, но теперь это касалось только меня одного. Я смотрел на обнаженную женщину с вершины хребта Фасги в Земле обетованной. На ее пухлых губах играла улыбка.
– Так-то лучше, Ф. Язычок у тебя ничего, но в роли доктора ты мне нравишься больше.
– Хорошо, Эдит. Так что, по-твоему, тебя сейчас беспокоит?
– Я больше не могу заставить себя кончить.
– Конечно, не можешь. Если мы хотим довести тело до совершенства, превратить его в сплошную эрогенную зону, если мы хотим сделать возбудимым весь кожный покров, научиться танцевать Телефонный танец, нужно начать с подавления тирании сосков, губ, клитора и ануса.
– Ты Бога гневишь, Ф. С языка твоего одна грязь летит.
– Кто не рискует, тот не выигрывает.
– Я стала какой-то потерянной с тех пор, как разучилась кончать. А к другим средствам я пока не готова. От них мне совсем одиноко становится. Все плыть начинает. Иногда забываю, где у меня влагалище.
– Не утомляй ты меня, Эдит. Подумай лучше о том, что я все надежды возлагал на тебя и твоего мужа-бедолагу.
– Ф., отдай мне, что отнял.
– Ладно, Эдит. За этим дело не станет. Мы сейчас все поправим. Я заранее знал, что такое может случиться, и поэтому прихватил с собой кое-какие книги. Я их тебе сейчас почитаю. Кроме того здесь в чемодане у меня несколько искусственных фаллосов, вагинальные вибраторы, ринно-там и годемиш, который еще называют дилдо [61].
– Вот теперь ты говоришь убедительно.
– Лежи себе просто и слушай. Утони в клеенке. Раскинь ноги в стороны, пусть кондиционер свое дело делает.
– Ладно. Давай.
Я прочистил горло, выбрал толстую книгу, написанную весьма откровенным языком, где речь шла о самых разных способах самоудовлетворения, к которым прибегают люди и звери, цветы, дети и взрослые, женщины всех возрастов и культур. В оглавлении книги перечислялись следующие разделы: «Почему жены мастурбируют», «Чему можно научиться у муравьеда», «Неудовлетворенность женщины», «Аномалии и эротика», «Техника мастурбации», «Свобода женщины», «Бритье гениталий», «Открытие клитора», «Мастурбация с помощью искусственных возбудителей», «Женский металл», «Девять презервативов», «Основные ласки», «Уретральная мастурбация», «Индивидуальные эксперименты», «Детский онанизм», «Техника ласки бедер», «Стимуляция молочной железы», «Мастурбация перед окнами».
– Продолжай, Ф. Я чувствую, как ко мне возвращается желание.
Ее чудесные коричневатые пальчики постепенно спускались вниз по шелковистой коже округлого живота. Медленно, дразнящим тоном диктора, который бесстрастно знакомит слушателей с прогнозом погоды, я продолжал читать своей все глубже дышавшей пациентке о необычных случаях сексуальной практики, при которых половые отношения становится «иными». «Необычность» такого рода практики состоит в том, что она помогает получить более сильное удовлетворение, чем то, которого можно достичь при оргазме во время совокупления. Оно возникает преимущественно за счет членовредительства, потрясений, половых извращений – в частности наблюдения за эротическими сценами, боли или пыток. Сексуальные привычки обычного человека, как правило, свободны от такого рода садистских или мазохистских «странностей». ТЕМ НЕ МЕНЕЕ читатель может быть шокирован, узнав о том, насколько ненормальными зачастую могут быть сексуальные привычки так называемой нормальной личности. Я зачитывал ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ и результаты многочисленных опросов. В специальных разделах давалось детальное описание ВСЕХ АСПЕКТОВ полового акта. Вот некоторые ОБРАЗЦЫ НАЗВАНИЙ РАЗДЕЛОВ: «Ласки», «Вид обнаженного тела», «Шелковые круги», «Сатириаз», «Скотоложство». Обычного читателя может удивить, что в «необычную» практику половых отношений можно быть втянутым на первый взгляд невинными, вполне нормальными сексуальными партнерами.
– Как здорово, Ф. Как долго ты мне уже читаешь.
Спускались сумерки. Темнели небеса. Эдит ласкала себе все тело, бесстыдно вдыхая собственные запахи. Я сам еле держал себя в руках. Книги достали и меня. По ее телу побежали мурашки. Я тупо смотрел на иллюстрировавшие текст оригинальные рисунки: мужские и женские половые органы – внутренние и внешние, картинки, на которых изображались правильные и неправильные методы введения пениса. Женам полезно познакомиться с тем, как надо вводить половой член.
– Пожалуйста, Ф., продолжай, не оставляй меня в таком состоянии.
У меня дух перехватило от ее слов. Ее ласкала любовь. Жар собственных объятий доводил Эдит до состояния мартовской кошки. Она перевернулась на живот, умело орудуя в промежности маленькими точеными кулачками. Я переключился на «Пособие по частичной импотенции». Там говорилось о важных вопросах, напрямую имеющих отношение к нашей теме: «Как увеличить половой член в состоянии эрекции», «Тайна пениса», «Применение смазки», «Половое удовлетворение во время менструации», «Нарушение менопаузы», «Мануальное стимулирование женщин для преодоления частичной импотенции».
– Не касайся меня, Ф. Я концы сейчас отдам.
Я продолжал зачитывать выдержки из главы об оральном возбуждении полового члена и оральной стимуляции женских половых органов братом и сестрой, потом перешел к другим разделам. Руки мои не хотели меня больше слушаться. Чуть позже мое внимание привлек отрывок, где излагалась новая захватывающая концепция половой жизни. Дальше шел раздел о долгожителях, которые в любом возрасте могут наслаждаться восхитительными оргазмами. Сотням опрошенных лесбиянок задавали настолько смелые вопросы о подробностях их интимных отношений, что в ответах некоторых из них звучала застенчивость. Ну, розоватая, не тяни за душу, колись скорее, мочалка дешевая! Проделана огромная работа, дающая наглядное представление о действиях насильников при сексуальных домогательствах. Химические средства для выведения волос с ладоней. Не муляжи в этой книге служили иллюстрациями – на снимках были настоящие фотографии реальных мужских и женских половых органов и выделений! Исследование, посвященное поцелуям. Страницы шелеетели одна за другой. Эдит несла всякую околесицу, не брезгуя грязными выражениями. Ее пальцы, склизкие от собственных выделений, лоснились и блестели, язык саднило от вкуса промежности. Я как пономарь продолжал заунывно читать о том, как лучше достичь максимальной чувствительности, о причинах эрекции, о позициях 1 – 17 (муж сверху), 18 – 29 (жена сверху), 30 – 34 (сидя), 35 – 38 (на боку), 39 – 53 (стоя и на коленях), 54 – 109 (на корточках), обо всех мыслимых и немыслимых телодвижениях мужа и жены в разных направлениях во время соития.
– Эдит! – крикнул я. – Дай я тебе помогу, мне тоже хочется.
– Ни за что.
Потом я прошерстил словарь сексуальных терминов. В 1852 году сэр Ричард Бертон [62] (скончавшийся в возрасте 69 лет) без проблем сделал себе обрезание, когда ему был 31 год. «Доярки». «Подробный перечень работ о кровосмешении». «Десять стадий смешения рас». «Техника, применяемая фотографами, которые пользуются дурной славой». «Данные об экстремальных актах». «Садизм», «Членовредительство», «Каннибализм», «Каннибализм при оральном сексе», «Как приводить в соответствие несоразмерные органы». Вот оно – рождение новой американской женщины. Я громко зачитывал засвидетельствованные факты. Ей не будет отказано в радостях половой жизни. Об изменении тенденций в этом направлении свидетельствуют данные ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ. В них масса ссылок на девушек-старшеклассниц, которые только и делают, что ждут гнусных предложений. Женщинам теперь не возбраняется оральный секс. Мужчины отдают Богу душу, занимаясь онанизмом. Каннибализм при эротическом стимулировании. Черепное соитие. Секреты «выбора срока» для наступления климакса. Крайняя плоть – за, против и воздержавшиеся. Интимный поцелуй. Каковы преимущества сексуального эксперимента? Сексуальная косметика – для себе и для других. Греху надо учить. Поцелуи взасос с неграми. Раздел, посвященный бедрам. Типы массажа для усиления чувственного наслаждения. Смерть скачет на верблюде. Я делал для нее все, что было в моих силах. Мой голос звучал змеем-искусителем. Я все ей выложил и про тесемки, и про замечательные трусики с застежкой спереди, и про мягкие эластичные бюстгальтеры, которые даже отвисшей плоской груди придают идеальные молодые формы. Нависая над чудесными сосками Эдит, я выболтал ей все секреты «священных трусиков», «снега пожарной сигнализации», «очаровательной подсказки», повседневного ухода за большим бесформенным бюстом, моющейся резиновой куклы Кинзи [63], дисциплины смегмы, пепельницы МАЛАЯ СПРИНЦОВКА, «ПРИШЛИ МНЕ ЕЩЕ ОДИН возбудитель, чтобы у меня была возможность их чередовать. Это позволяет мне работать на машине для пресса 8 часов в день на предельной скорости», – это я вставил от тоски, от печали по тому, как раньше клали мы под бедра ей подушку и, забывшись, улетали в восхитительные дали, мне хотелось той подушкой оживить воспоминанья Эдит, дать ей точку опоры в омуте памяти, чтоб из недр ее вдруг взмыла вверх ракета, и сияньем ее света озарилась та убогая трущоба, где как ария тромбонов был натужный кашель деда, деньги скрывшего в кальсонах.
Эдит сводила и разводила перемазанные слюной коленки, ее напрягшиеся бедра ритмично молотили лужицу собственных выделений. Накладные ногти безжалостно раздирали побледневшие мышцы ануса. Она кричала от терзавшего ее желания, ей хотелось взлететь туда, куда ее влекло воображение, но склеротическое влагалище отказывало ей в желанном полете.
– Ну, сделай же что-нибудь, Ф. Умоляю тебя. Только не притрагивайся ко мне.
– Эдит, дорогая! В чем же я перед тобой провинился?
– Отойди от меня, Ф.!
– Что ты хочешь, чтобы я сделал?
– Сам придумай.
– Хочешь, я расскажу тебе о пытках?
– О чем угодно, Ф. Только скорее.
– О евреях?
– Нет. Мне этого не понять.
– О том, что случилось в 1649 году? О Бребёфе [64] и Лалемане [65]?
– О чем угодно.
Так я рассказал ей урок, который еще мальчиком выучил в школе, о том, как ирокезы убили иезуитов Бребёфа и Л алемана, обгоревшие и изувеченные останки которых утром двадцатого нашли один иезуит и семь вооруженных французов. «Ils у trouuerent vn spectacle d'horreur…» [66].
Днем шестнадцатого ирокезы привязали Бребёфа к столбу. Они пытали его огнем так, что ожоги покрывали все тело иезуита с головы до ног.
– Вечный огонь ждет тех, кто преследует служителей Господа, – пригрозил им Бребёф тоном повелителя.
Когда священник произнес эти слова, индейцы отрезали ему нижнюю губу и прижгли рану докрасна раскаленным железным прутом. Иезуит не проронил ни звука, даже бровью не повел от боли.
Тогда ирокезы принялись за Лалемана. Они привязали к его обнаженному телу куски коры, густо обмазанной смолой. Когда Лалеман увидел своего истекающего кровью наставника, в глубине неестественной раны которого белели зубы, а железный прут все еще торчал из обожженного и изувеченного рта, он воскликнул, подобно апостолу Павлу:
– Из нас сотворили зрелище для мира, для ангелов и людей.
Лалеман припал к стопам Бребёфа. Ирокезы оттащили его, привязали к столбу и подожгли кору, которой было обвязано его тело. Он взывал к небесам о помощи, но быстрая кончина не была ему уготована.
Ирокезы раскалили докрасна томагавки и приложили их как воротник к шее и плечам Бребёфа. Он ни единым жестом не выказал муки страданий.
Один бывший обращенный, ставший позже вероотступником, растолкал соплеменников и потребовал, чтобы на головы иезуитов лили кипяток, потому что миссионеры много раз кропили индейцев холодной водой. На костер поставили котелок, вода вскипела, и ее медленно вылили на головы пленных священников.
– Мы вас крестим, – смеялись индейцы, – чтобы вы были счастливы на небесах. Вы ведь учили нас, что чем больше страданий человек перенесет на земле, тем счастливее он будет на небе.
Бребёф и эту муку вынес не дрогнув. Еще какое-то время ирокезы жестоко и гнусно его пытали, а потом сняли с него скальп. Он был еще жив, когда ему рассекли грудь. Иезуита обступила толпа – каждый хотел выпить крови и откусить кусочек сердца такого храброго врага. Его мученическая кончина поразила убийц. Священника пытали на протяжении четырех часов подряд.
Хилого от рождения Лалемана отвели обратно в хижину. Там его терзали всю ночь, до самого рассвета, пока, наконец, какой-то утомленный затянувшейся забавой краснокожий не нанес ему томагавком смертельный удар. Все тело иезуита покрывали ожоги от пыток огнем, «даже в пустые глазницы мученика эти негодяи засунули горящие угли». Его пытали беспрестанно в течение семнадцати часов.
– Ну, Эдит, как дела?
Вопрос был чисто риторическим. Мой рассказ лишь подвел ее ближе к восхождению на ту блаженную вершину, которую она так и не смогла покорить. Эдит стонала от пожиравшей ее страсти, гусиная кожа плоти светилась мольбой об освобождении от непереносимого бремени мирского блаженства, ей любой ценой хотелось воспарить в ту незримую высь, так похожую на сон, так похожую на смерть, на полет в предел беспредельного блаженства, где любой человек сиротой сливается с неуловимыми тенями духов предков в бездне времени, питающими естество души мощнее, чем кровь, сильнее, чем сиротство семьи.
Я знал, что ей никогда уже не отправиться в тот полет.
– Ф., ну помоги же мне с этим справиться, – простонала она жалобно.
Я вставил в розетку вилку шнура датского вибратора. Последовавшая за этим сцена была омерзительной. Как только электрическая вибрация наполнила мне ладонь изумительными стеблями извивающихся, обволакивающих, ласкающих морских водорослей, у меня пропало желание отдавать инструмент Эдит. Обуреваемая сладострастными муками, она краем глаза заметила, что я пытаюсь схоронить усовершенствованное вибрирующее устройство в недрах собственного нижнего белья.
Она вскочила с перемазанной клеенки и бросилась на меня как фурия.
– Отдай мне его сейчас же, гад ползучий!
Эдит кинулась на меня, как медведь на добычу, – память предков, должно быть, проснулась. Мне не хватило времени приладить чудесные усовершенствованные тесемки, и вибратор выскользнул из рук. Медведь тем временем мощным ударом когтистой лапы попытался вытащить рыбину со дна ручья. Но датский вибратор зигзагами стал поспешно удирать по натертому полу, жужжа как перевернутый детский паровозик.
– Ты эгоист, Ф., – прорычала Эдит.
– Так может говорить только лицемерное и неблагодарное существо, – сказал я со всей нежностью, на какую был способен.
– Уйди прочь с моей дороги.
– Я люблю тебя, – сказал я, потихоньку отступая в направлении датского вибратора. – Я люблю тебя, Эдит. Может быть, я что-то делал не так, но любил тебя всегда. Или ты меня считаешь эгоистом потому, что я пытался избавить тебя и его от боли (твоей боли, дорогой мой дружок)? Я видел боль в каждом твоем жесте. Мне было страшно смотреть тебе в глаза, так сильно их дурманили боль и страсть. Мне было непереносимо тебя целовать, потому что в каждом твоем объятии я чувствовал безнадежный, разъедающий душу крик о помощи. В твоем смехе – радовалась ли ты деньгам или солнечным закатам – мне слышалась раздиравшая тебя в клочья алчность. Когда ты в стремительном прыжке взлетала ввысь, я видел, как твое тело увядает. Даже когда ты стонала на вершине блаженства, тебя не переставало глодать сожаление. Тысячи людей строили, тысячи людей сложили кости, возводя магистрали. А ты не была счастлива даже тогда, когда чистила зубы. Я дал тебе грудь с восхитительными сосками: кого ты ею выкормила? Я дал тебе мужчину, соединил с ним твою судьбу: какому новому племени вы положили начало? Помнишь, я пригласил тебя в кино на фильм о Второй мировой войне: ты вздохнула с облегчением, когда мы вышли из зала? Нет, ты стала пытаться рассуждать о чем-то. Я сосал тебя, а ты выла, отравляя нам радость. В каждом твоем жесте сквозила боль утраты. Ты во всем видела подвох. Меня с ума сводил шантаж твоей боли. Ты вся сочилась гноем, раны твои покрывали струпья пыток. Тебя нужно было срочно перевязать, но не было времени стерилизовать бинты, и я хватал первое, что попадалось под руку. Осторожность была для нас роскошью. Мне некогда было задумываться о причинах своих поступков. Моим алиби должно было стать самоочищение. При виде твоих страданий я был готов на все. Я не в ответе за собственную эрекцию. Я не знаю, чем объяснить низость собственных желаний. При виде твоих гноившихся ран я терял над собой контроль, я не знал, что влечет меня вперед – ад или рай. Когда я брел по улице, из каждого окна раздавался приказ: Изменяй! Очищай! Экспериментируй! Клейми позором! Отменяй! Выжигай! Сохраняй! Поучай! Поверь мне, Эдит, я должен был действовать, причем действовать быстро. Так уж я устроен. Можешь назвать меня доктором Франкенштейном, втиснутым в жесткие рамки времени. Мне иногда казалось, что я очнулся от сна в момент ужасной автомобильной катастрофы: повсюду валяются оторванные руки и ноги, звучащие отдельно от тел голоса молят о помощи, обрубки пальцев показывают путь домой, ошметки людей сохнут, как нарезанный сыр без целлофана, а все, что у меня есть в этом мире обломков, – иголка с ниткой, и я встаю на колени, вытаскиваю куски плоти из месива катастрофы и сшиваю их кое-как воедино. У меня есть собственное представление о том, каким должен быть человек, но оно постоянно меняется. Не могу же я всю жизнь посвятить поискам идеального тела. Кругом я слышу только боль, вижу только увечных калек. Моя игла носится как шальная, иногда мне кажется, я прошиваю ниткой собственную плоть, соединяя ее с плотью созданных мною уродов, и я рву нить, и слышу собственный голос, который воет в унисон с общим воплем, и понимаю, что сам стал частью кошмарной общей беды. До меня доходит, что я не один стою на коленях и остервенело сшиваю куски уродцев воедино. Другие, как и я, повторяли чудовищные ошибки, потому что их гнала вперед суетливая порочность торопливости, они тоже сшивали себя с кусками сваленных в груды расчлененных тел, с болью выволакивая самих себя из…
– Ф., ты плачешь.
– Извини.
– Хватит слюни пускать. Смотри, у тебя уже не стоит.
– Все теперь на части распадается. От моей дисциплины камня на камне не остается. Можешь себе представить, какая мне нужна была железная дисциплина, чтобы воспитать вас двоих?
Мы оба одновременно бросились к вибратору. Она поскользнулась, перемазанная собственной смазкой. Какую-то долю секунды пока мы боролись, я хотел заняться с ней любовью, такими напряженными и ароматными были все ее щели. Я схватил Эдит поперек талии, но ее задница выскользнула из моего медвежьего захвата как мокрая арбузная косточка, ее бедра прошли мимо как поезд, на который я опоздал, и я так и остался корячиться с пустыми грязными руками и разбитым о красное дерево дорогого паркета носом.
Дружок мой дорогой, ты еще со мной? Не переживай. Я же обещал тебе, что концовка будет сказочной. Да, все это время твоя жена была голой. Где-то в темной комнате на спинку кресла были наброшены ее трусики, они лежали там задубевшие от высохшего пота и соков ее тела, мечтая об обкусанных ногтях, как большая усталая бабочка, и я мечтал вместе с ними – большие, трепетные, парящие в полете мечты, исчерканные вертикальными царапинами, проносились у меня в голове. Для меня настал конец действия. Я не сдался, мне хотелось продолжать начатое, но уже было ясно, что вы меня разочаровали, вы оба не оправдали моих ожиданий. У меня оставалось в запасе еще одно средство, но оно было опасным, и раньше я никогда им не пользовался. Я покажу тебе, что ход событий вынудил меня к его применению, и это привело к самоубийству Эдит, моему заточению в больницу и твоим жестоким мукам в бревенчатом доме. Помнишь, сколько раз я тебе говорил, что наказанием твоим станет одиночество?
Так я там и лежал себе, в Аргентине. Датский вибратор жужжал как электрическая точилка для карандашей, выделывая фортели на молодом теле Эдит. В комнате было темно и холодно. В отчаянной мольбе она продолжала судорожно молотить клеенку бедрами, лунные блики отражались от ее пляшущей блестящей коленки. Она больше не стонала. Мне показалось, что она уже достигла того предела беспредельной, бездыханной тишины, которую оргазм любит заполонять сдавленными утробными звуками и грандиозными гротескными феериями.
– Слава тебе, Господи, – прошептала она наконец.
– Я рад, что тебе удалось кончить, Эдит. Очень за тебя рад.
– Слава Богу, он уже не во мне. Мне пришлось его выплюнуть. Он заставил меня делать ему минет.
– Что?
Не успел я задать ей вопрос, как вибратор угнездился у меня на заднице, его дурацкое жужжание взвинтилось до воя дебильного идиота. Как вставной кусок моей собственной промежности он вклинил себя между волосатых ягодиц, предусмотрительно мягко приподняв съежившуюся от страха мошонку. Мне доводилось слышать о том, что нечто подобное уже случалось, я знал, что это событие не пройдет для меня бесследно, оно обязательно должно было оставить в душе горький осадок отвращения к самому себе. Потом датский вибратор выдавил из себя каплю специального крема и – цианистым калием в газовую камеру – размазал его по мускулистой ложбинке между ягодиц, мышцы которой я так настойчиво качал, чтобы четко обозначить их контуры. Когда тепло тела растопило крем, жирной струйкой смазавший позорное вторжение вибратора в мое нутро, в нескольких местах залипли резиновые чашечки-присоски, доставив мне огромное удовольствие. Эластичный разработчик, казалось, жил собственной жизнью, ремешки счастья мне все раздвинули так широко, что я почувствовал, как прохладные воздушные струи кондиционера испаряют пот и крем с малюсеньких поверхностей, о существовании которых я раньше даже не подозревал. Я был готов так лежать хоть десять дней кряду. Я даже не удивлялся. Я знал, что он будет ненасытен, но готов был сдаться. Именно в тот момент, когда все заполнила пенная струя, откуда-то издалека до меня донесся зов Эдит. Больше я не слышал ничего. Чувство было такое, будто тысяча виртуозно сработавшихся специалистов-сексологов слаженно трудились над моим телом. Должно быть, я вскрикнул, когда белая клюшка пробуравила меня в первый раз, но специальный крем как-то продолжал поступать, хотя, мне кажется, теперь резиновая чашечка-присоска откачивала мне избыточное содержимое кишечника. Датский вибратор жужжал мне в уши гипсовыми губами.
Я даже отдаленно себе не представляю, сколько времени он ковырялся мне в промежности.
Потом Эдит включила свет. Ей больше невмоготу было на меня смотреть.
– Тебе хорошо, Ф.?
Я промолчал.
– Сделать тебе что-нибудь, Ф.?
Пресыщенным жужжанием ей ответил датский вибратор. Он всасывал американские ремешки быстрее, чем итальянцы спагетти, чашечки-присоски от меня отлипли, мошонка беспомощно обвисла, и машинка выскользнула из недр моего тела, которое била мелкая дрожь. Мне кажется, я был счастлив…
– Вытащить шнур из розетки, Ф.?
– Делай что хочешь, Эдит. Мне все до фонаря.
Эдит выдернула электрический шнур. Датский вибратор вздрогнул, смолк и стих. Эдит с облегчением вздохнула, но сделала она это преждевременно. Датский вибратор начал издавать странный свист, будто внутри него что-то дребезжало.
– Он от батареек работает?
– Нет, Эдит. У него нет батареек.
Она прикрыла грудь, скрестив руки.
– Ты хочешь сказать…?
– Да. Он сам научился себя кормить.
Когда датский вибратор направился в сторону Эдит, она забилась в угол и как-то странно скорчилась, как будто пыталась укрыть от вторжения влагалище, безнадежно бедра. Я и пальцем не мог пошевелить, лежа в склизкой луже, где меня так изысканно содомистски изнасиловали с помощью массы усовершенствованных приспособлений. Вибратор тем временем неторопливо прошествовал через все пространство номера – шлейф тесемочек, ремешков и чашечек-присосок тянулся за ним, как гавайская юбочка, сплетенная из травы и лифчиков.
(Отец мой небесный, что без имени и без облика, выведи меня из пустыни возможного. Слишком долго я жил в мире событий. Слишком долго трудился, чтобы стать ангелом. Я хотел ловить чудеса сачком власти, чтобы сыпать им соль на дикие хвосты. Я хотел одолеть безумие, чтобы похитить его тайну. Я хотел оснастить компьютеры безумными программами. Я хотел создать добродетель и доказать, что она существует. Не наказывай Чарльза Аксиса. Мы не могли найти доказательств, и потому решили растянуть себе память. Отец мой небесный, прими мою исповедь: мы не учились брать, потому что верили, что взять нам нечего, но так и не смогли смириться с этой верой.)
– Помоги, мне, Ф., помоги же мне.
Но все тело мое онемело, как будто его прибили к полу гвоздем, головка которого торчала из задницы.
Чтобы добраться до Эдит, нужно было время. Она сидела на полу беззащитная, вжав прямую спину в стену и широко раскинув в стороны стройные ноги. Онемев от ужаса и грозившего ей мерзостного наслаждения, она уже была готова сдаться. Я много раз смотрел женщинам туда, откуда ноги растут, но никогда не видел такой странной картины, какая рисовалась в промежности Эдит. Мягкие волосы были откинуты назад от сочившихся срамных губ, как солнечные лучи от лика Людовика Четырнадцатого. Сами губы шевелились, то расползаясь, то съеживаясь, как будто кто-то поставил перед ними увеличительное стекло и неторопливо водил им из стороны в сторону. Датский вибратор проникал в нее без суеты, и вскоре это дитя (Эдит было немногим больше двадцати) стало пальцами и губами вытворять такое, что никто – уж поверь мне, дружок, – никто и никогда тебе и близко не делал. Именно этого, наверное, ты от нее и добивался. Но тебе было невдомек, как ее на такое сподобить, и винить тебе себя тут не в чем. Сотворить такое не мог никто. Вот почему я всегда уходил от обсуждения с тобой проблемы соития.
Вибратор насиловал ее, должно быть, минут двадцать пять. На десятой минуте она просила его залезть ей под мышку, говорила, какой сосок больше тоскует по ласке, выгибалась всем телом, предлагая ему потайные розовые его части. Но потом вибратор перехватил инициативу и начал командовать сам. После этого обалдевшая от счастья Эдит стала чем-то вроде закусочной, где дьявольская машинка тешила собственный аппетит ее соками, плотью, кровью и экскрементами.
Нечего и говорить о том, что Эдит испытывала неземное блаженство.
Датский вибратор соскользнул с ее лица. Все в кровоподтеках, оно светилось блаженной улыбкой.
– Не уходи, – прошептала она.
Но, набравшись свежих сил, машинка взобралась на подоконник, поднатужилась, увеличив обороты до визгливого стона, и, разбив стекло, осколки которого обрушились вниз причудливым театральным занавесом, выскочила из комнаты.
– Заставь его остаться.
– Он уже ушел.
Мы с большим трудом дотащились до окна. Собственные тела казались нам чужими. Высунув головы в густой аромат тропической ночи, мы смотрели, как датский вибратор по мраморным плитам облицовки гостиницы спускается вниз. Достигнув земли, он пересек автомобильную стоянку и вскоре оказался на берегу океана.
– О Господи, Ф., как же мне было хорошо. Положи мне сюда руку.
– Я знаю, Эдит. А ты потрогай у меня вот здесь.
Тем временем на пустынном пляже, залитом лунным светом, перед нами разворачивалась любопытная картина. Когда датский вибратор неторопливо направился к волнам, пробираясь через темные цветы по ярко освещенному берегу, от рощи призрачных пальм отделилась человеческая фигура. Это был тот самый человек в безукоризненно белых плавках. Я не знаю, бежал ли он к датскому вибратору, чтобы как-то его отключить, или просто хотел вблизи поглядеть на изящное движение этой странной штуковины к Атлантике.
Ночь казалась ласковой, как последняя строфа колыбельной. Уперев одну руку в бок, а другой почесывая в затылке, маленькая фигурка в белых плавках, как и мы, глазела на движение мерцающего аппарата к безбрежному океану, волны которого скоро сомкнулись над его чашечками-присосками, как будто настал конец света.
– Он вернется обратно, Ф.? К нам?
– Это не важно. Он уже стал частью мира.
Мы стояли с ней рядом, две фигуры, зависшие в пустоте разбитого оконного проема облицованной
мрамором стены, вмурованной в безграничную безоблачность ночи.
Слабый ветерок играл прядью ее волос, они щекотали мне щеку.
– Я люблю тебя, Эдит.
– И я тебя люблю, Ф.
– И мужа твоего я люблю.
– И я тоже.
– Ничего не вышло, как было задумано, но теперь я знаю, что случится.
– И я знаю, Ф.
– Ох, Эдит, что-то бередит мне душу, сердце стонет от любви, но мне никогда уже не полюбить так, чтобы мечты стали явью. Я Бога молю, чтобы у мужа твоего все исполнилось.
– Он все сделает, Ф.
– Но ему предстоит это сделать одному. Только в одиночестве он с этим совладает.
– Я знаю, – ответила она. – Нас с ним быть не должно.
Безмерная печаль охватила нас, когда мы смотрели на мили моря, беспредельная, безликая, гнетущая печаль, отделенная от нас самих, потому что мы уже не принадлежали сами себе, не корчили из себя тех, кем хотели бы быть. Неустанные волны океана яркими блестками вдребезги крошили разбитый лик луны. Мы прощались с тобой, любовник наш. Мы еще не знали, где и как закончится наше расставание, но началось оно именно тогда.
Внезапно раздался настойчивый стук в дверь.
– Должно быть, это он, – сказал я.
– Может быть, нам лучше одеться?
– Не бери в голову.
Нам даже отпирать не пришлось – усатый официант открыл дверь запасным ключом. На нем был потрепанный плащ – единственное прикрытие совершенно голого тела. Мы оба подошли к гостю.
– Как вам нравится Аргентина? – спросил я, чтобы как-то завязать светскую беседу.
– Хроники документальной не хватает, – ответил он.
– А парадов? – высказал я предположение.
– И парадов. А в остальном проблем нет, я могу здесь достать все что угодно. Надо же!
Он заметил наши раскрасневшиеся половые органы и с большим воодушевлением стал их поглаживать.
– Замечательно! Чудесно! Я вижу, вы отлично подготовлены.
Последовавшее за этим старо как мир. Не буду усугублять ту боль, которую ты, должно быть, уже вытерпел, рассказывая тебе в подробностях обо всем, что он с нами вытворял. Чтобы ты представил себе, каково нам было, скажу только, что мы и впрямь хорошо подготовились и не пытались противиться его мерзостно-восхитительным приказам даже тогда, когда он заставлял нас целовать хлыст.
– У меня есть для вас одно средство, – сказал он наконец.
– У него для нас есть какое-то средство, Эдит.
– Выкладывай, – устало бросила она.
Он вынул из кармана плаща кусок мыла.
– Все втроем идем в ванну, – весело сказал он с сильным акцентом.
И мы пошли с ним там плескаться. Он намыливал нас с головы до ног, расхваливая на все лады особые достоинства мыла, которое, как ты уже, наверное, сам догадался, было сделано из топленого человечьего сала.
Кусок этого мыла ты держишь сейчас в руках. Он крестил им нас – меня и твою жену. Интересно, что ты с этим мылом теперь собираешься делать?
Вот видишь, я показал тебе, как все
Есть, правда, кое-что еще – история Катерины Текаквиты. Ее ты тоже получишь, всю получишь сполна.
Собрав последние силы, мы насухо вытерли друг друга роскошными гостиничными полотенцами. Официант очень бережно протер нам половые органы.
– У меня миллионы кусков этого мыла, – сказал он без тени сожаления.
Потом набросил плащ и какое-то время вертелся перед большим зеркалом, приглаживая усы и зачесывая на косой пробор волосы, чтобы они спадали со лба, как ему нравилось.
– И не забудьте сделать заявление в
– Постой!
Он уже распахнул было дверь, чтобы уйти, но Эдит обвила его шею руками, потащила за собой на сухую постель и прижала его голову к своей груди.
– Зачем ты это сделала? – спросил я ее, когда официант гусиным шагом удалился и ничего больше о нем не напоминало, кроме едва уловимой вони сернистых газов его дьявольского метеоризма.
– Мне вдруг показалось, что он – а…
– Ох, Эдит!
Я преклонил пред твоей женой колени и коснулся губами пальцев ее ноги. В комнате царил невообразимый кавардак, весь пол был заляпан пятнами липкой жижи и мыльной пены, но она поднялась с него как прекрасная статуя в лунном сиянии, осенявшем ее плечи и грудь с торчащими сосками.
– Ох, Эдит, какая же все это ерунда – все, что я с тобой творил, с грудью твоей, с влагалищем, с тем, что задница твоя расползаться начала, со всеми моими амбициями пигмалионскими. Ничего это все не значит, теперь я совершенно в этом уверен. Твои прыщи и все остальное – только видимость, ты так и осталась для меня недосягаемой, и никакие уловки мне здесь не смогли помочь. Кто ты такая?
– |σις έγω είμί ττάντα γεγονος καί ον καί ον καί έσό μενον καί τό ττέττλον ούδείς των Θνητων άττεκαλυφεν!
– Ты это серьезно? Тогда мне остается только целовать тебе пальцы на ногах.
– Вот еще выдумал!
Много позже.
Помню, дружок, ты рассказывал мне однажды о том, как индейцы представляли себе смерть. Индейцы верили, что после кончины тела дух свершает долгий путь, восходя на небеса. Путь этот труден и опасен, немногим удается пройти его до конца. На бревне, которым как щепкой играют пороги, надо переплыть через бурный поток. Огромный пес с воем и лаем набрасывается на путника. Дальше узкая тропинка проходит между огромными танцующими валунами, они бьются друг о друга в пляске, и если путник не подладится к их танцу, от него только мокрое место останется. Гуроны считали, что в конце той тропы стоит хижина, смастеренная из коры. В ней живет Оскотарах, что в переводе значит: «тот, кто дырявит черепа». Его дело состоит в том, чтобы из черепов всех, кто проходит мимо избушки, выскабливать мозги, потому что «без этого нельзя перейти в бессмертие».
Задай себе вопрос: может быть, тот бревенчатый дом, где ты сейчас так мучаешься, и есть хижина Оскотараха? Ты не знал, что эта процедура такая долгая и мучительная. Снова и снова затупившийся томагавк все бьет и бьет по каше мозгов. Лунному свету хочется забраться тебе в череп. Искрящимся лучам ледяного неба хочется просочиться сквозь твои глазницы. Холодный ночной воздух жидким бриллиантом хочет заполнить пустую чашу черепа.
Спроси себя: не я ли твой Оскотарах? Бога молю, чтобы им оказался я. Операция эта, мой дорогой, проходит нормально. Я с тобой.
Но кто сделает такую операцию самому Оскотараху? Когда до тебя дойдет смысл этого вопроса, ты постигнешь всю меру моих страданий. Для собственной операции мне пришлось выбивать для себя отдельную палату в клинике. В бревенчатом доме я себя чувствовал слишком одиноко и потому ударился в политику.
Единственным, от чего меня избавила политика, стал большой палец на левой руке. (Мэри Вулнд, надо сказать, такая потеря ничуть не смущает.) Может быть, в этот самый момент большой палец моей левой руки гниет где-нибудь на крыше
в центре Монреаля или его останки копотью осели на жести каминного дымохода. Вот она – моя реликвия. Дружок, будь снисходителен к тем, кто одержим мирскими страстями. Бревенчатый дом такой маленький, а нас так много, и каждый точит зубы на небо над головой.
Вместе с моим большим пальцем исчезло медное тело статуи английской королевы на улице Шербрук, или на Rue Sherbrooke – такое название мне больше по душе.
БУМ! БА-БАХ!
Все части этого пустотелого тела государственного, которое так долго там возвышалось, как огромный валун, перекрывавший чистый поток нашей крови и судьбы, РАЗЛЕТЕЛИСЬ ВДРЫЗГ! – и вместе с ним исчез большой палец одного патриота.
Дождь в тот день лил как из ведра! Зонтики всех английских полицейских не могли защитить город от перемены климата.
QUÉBEC LIBRE!
Бомбы с часовым механизмом!
QUÉBEC OUI OTTAWA NON.
Тысячи голосов, раньше умевших дружно кричать лишь тогда, когда шайба проносилась в ворота мимо клюшки вратаря, теперь на одном дыхании скандировали: MERDE A LA REINE D'ANGLETERRE.
ЕЛИЗАВЕТА, УБИРАЙСЯ ДОМОЙ.
В том месте улицы Шербрук теперь зияет пустота. Когда-то ее заполняла статуя чужой королевы. В ту пустоту упало семя чистой крови, и оно даст пышные всходы.
Я знал, что делал, устанавливая бомбу в позеленевших от времени медных складках ее имперского подола. Вообще-то сама по себе статуя мне даже нравилась. Под ее монаршей сенью мне многих женщин приласкать довелось. И потому, дружок, прошу тебя о снисхождении. Мы – те, кому потемки привычнее света дня, – должны оперировать символами.
Я ничего не имею против королевы Англии. Даже в глубине души я никогда не осуждал ее за то, что она не Жаклин Кеннеди. Я себе так думаю: она очень светская дама, и ей не в радость бывали тяготы, налагаемые высоким положением.
Да, одиноко, должно быть, чувствовали себя королева с принцем Филиппом на запруженных охранниками улицах Квебека в тот октябрьский день 1964 года. Даже самый крутой земельный магнат в Атлантиде, должно быть, не чувствовал себя таким одиноким, когда ее поглотила морская пучина. У подножия статуи Рамзеса II было, наверное, больше народа во время песчаной бури 89 года. Они сидели в бронированном автомобиле очень прямо, как дети, пытавшиеся прочесть субтитры фильма на иностранном языке. Их путь метили желтые жилеты полицейских из спецотрядов по разгону демонстраций и спины враждебной толпы. Я не очень-то зубы скалю по поводу их одиночества. И твоему стараюсь не завидовать. Ведь, в конце концов, именно я указал тебе то место, куда сам попасть не могу. И теперь тебе на него указываю – своим оторванным большим пальцем.
Будь ко мне снисходителен!
Твой учитель тебе показывает, как это происходит.
Сейчас у них даже походка другая, у монреальских ребят и девочек. Отовсюду доносится музыка. Они по-другому одеваются – нет вонючих контрабандных носовых платков, топыривших карманы. Плечи гордо расправлены, прозрачное белье задорным вызовом выпячивает интимные части тела. Полнокровные соития радостным грузом корабельных крыс перекочевали с мраморных английских берегов в революционные ресторанчики. На улице Сен-Катрин – покровительницы девственниц – царит любовь. История связывает разорванные нити человеческих судеб, и жизнь идет вперед. Не тешь себя иллюзиями: национальная гордость – понятие вполне осязаемое, оно измеряется напряжением эрекции одинокой мечты, децибелами женского стона в оргазме.
Первое мирское чудо: творение Французской Канадки, дрожавшей ли раньше от холода в мотеле, страдавшей ли от любви демократии женского монастыря, связанной ли черными путами кодекса Наполеона – революция сделала то, на что раньше был способен лишь бесшабашный Голливуд.
Следи за словами, смотри,
Я мечтаю о независимом Квебеке не только потому, что я француз. Я хочу, чтобы наши национальные границы были обведены жирной линией не просто ради того, чтобы граждане Квебека не казались жителями экзотического уголка туристической карты. И не просто потому, что без обретения национальной независимости мы так навсегда и останемся Луизианой севера с несколькими хорошими ресторанам и Латинским кварталом – единственными реликвиями нашей крови. И не просто потому, что такие возвышенные понятия, как судьба и вечные духовные ценности, должны обеспечиваться такими низменными атрибутами, как знамена, армии и паспорта.
Я хочу набить роскошный цветастый синяк всему монолиту Американского континента. Я хочу, чтобы в нашем его уголке уютно потрескивали в камине поленья. Я хочу расколоть страну пополам, чтобы люди научились разбивать пополам свои жизни. Я хочу, чтобы история разогналась на роликах и вскочила Канаде на холку. Я хочу лакать из глотки Америки, как из дырки жестяной банки. Я хочу, чтобы все двести миллионов знали, что все может быть по-другому, как угодно, хоть по-старому, но только по-другому.
Я хочу, чтобы государство стало серьезно в себе сомневаться. Я хочу, чтобы полиция перерегистрировалась в акционерное общество и обанкротилась вместе с биржей. Я хочу, чтобы церковь раскололась надвое и оказалась по обе стороны баррикады.
Вот оно тебе – мое признание!
Ты понял теперь,
До ареста и последовавшего вскоре заключения в эту больницу с диагнозом невменяемости при совершении преступления я дни напролет составлял воззвания против англосаксонского империализма, вставлял в бомбы часовые механизмы, в общем, все шло по обычной программе подрывной деятельности. Мне недоставало твоих поцелуев, но отвлекать тебя от дела я не мог, тебе надо было готовиться к путешествию, в которое я направил тебя именно потому, что не мог туда отправиться сам.
Но ночью! Ночь будто масла в огонь подливала моим самым несбыточным грезам.
Англичане сделали с нами то, что мы сделали с индейцами, а американцы сделали с англичанами то, что англичане сделали с нами. Я всем за всех хотел отомстить. Мне мерещились горящие города, проекторы, крутившие ленту фильма в пустоту без экрана. Я видел кукурузные поля, объятые пламенем. Я видел иезуитов, которых постигла кара. Я видел, как сквозь крыши длинных домов прорастают деревья. Я видел, как убивает робкая лань, с которой содрали шкуру. Я видел наказанных индейцев. Я видел, как хаос пожирает позолоченную крышу парламента. Я видел, как вода разъедает копыта зверей у водопоя. Я видел залитые мочой костры ритуальных торжеств, заправочные станции, целиком уходящие под землю, магистрали дорог, засасываемые диким болотом.
Тогда мы были с тобой очень близки, дружок. Тогда я шел по твоим стопам.
Пожми же мне руку мою духовную и не забывай меня. Тебя нежно любил человек, для которого сердце твое было раскрытой книгой, тени твоих грез становились моим прибежищем. Вспоминай иногда, как нам вместе бывало хорошо.
Я обещал тебе письмо, полное радости, помнишь?
Мне хочется снять с тебя тяжкую ношу последнего бремени – бесполезной истории, груз которой приводит тебя в смущение, доставляет тебе такие страдания. Мужчины твоего склада обычно всю жизнь остаются примерно на том же уровне, на котором были при крещении.
Жизнь предначертала мне быть человеком действия – я беру на себя ответственность. Тебе не надо больше лезть в это дерьмо. Не надо тебе вникать в обстоятельства смерти Катерины Текаквиты и ломать себе голову, размышляя о случившихся после этого чудесах, описанных в хрониках. Читай об этом не напрягаясь, расслабленно, как будто следишь за полетом мухи или комара.
Желаю тебе распрощаться с запорами и одиночеством.
Чудо, которого все мы ждем, само ждет момент, когда рухнет парламент, и дом архивов будет уже не дом, и славы отрава покинет отцовский регламент.
Ни награды, ни угрозы не заставят отщепенцев
Совершить свое паломничество к страсти.
Но как ненужный хлыст у многих извращенцев
Лишь сломят плоть и разум подчинят традиции напасти.
Мне видится бесстрастный парнишка-сирота,
Витающий высоко в небесах.
Его не беспокоит его тела нагота, И нет порока имени в глазах.
Он сгорел внутри дотла, как в печке
передержанное тесто.
Холод, ветер, свет и темнота видят в нем теперь
свою невесту!
History is a Scabbie [67] Point [68]
История – это чесоточный кончик,
For putting Cash [69] to sleep
Чтобы налик укладывать спать.
Shooting up [70] the Peanut [71] Shit [72]
Укол дерьмовой хренотенью -
Of all we need to keep [73]
Вот все, что надо нам сохранять.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |