"До чего ж оно все запоздало" - читать интересную книгу автора (Келман Джеймс)
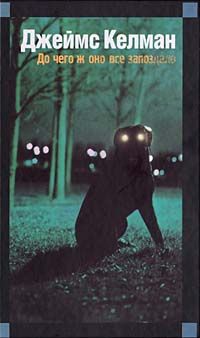 |
Джеймс Келман До чего ж оно все запоздало
Очухаешься хрен знает в каком углу – и сидишь, надеешься, что тело возьмет и исчезнет; мысли душат, эти мне мысли; а ты хочешь все вспомнить, ко всему приготовиться, да только что-то мешает, почему-то не получается; в голове кружат одни слова, потом другие; что-то не так; что-то совсем, совсем не так; поганый ты человек, вот что я тебе скажу, просто поганый. Мало-помалу начинаешь соображать, где ты: здесь – вот где, сидишь кучей в углу, а в голове мысли, мысли. И, господи-боже, спина-то как у него ноет, затекла, и в башке что-то бухает. Его трясет, он вбирает голову в плечи, закрывает глаза, трет уголки кончиками пальцев; пятна какие-то, вспышки света. Где это он, мать-перемать…
Да здесь же, здесь, сидит, прислонясь к старому ржавому штакетнику с острыми пиками наверху, некоторые поломались, другие и вовсе исчезли. Приглядевшись еще раз, обнаруживает, что под ним тощий слой какой-то сорной травы, вот он на чем, оказывается, сидит. Ну вот, уже и ноги показались. Он рассматривает их; на ступнях старые кроссовки, едрена вошь, эти-то откуда, он их отродясь не видал, надо же, долбаные кроссовки. И шнурки-то на них не завязаны! А его кожаные шузы куда, на хер, подевались? Новенькие же, всего две недели назад разжился, и совсем недавно были на нем, знаю, что говорю, небось потырили какие-то суки, не упустили случая. А ему вот эти оставили. Обтяпали дельце. Правда, может, подумали, что он загнулся, тогда все по-честному, тогда их можно понять, какая-нибудь жалкая гнида почесалась-почесалась, да и думает: никого нету, че ж не взять-то, малый все равно перекинулся, бери уж, лучше, что ли будет, если они тут сгниют, господи-боже, че ж не взять-то. Ублюдок хренов, мог бы и проверить как следует. А может, и про верил, видит – он ничего и не помер, взял да и поменял обувку, напялил на меня кроссовки.
Ну и хер с ними. Он трясет головой, озирается по сторонам: люди – тут какие-то люди; глазеют. Глядят глазами. Жутко яркими, хоть жмурься, будто они такие уж прям благочестивые, что просто светятся, божественным или еще каким светом, хотя все дело, наверное, в солнце, которое высоко стоит над ними, обливая их плечи. Может, туристы; очень может быть, что туристы, нездешние, съехались в город ради какого-нибудь сраного делового совещания. А тут их, значит, городской совет начал обхаживать, какой-нибудь там отдел развития, приставил к ним красивую бабенку из рекламщиц, в аккуратненьком, строгом костюмчике, с алыми губками и легкой улыбочкой, она его, ясное дело, видит, но скрывать от гостей ничего не хочет, ее работа – все им показать, эти господа – иностранцы, им все можно показывать, все-все, так с ними, видать, договорились, потому как иначе они нипочем не станут вкладывать в нас деньги, расходовать свои тяжким трудом сколоченные капиталы, сделка есть сделка, друг, иногда приходится идти на многое, если ты бизнесмен, ты ж понимаешь. Ну что же, все по-честному, играй свою роль, улыбнись им, чтобы они могли сказать: вы знаете, с этим вот хмырем жизнь обошлась не так, как с нами, в жизни главное что? – главное, что ты собой представляешь
что ты собой представляешь – это совсем другой коленкор, тут они в курсе, им про это устроители совещания все уже рассказали. Профсоюзники из городского совета знают, о чем я, и потому храбрец Сэмми поднимается на ноги. Потом нагибается, шнурки завязать, нет, кроме шуток, ни фига его и не трясет, вон, смотри, какие на нем брюки хорошие! Правда, в пятнах. Откуда, на хер, взялись эти хорошие брюки, друг, а джинсы его куда подевались? А, блин, ладно, возьми себя в руки. Вставай и иди, вставай и иди; покажи им, вот, он не спотыкается, не заваливается, он в порядке, в полной норме, он со всем справится, храбрец Сэмми, со всем, он уже в пути, ходит себе по разным затраханным местам, прогуливается туда-сюда по проулку, а какой-то малый и тут на него уставился! Чего они все пялятся-то, мать их! Вот и этот, со здоровенной бородатой харей и хитрыми маленькими глазками, в старом дождевике с поясом, потрепанном, как хрен знает что; тоже поглядывает; какой, на хер, поглядывает, пялится, так и вперился в Сэмми, исусе, может, это он шузы-то и спер. Сука! Сэмми оглядывается на него, потом шарит по карманам; ему нужна какая ни на есть мелочишка, сигарета, что-нибудь, ну, хоть что-нибудь, друг, хоть какая херовенькая ерунда вместо всего этого, вместо того, чтобы валандаться тут, пошатываясь, точно насосавшийся убогий ханыга. Опять туристы лезут в глаза. Только это уж не туристы, нет, на сей раз фараоны, ублюдки сраные, их сразу можно учуять, даже если они не в форме. За милю. Сэмми их узнал, это уж будьте покойны, их глаза выдают; если знаешь эти глаза, так сразу их просечешь, такие уж у них зенки, ввек не забудешь. И он даже, учена мать, он уверен, что любого из них углядит сразу, хотя как знать, как знать.
Ладно, он уже принял решение. Прямо здесь и сейчас. Вот тут, вот на этом самом месте он принял решение.
И улыбнулся; в первый раз за многие дни. Точно тебе говорю, впервые за многие дни ему удалось улыбнуться. Ну их в жопу. Всех до единого. Он снова влезает в куртку, обдергивает ее спереди, проверяет, есть ли у него галстук на шее – ясное дело, нету. Охлопывает локти и задницу, стряхивает с них пыль и грязь, смотри-ка, задница почему-то вся мокрая. Плевать. Улыбается еще раз, потом стирает улыбку с лица и, сунув руки в карманы штанов, топает за ними, пока они не останавливаются малость оглядеться; тут он сразу на них и наседает – видно, что им это не нравится, им, в их цивильных тряпках, это не нравится, друг…
Эй, приятель, у тебя фунта не найдется? Так неудобно просить. Сэмми пожимает плечами. Если честно, я прошлой ночью гульнул в одной компании; хрен его знает, что потом было, но только я остался без гроша. Как раз получку дали, вся при мне была, и ее тоже нету, думаю, ограбил меня какой-то гад. Нынче на улице кого только не встретишь. Сами знаете, по улицам нынче лучше не гулять.
Но это ж фараоны, друг, если ты не задрипанный миллионер или там если голос твой им не понравился, они на тебя и глядеть-то не станут.
Хмырь, который поближе к Сэмми, похоже, озадачен его наглостью; косится на своего приятеля, мнением его интересуется. Так что Сэмми спешит продолжить, чтобы не упустить инициативу: не, говорит он, если по-честному, я как зарплату получил, сразу дернул с парой корешей в забегаловку, ну а там уж пошло-поехало; проснулся тут, неподалеку, на окраине, – отсюда до моего дома на двадцати двух автобусах добираться, сами понимаете, кошмар! Это еще рано утром было, мне только и нужно-то немного деньжат, чтобы в город вернуться. До дому надо же как-то добраться, там жена, она же спятит, на хер, распсихуется. А кстати, какой нынче день?
Они тянут время, делают вид, будто Сэмми им до лампочки. Но его не проведешь, он не спускает с них глаз, понемногу переступает, принимая стойку, расслабляет колени, готовится. Не, говорит он, вообще-то я уж полфунта накнокал, но только мне еще один нужен, я потому и спросил, один фунт, на поезд, до дому доехать, я чего сказать-то хочу, от пятидесяти пенсов мне все равно хрен толку, точно говорю, без тридцати шиллингов в поезд же не сунешься.
Отвали.
Не, ну я ж тебе говорю…
Идиот долбаный… Тот, кто сказал это, прикрыл рот рукой, словно желая скрыть, что это он говорит.
Ты в порядке, друг? Зубы не ноют?
Топай отсюда.
Сэмми хмыкает и вытаращивается на фараона с таким видом, будто этот неожиданный отказ хрен знает как его озадачил. Хотя он был к нему готов и дал им понять, что готов, и это все, что он мог сделать, чтобы не расхохотаться, нет, правда, если бы он забился в истерике или еще чего, это ж хрен знает что могло бы получиться. Но опять-таки, чувствует-то он себя хорошо, то есть охеренно хорошо, просто отлично. Уютно так. Нервы, конечно, натянуты, но все равно уютно. Он улыбается. Фараон номер 1 резко дергает головой, все, хватит, задробил, мужик, я те щас врежу, ублюдок, если ты не…
Вали отсюда, ханыга задроченный. Это уже фараон номер 2 и тут же кладет руку на правое плечо Сэмми – Сэмми не против, отличный получился крюк левой, этот козел просто напросился на него – сбоку в челюсть, вот только рука, едрена мать, руку он, похоже, отшиб. Фараон номер 1 вцепляется в него, но нога у Сэмми стоит, как надо, и он врезает фараону по голени, и тот, завопив, падает, а Сэмми уже улепетывает, потому как еще минута и они бы на него насели, господи-исусе, блядские кроссовки, похоже, он и пальцы на ноге переломал, вон как дергает-то, дерг, дерг, дееееерг
а он несется по главной улице, перебегает ее, не оглядываясь, друг, плевать ему на машины и прочую херню, вперед, вперед, гляди под ноги, народу-то, мать его, беги, друг, беги, уебывай; он уже слышит преследователей, налетают сзади, орут будто прямо над ухом, но Сэмми молотит ногами, что твоими кастаньетами
пока не поскальзывается на тротуаре, почти не падает, а они вопят: Держи сукина сына! Держи его, мать-размать. Злые какие! Ну, заварил ты кашу, друг! Сэмми хохочет, хохочет – оно, может, и выглядит так, будто он подвывает, но это хохот, точно хохот – до того он доволен собой, до того, в жопу, доволен! Однако тут ноги его обмякают, точно у клоуна или тряпичной куклы, они словно бы отстают от него, отваливают, он буксует, и что-то вдруг трескается пониже спины, и он падает, распластавшись на тротуаре.
А кругом люди, люди шастают по магазинам, женщины, дети, коляски какие-то с младенцами, глаза у всех вылупились, пялятся на него; ну, вот и фараон, ему вроде и не хочется, да он удержаться не может и как даст ботинком прямо Сэмми в живот, а потом еще раз.
Деваться-то Сэмми некуда; он давится, норовя вдохнуть, ан не получается; пытается отползти, да только руки-ноги не слушаются, и тут фараон отступает, вытирает тылом ладони рот; ага, вот и второй прибежал; они поднимают его на ноги, заволакивают в первый попавшийся подъезд, старый дом рядом с мебельным магазином. Он чувствует, как их трясет, просто трясет, до того они, мать их в лоб, обозлились, их только двое, это неплохо, черт-те что, друг, думает Сэмми, да все равно ведь уделали они его, уделали, вырваться он не может, ни хрена не может, они его поимели, поимели на хер, эти двое, одна рука на загривке, другая вцепилась в левое запястье, а второй фараон заломил ему правую руку хрен знает куда, за спину, больно же, мать вашу так, того и гляди выломает, друг, плечо уже прямо в ребра уперлось; так они еще и пыхтят, отдуваются, вдох-выдох. И сворачивают к черному ходу. Но тут лучше занавес опустить, нет смысла и дальше продолжать эту скорбную повесть.
После того как фараоны с ним разобрались, Сэмми запихали в патрульную машину, защелкнули наручники. Жуткое положение, беспросветное. Дело привычное, привычное дело, так он себе думал, такие слова бухали в его голове, дело привычное. Потом затиснули в сучий куток, но и это, в общем, знакомо.
Когда он очнулся в первый раз, ему показалось, что он, на хер, умер. Не понимал он, куда, в жопу, попал. Огляделся – лежит на полу, воняет тут каким-то дерьмом, будто оно прямо в ноздри набилось, подбородок весь мокрый и вокруг рта тоже мокредь, словно он обсопливился, может, и кровь, хер знает что, друг, а больно-то как.
Вертухай, вон он, пожалуйста, надзирает. Самый что ни на есть вертухай, не ошибешься.
Но ребра, ё-мое, и спина! Исусе-христе, каждый вздох – чистый кошмар.
Он лежит на боку, на шконке. Как это он на нее взобрался? Ты подумай, встал, наверное, смог все-таки! Тут и одеяло имеется, Сэмми вцепился в него, потянул, не поддается, застряло, под ним застряло, блин, под его телом, он закрыл глаза. А когда снова очухался, дышать стало еще труднее, но это уж легкие, вот где болело, не в ребрах. Полежал немного, мелко попыхивая, не шевелясь, пока щека не заныла, потом перекатился на живот. Опять вертухай. Сэмми показалось, будто он видит глаз в темноте. Хотя нет, свет-то дневной. Это он в потолок глядит, краска потрескалась, получились картинки. Не тепло, однако. Нехорошо. Раньше было лучше. Есть вещи, которые не в его власти. Есть которые в его, а есть которые не в его, ну, сам виноват, распустился.
Трещины смахивают на карту. Чужая страна. Реки, леса. Леса и реки. Что бы это за страна такая была? Хорошая страна, счастливая, хорошая такая страна.
Спустя какое-то время он встал, добрел до стены, вернулся, и все гадал по дороге, какой нынче день, потому как с Элен у него получается полное дерьмо, очень может быть, друг, что она тебя и в дверь-то больше не пустит. А манатки выставит в коридор. Доберется он до дому и увидит, как они там валяются, кучей. Старушка Элен, друг, что тут поделаешь.
Исусе-христе, бедная старая спина, она его со свету сживет, особенно поясница. Да и ноги тоже, в бедрах, под коленками, но хуже всего ребра, с ребрами вообще звездец.
Опять вертухай, тот же самый глаз; видать, в две смены горбатится. Сэмми принимается фантазировать: парню его жалко; я и твой брат, мы с ним друганы, пойду принесу тебе пару таблеток от боли, кружку чаю и яичницу на тостах, и еще тарелку овсянки; может, и покурить принесет, мать его, Сэмми так хочется покурить, он лезет в карманы штанов, да только там пусто, чтоб вас всех, даже квитка от букмекера и того нету. А еще у него цепочка на шее была и ее ни хера больше нет, и, главное, он никак не поймет, была на нем цепочка, когда он очухался, или эти ее захапали, или, может, он ее заложил, точно тебе говорю, друг, ни хера не могу вспомнить.
Штаны, он этого до сих пор не замечал, штаны норовят свалиться каждый раз, как он шевелит ногой; добрый старый ремень с пряжкой из штата «Одинокой звезды», и его уперли, гниды позорные, как он теперь в Техас-то поедет? это ж был его пропуск. Кроссовки под нарами, шнурков нет, а без шнурков – какие ж это кроссовки, а, ладно, ноги все едино отваливаются, хрен с ними, с кроссовками. Сэмми вытягивает из штанов подол майки, оглядывает организм, пусть вертухай видит – он порядок знает, щас вот все пересчитает на будущее, на потом, когда станет подавать жалобу насчет компенсации, я к тому, что нельзя ж пиздить людей и надеяться, что они не пожалуются куда следует, особенно если ты государственный служащий, это ж непорядок, граждан-то мордовать.
Ссадин у него – будь здоров. Майку он обратно в штаны заправлять не стал, а повернулся к двери; вертухай еще здесь: Эй, я могу позвонить по телефону? А?
Господи, ну и голос, как у вороны. А, ладно. Сэмми соскребает с нёба слюну, глотает ее и кричит: Эй, как насчет телефонного звонка?
Глаз раза два мигает.
Мне позвонить надо! жене. Объяснить, где я!
Вертухай разверз, наконец, уста. Ты чего-то такое насчет правил узнать хотел? А? Кто-то тут вроде базлал насчет правил?
Я чего, я ничего.
А, ну тогда ладно… У нас тут много всяких бывает, которые правил не знают. Ну, и спрашивают у меня. А ты, выходит, с понятием, ну ладно! Это хорошо.
И глаз исчезает. Умник, сука. Сэмми опять садится на нары. Ссать хочется, сил нет. Полное обезвоживание организма, а ссать все равно хочется. Долбаная жизнь. Он слезает с нар, опускается у параши на колени, расстегивает ширинку; но его же трясет, как хрен знает что, и струя, промазав мимо параши, ударяет в пол, и Сэмми отскакивает, хорошо хоть, конец обратно в ширинку не заскочил, а то обмочил бы себе все ноги, господи, ну и трясет же его, моча все течет, он представляет себе, как фараоны, все как один с блокнотами, просматривают видеозапись: «обоссал в камере пол». Надо бы как-нибудь подтереть все это, я к тому, что если уж сидеть здесь, так не топать же в одних носках по лужам мочи, ради бога, до такого маразма он еще не дошел. Где-то тут был рулон туалетной бумаги. Закончив, Сэмми отодрал от него полную жменю и досуха вытер пол. Залез обратно на нары, и только успел доволочься до подушки, как тут же и отключился. А когда снова очухался, уже стояла темная ночь и так все болело, исусе, вот уж болит так болит, везде. Все тело. И с глазами какая-то хренота, что-то с ними неладно, вроде как все еще день и он читает книгу, а в глазах начинает двоиться или еще чего; мысли Сэмми уносятся к тем временам, когда он читал про разные разности – про сверхъестественное, про всякую там черную магию, про дурацкие религиозные переживания, и буквы начинали вдруг уплотняться, каждая пухла, пока между нею и следующей не оставалось никакого зазора: совпадение, конечно, но он в то время был до того замудохан всякими другими делами, что это его здорово тогда тряхнуло, очень здорово, друг, ну, ты понимаешь о чем я. Ужас, как башка чешется. Постель, скорее всего, засрана вся, и одеяло, старое, долбаное одеяло, ну и несет же от него, исусе, погань! погань! Если бы только удалось башку помыть, вот что ему действительно нужно. Но главное – глаза, главная хлебаная проблема, он вроде как ослеп, и только темнота мешает ему в этом убедиться. Хотя сейчас, похоже, утро. Он водит руками перед лицом. Не, ни хрена не видать. Ни хрена. Задавись оно все конем. Пробует еще раз. Все равно ничего. Однако где-то в мозгах вроде бы сидит странное воспоминание о том, что случай такой ему малость знаком, он просто на него внимания толком не обратил, как если б это был такой дурной сон, что шел бок о бок с его жизнью. Ну, давай еще разок, подними руку к лицу. Обе руки. Подвигай ими. Он чешет щеку. Скулу, прямо под тем местом, где должен быть правый глаз, потом закрывает этот самый глаз, надавливает пальцем на веко, открывает глаз, закрывает, едрена вошь, друг, – ничего, ничего не видать. Вертит головой туда-сюда, хоть какой бы ни на есть проблеск света, смотрит в то место, откуда мог бы пялиться вертухай, вдруг там глаз блеснет – однако нет, ничего. Свесив с нар руку, ощупывает пол, находит что-то, башмак – поднимает его к лицу. Чуять-то он его чует, вонища та еще, а увидеть не может; чьи это сраные башмаки, уж не его, это точно. Ну все, ослеп. Судьба, мать твою. Жуть какая-то. Впрочем, никакого такого ужаса он не испытывает, и это занятно. Даже с психологической точки зрения. На самом деле чувствует он себя вполне прилично, – так, взволнован немного, но паники никакой. Ну вроде как попал в положение, в какое раньше не попадал. Господи, он даже улыбается и головой качает от одной этой мысли, представляя, как станет обо всем рассказывать, как засмеется Элен, – она, ясен пень, разозлится, как черт, но все равно ведь увидит в этом и смешную сторону, со временем, когда они помирятся, а то полаялись хрен знает из-за чего, полное взаимонепонимание, друг, но теперь уже все хорошо, будет хорошо, как только они встретятся.
Он даже и посмеивается про себя. Какого хера с ним такое случилось! Нужна ему эта радость!
Ладно, глупости побоку, давай рассуждать практически – это как-никак новый этап жизни, своего рода развитие. Новая эпоха! Надо повидаться с Элен. Нет, правда надо, друг, если б он только мог увидеть ее, поговорить, рассказать что и как. Новая жизнь начинается, мать ее, вот что все это значит! Он слезает со шконки, встает на ноги, идет, даже почти и не спотыкаясь. Прежней жизни точно конец, кранты полные. Он продвигается ощупью, шаря перед собой ногами, добирается до стены. Опускается на колени, на пол, холодный, но твердый, холодный, но твердый. Упирается в пол ладонями, такое чувство, что он в каком-то совсем другом месте, и музыка начинает звучать в голове, самая настоящая музыка, завораживающая, инструменты выбивают туматуматумати туматуматумати тум-тум, тум-ти-тум, тум-тум, тум-ти-тум, туматуматумати туматуматумати беньг, беньг-беньг-беньг-беньг-беньг, бонг, беньг-беньг, бонг, бонг-бонг. Он уже лег, перекатился на спину, лежит, улыбается, потом лицо его сморщивается, клятая боль. Медленно поворачивается на живот, стараясь унять ее; поясница; слегка поводит бедрами: боль слабеет, уползает в правую ягодицу, потом еще ниже – застряла; сдвигает зад на пару дюймов, и боль тащится дальше, до самых лодыжек, к пальцам ног, медлит между ногтями и плотью и – вон, ушла вон, ему хорошо, нет, правда, охеренно хорошо, он справился со своим организмом, даром, что на том и места живого нет, так вот и выживаешь, так и выживаешь. А мысли в башке все ухают, ухают. Но одна, самая кошмарная, давит все остальные: если это навсегда, ты себя больше не увидишь. Господи, вот жуть-то! И как всякие телки глядят на тебя, не увидишь тоже. Что не менее жутко. Хотя тоже мне потеря, тоже потеря, телки на него не глядят. Да пошли они все. Конечно, им иногда удается влезть тебе в душу, во всяком случае, некоторым; умеют они глянуть так, что это уж и не взгляд, а что-то другое, больше чем взгляд: вроде как когда ты еще сопляком в школе учился, и была там эта старуха, училка, она все принимала всерьез, даже когда ты и прочая мелкая сволочь смеялись, отпускали за ее спиной шуточки, а она вдруг уставится прямо на тебя, и ты понимал, ее не надуешь, она все насквозь видит. В точности. И ведь только ты. Остальные ничего не замечают. Ты глядишь на нее, она глядит на тебя. Больше никто ни на кого. Может, их очередь на следующей неделе. А нынче она за тебя взялась. За тебя. И шутки больше не кажутся смешными. Старая падла, она тебя поимела, дружок. Одним только взглядом. Ей и возиться-то с тобой не пришлось. И ты все про себя понимаешь. Дурак малолетний, дырка от задницы. Смеешься вместе со всеми, потому что боишься не смеяться, боишься быть не таким, как все – маленький задроченный трус, выдрючиваешься над пожилой женщиной, жалко смотреть на тебя, дружок, охеренно жалко.
А, ладно!
Какого хрена, все мы бываем иногда сопляками. Есть ли смысл валить на себя вину за чужие проблемы? Жить-то надо, а будешь вести себя, как полудурок, – долго не протянешь.
Вся штука в том, что Сэмми стало жалко себя, да еще и уделали его на хер, господи-боже, отмудохали в жопу, вот самое верное слово.
Иногда просто диву даешься, просто диву.
Теперь еще и в ухе звенит. Два звука сразу, оба в левом – обычное тонкое нытье крови, но и еще что-то, пониже, воет какая-то сраная сирена. Потом замолкает, остается лишь кровь. Только звучит она все тоньше и тоньше. Исусе, точно какой-то хлебаный визг.
Рука подталкивает его вперед. Он подчиняется. И еще голос, говорит, не напрягайся. Кто бы он ни был, этот ублюдок, сарказма в нем хоть отбавляй. Ну и хер с ним. Сэмми на него наплевать. Потом он слышит их смех. А ему все равно наплевать. Да почему бы и нет. Хочется прямо сказать им: Идите вы в жопу, ублюдки, мне по херу, да, можете смеяться надо мной до сраного Первомая.
Теперь рука толкает его, сжимает плечо и толкает, так что он врезается в стул, а после движется этак бочком, чтобы не натолкнуться на стул еще раз – дурь, в общем-то, если учесть, что он уже зашибся об эту трепаную мебель, – кончается тем, что он наступает какому-то пидору на ногу, и тот взвизгивает; потом снова хохот.
Смотри, он опять в драку лезет! Ну, силен, мать его!
Пьян в стельку, говорит другой, а по-мужски признаться в этом не хочет, вот и твердит, что потерял где-то свое дерьмовое зрение.
Зрение его никому тут не попадалось? Тут один хрен зрение ищет!
И снова вокруг га-га-га. У всех своя тактика, а у этих совсем застарелая. Вот, значит, как. Сэмми в разных переделках бывал, так что он понимает, дела его идут на лад. Как это он понял, что дела идут на лад? А я тебе скажу, как. Я этих ублюдков столько повидал, что обзавелся вторым зрением. Они, похоже, думают, что малость с ним перестарались.
Садись.
Сэмми остается стоять.
Ты в полном порядке, садись.
Мать вашу, Сэмми водит вокруг рукой, нашаривает стул, обходит его и садится, вцепившись обеими руками в сиденье на случай, если какой-нибудь из этих смешливых дрочил попробует двинуть по стулу ногой. Ему суют что-то в руку. Цепочку. Его цепочку, золотую, Элен в прошлом октябре подарила на день рождения. Был в ней какой-то символический смысл – какой, он так и не понял, но был, что-то она такое значила. Он нащупывает застежку, надевает цепочку на шею и опять слышит гогот, как будто они надули его или еще чего, так что он снимает цепочку, теребит ее в пальцах, чтобы увериться, его она или не его. Да ведь как тут скажешь, никак не скажешь. Снова регочут. Ну и хрен с ней, друг, – он сует цепочку в карман, потом ощупывает ширинку – убедиться: наружу ничего не свисает?
Что-то плюхается ему на колени. Техасский ремень и шнурки от ботинок.
И больше ничего не происходит. Они вроде как утратили к нему интерес. Время тянется. Куча людей шастает взад-вперед, какое-то непонятное уханье. Потом голоса, один шикарный такой, английский. Снова уханье, и что-то проносят совсем рядом с головой. Закрываются и открываются двери. Офис, похоже, немаленький, временами Сэмми слышит какой-то стрекот, вроде как из громкоговорителя. И непрестанное пощелкивание клавиатуры; и бормотание, воркотня голосов. Сэмми напрягает слух, пытаясь понять, чего вокруг говорят, но и слух у него явно в отключке, и он вдруг понимает: того и гляди сверзится с гребаного стула, да, друг, похоже, он сейчас грохнется, приходится цепляться за стул, изо всех сил стараясь, чтобы этого не случилось, голова идет кругом, щас в обморок рюхнусь, исус-христос всемогущий затраханный
тестирование, он вспомнил тестирование, давно дело было, в Лондоне, хотел работу получить, ну и пришлось сидеть, заполнять анкету, – его и еще десять тысяч девяносто шесть мужиков, всех загнали в длинный коридор, какие-то хмыри приглядывали за ними; дурацкие, сраные вопросы – общая образованность, дерьмо; дерьмо собачье, друг, вся эта херовая затея; и какая-то жопа в модном костюмчике шастала взад-вперед, какой-то уполномоченный или еще кто присматривал, чтобы ты не смухлевал, так тебя глазами и ел, а тебе лишь одного хотелось – как следует врезать этому пидору. Долбоеб пронырливый! А тут еще идиотские вопросы. Но ты чуял – есть у них к твоим ответам какой-то ключик, они всю твою жизнь расчухают, так и ляжет она перед ними, голенькая, со всеми твоими грязными секретиками, а они их изучат, когда ты домой уйдешь, и отправят все сведения о тебе в центральный банк информации.
Ублюдки. Так бы и вставил им всем
а проку-то? Ладно, ну их на хер. Жизнь, если дать ей волю, становится охеренной ленивицей. Сходил на скок, мотаешь срок. Кто-то тащится мимо. Сэмми поворачивает в его сторону голову: Эй, друг, посмолить не найдется?
Ему суют в руку сигарету. Тоже, психологи. Единственное место, где они ведут себя как люди, – так это их уютные кабинетики, в которых они обделывают собственные делишки, – кормильцы, приспособленцы, у них только и радости что обеденный перерыв. Щелкает зажигалка. Сэмми вставляет сигарету в губы, но только ему все равно приходится придерживать ее за кончик. Зажигалка щелкает снова, пламя вдруг обжигает пальцы, и он отдергивает руку:
Извини, говорит он. Еще щелчок, он ведет пальцами по сигарете, пока не ощущает тепло и не втягивает воздух, втягивает, дожидаясь, когда его сменит табачный дым, и тот ударяет сразу в глаза и в ноздри. Твое здоровье, друг, хочет сказать он, но получается только невнятный лепет.
Пепельница у твоей ноги…
Сэмми все еще что-то лепечет, табак шибает в голову. Он снова затягивается, ну вот, так-то лучше. В гробу он их всех видал; и Сэмми откидывается на спинку стула.
А время идет. Он сидит словно бы в пустоте, и мысли его разбредаются какая куда. Хорошего мало, с какой стороны ни взгляни, потому как жизнь он вел далеко не лучшую. Не худшую, но и не лучшую. Дурак он был, вот что. И ни единой манды, кроме тебя самого, винить за это нельзя. Вечно одно и то же. За что винить фараонов, если ты им первым накостылял; какого хера, друг, нельзя же на них обижаться за то, что они тебе рыло начистили. Сэмми уж двинет так двинет, мужик он крепкий – вон, костяшки на кулаке и сейчас еще ноют и правая нога тоже, так кто ж тебе виноват? знаю, о чем говорю, не ты, что ли, очухался в проулке? Первое дело, он сам там и приземлился, друг, хотя как он, на хер, туда попал, понятия не имею. Но только никто его силком в кабак не тащил, никто не заливал бухлом по самые зенки, все сам, сам так собой распорядился. Нет, он не ханыга какой-нибудь; просто находит на него такой стих, иногда.
Ну, детальным протоколом скачек это не назовешь, да и хрен с ним.
А тут еще старушка Элен.
Вот уж кто разозлится. На этот раз она его точно вытурит. Наверняка так и будет. Он же опять в тюрягу загремел. И окажется он по уши в дерьме, друг, знаю, о чем говорю, хватило тебе ума накинуться на фараонов, ну и получи, вот оно, последний рубеж задроченного Кастера.[1]
Старушка Элен, друг, это тебе не хрен на палочке.
Человеку приходится сражаться, друг, никуда не денешься; люди рождаются, растут, а потом им приходят кранты. Вот оно, горе-то – из люльки и прямиком на долбаный погребальный костер.
Захватывающие факты, «байки-из-крытки». Например, вот эта, про воинов-самураев прежних времен – хозяина их ухандохал враг – оба были аристократы, Сисько не то Сенько, в общем, херовое какое-то имя – и самураи задумали отомстить плохим дядям. Ну и вот, их начальник, сын начальника и вся эта шайка-лейка разбрелись на целый год кто куда и стали жить, как последние прохиндеи, – пить, баб валять и все такое, – пока тот малый и его нехорошая команда не успокоилась, не прониклась ложным чувством безопасности, решив, что хорошие самураи вконец с глузды съехали и тревожиться из-за них ни хера не нужно. Ну, и когда все утихло и вышло положенное время, самураи сошлись снова. И конечно, отомстили, целый год спустя. Вставили мудакам по первое число. Прямо и откровенно. А потом, когда они им вставили, то занялись самими собой и себе вставили тоже – все как один совершили харакири. Потому как, раз хозяин помер, этот старый хрен Сисько, а хорошие самураи за него уже отомстили, делать им больше ничего не осталось, вышли им кранты – долг свой они исполнили, ну и, значит, копец игре, капут, жизни конец, истории тоже, так что все они выпустили себе потроха – воткнули ножики в животы и давай вырезать оттуда кусочки.
Правдивая, кстати, история. Если верить корешу, который пересказал ее Сэмми. Между прочим, он как-то раз сунулся с ней к одной бабе, так она хрен знает как обозлилась, решила, будто он ей мозги засирает, хочет ее запутать, пытается таким сложным способом избавиться от нее, хочет, чтобы она поверила, будто он точь-в-точь как те самураи, исусе, какой только дребаный бред не приходит им в голову, бабам. Кстати, это была не Элен, другая телка, но могла быть и Элен, очень даже могла, точно тебе говорю. Вообще-то странно – рассказываешь человеку историю, пытаешься втолковать ему что-то важное, и ни фига, ни фига, полный провал. Все не только не получается, как ты хотел, нет, в конце концов, выходит как раз наоборот, мать его, ну точно, в жопу, наоборот, друг. Это не просто непонимание, а полный
как бы там ни было. И ведь телка та, может, была и права, потому как Сэмми, рассказывая, малость прибавил от себя, из прочитанной им книжки про одного армейского офицера и его жену; они то же самое провернули, выпустили себе кишки, перепутав долг с любовью. Так что она была, возможно, права, возможно, он и вправду хотел от нее избавиться. Ну и что? Что тут, едрена мать, такого? Мужчины и женщины. Ну, перепихнешься с ней малость, исус всемогущий, кому от этого вред? Просто некоторые места себе не находят, пока не обложат тебя сверху донизу. Особенно бабы или эти, представители высшего класса. Ладно бы ты еще был, на хер, с ними знаком, тогда пускай себе, а то ведь совсем посторонние попадаются долбаки, с которыми ты просто пытаешься перекинуться словечком-другим в пабе или где, точно говорю, ладно б они приходились тебе женой или там подружкой, ну хоть трепаной бабушкой, но эти-то, другие мудаки, они же думают, друг, будто что-то понимают, думают, что понимают, а ни хера ни в чем не смыслят.
Ну их всех на хер.
Спина вот болит. Особенно хребет; у задницы и под нижними ребрами. Надо бы встать. Он встает. Делает полшага влево, прикладывает ладони к больному месту, разминает пальцами. Правая нога натыкается на что-то металлическое, твердое.
Сядь. Сэмюэлс, сядь.
Мне надо ноги размять.
Сядь на жопу и сиди.
Мне че, и постоять теперь нельзя?
Тридцать секунд.
Спасибо.
Двадцать уже прошло.
Хватит и двадцати, говорит Сэмми, находит ощупью стул и садится. Хрен с ними. Он трет ладонью копчик, потом немного сдвигается вперед, сжав колени ладонями. О многом еще надо бы поразмыслить. Если как следует подумать. Вот этим ему и следует заняться: подумать. Он был просто
как знать, как знать; куда только он мысленно не забредал.
Так уж живем, ничего не поделаешь, как будто все протянется вечно. А потом просыпаешься и видишь – тебе кранты, все кончено, друг, вот так. Ладно, будь по-вашему, придется с этим смириться, а че еще делать-то, мать-перемать, все устроено, все решено, только одно и можно сказать, это случилось, прошедшее время. Теперь вот с тобой.
Сэмми снова охота курить. Надо было зачинарить цигарку, которую дал тот хмырь, а он ее всю высосал. Даже не помнит как. Рядом со стулом стояла пепельница. Он нагибается, чтобы выяснить, не осталось ли в ней чего покурить, но не может ее найти – пепельницу, о которой я говорю, – видать, какой-то мудак двинул по ней ногой.
Где-то поблизости подымается гвалт, но, похоже, Сэмми отгораживает от горлопанов перегородка. Он этого не сознавал, потому что у него в ушах шумело. Да еще радио, поп-музыка, нудит и нудит, умба-умба-умба, ди-ди-умба-умба-умба, ди-ди-ум-ба-умба-умба, такое впору слушать мальчишке Сэмми – в самый раз для пятнадцатилетних сопляков, а тут все-таки фараоны, люди взрослые. Интересно, какой это участок. В воронке ему по сторонам смотреть было некогда. Скорее всего, Харди-стрит. Какая разница. Все равно, если спросишь, никто ничего вразумительного не ответит. С ними же невозможно завязать отношения; только и слышишь от них что издевки да шуточки. И так не только в тюряге, я к тому, что Сэмми, было дело, работал на фабрике – десять минут, – там, в Англии, так и на ней то же самое. Это ж надо десять сроков отмотать, чтобы понять, над чем они все регочут.
Хрен с ним, друг, с этим покончено, давным-давно. Вот чего никак не усвоит Элен.
Устал он, как черт; выжатый лимон, понимаешь? Да ведь и есть с чего, отпиздили его будь здоров. Плюс на человека по временам находит желание вроде как опустить занавес. Улезть с головой под одеяло. Вот и с Сэмми сейчас то же самое. Конечно, не в первый раз его так уделали и, можешь быть охеренно уверен, – не в последний.
Шум. К нему придвигают стул. Кто-то говорит: Да, Сэмюэлс, везучий ты мужик, мы собираемся тебя отпустить, а при твоем досье это что-то.
С кем я разговариваю?
Ты не наглей, а то поимеешь настоящие неприятности. С твоим-то прошлым тебя засадят за милую душу и ключ от камеры выбросят. Мы и не думали, что к нам забрела такая персона.
Ой, кончай ты херню пороть, вы меня сцапали, а теперь я ослеп на хер.
Рука, протянутая ниоткуда, сжимает его левое запястье, следом шепот: Слушай, мужик, ты можешь идти, только это мы тебе и говорим, так что поблагодари свою счастливую звезду и угребывай отсюда, потому что, видишь ли, будь моя воля…
Пожатие усиливается. Запястья у Сэмми сильные, он сгибает левое, чтобы легче было сносить нажим, вся рука дрожит от напряга. И ребра начинают ныть. Здоровенный попался мудак. Наконец нажим слабеет, рука исчезает. Сэмми дышит часто-часто, держись, просто держись, вот только ребра, друг, но все равно, держись. Не показывай им слабины, друг, ни хера не показывай.
Снова шепот: Ты понял, что тебе говорят, козел дерганый? Вали тихо-мирно к дверям и не возвращайся, уноси к бубенной матери ноги, долбак, и чтоб мы тебя тут не видели, понял?
Ты неисправим, говорит другой, и на сей раз зашел слишком далеко. Еще легко отделался, так что поблагодари свою счастливую звезду.
Делай, что тебе говорят, бурчит какой-то дрочила.
Я хочу поговорить с кем-нибудь непредвзятым, с третьей стороной. И ни фига я не наглею.
…
Кто-то хмыкает.
А еще один говорит: Надо отдать парню должное, свои права он знает и правила тоже.
Да? Ну ты, блевотина, тебе что говорят?
Рука стискивает плечо Сэмми. Я хочу поговорить с третьей стороной, настаивает он, и с доктором, сообщить ему насчет дисфункции, у меня утрата зрения на обоих глазах, мне нужен лекарь.
Какой на хер лекарь, мудила, врач-мудач ему понадобился, здесь тебе не больница.
Ладно, говорит Сэмми, все это очень хорошо, я наглеть не собираюсь. Но мне нужно с кем-то поговорить, вы же не можете таким меня выбросить. У меня нет ни гребаного гроша. Найдите мне лекаря, пускай разберется, что со мной стало и каким я был до вас, до ваших хлебаных ротвейлеров в штатском. У меня все охеренно болит, мужик, точно тебе говорю, мне, мать вашу, рентген нужен, у меня ребра, на хер, поломаны, друг, давай, пошевеливайся. Тащи сюда глазника!
Вздох, шарканье ног, хлопает дверь.
…
Эй, ну бросьте, нельзя же мудохать человека до тех пор, пока он не ослепнет, это все-таки свободная страна. Эй! Але! Але! Как насчет курева? Есть у кого-нибудь сигаретка? Эй? Але! А, ну и хрен с вами.
На заднем плане кто-то хихикает.
Отвали, тебе говорю.
Отвалили. Час спустя, а может, и позже, двое вернулись и опять отобрали у него ремень и шнурки. А про золотую цепочку забыли. Вот, сказал он, вытаскивая ее из кармана. Иногда лучше играть по правилам. Сэмми пока еще хочется проснуться поутру. Он втянул носом воздух и сел, настороженный, прислушиваясь неизвестно к чему. Через полчаса они отвели его в камеру. Все путем. Вот только, едва войдя в нее, он долбанулся ногой о край шконки. Прилег, но матрас оказался тощий, как хер знает что, провисает и все, толку от него никакого, даже хуже, чем прежний. Уверившись, что они ушли, Сэмми взял подушку и вытянулся на полу. Настоящее облегчение, разве что воняет, как в сортире.
Ему неизвестно даже, какой нынче день. Исусе. Язык у тебя, как колокол, только и знает, что молотить. Если продержат еще одну ночь
господи-боже. Теперь она уж точно разволновалась. Тянули тебя за язык. Почему тебе вечно надо базлать! Тупица. Просто тупица. Теперь разволновалась. Чего бы там у них ни было, чего ни случилось, это все прошедшее время, теперь она беспокоится. Потому как пойти ему некуда, и она это знает. Ты разговаривал с ней – это когда же было – в прошлую пятницу, друг, вот когда, четыре, а может, пять дней назад, включая субботу. Хлебаная суббота. Вот тут полный провал. Пусто. Исусе-христе, просто жуть. Так что она понимает, случилось что-то плохое. Да, цыпочка, случилось! твой мужик, ухажер твой задержан за нападение на полицию, пьянство и бесчинство. И в настоящий момент валяется в клепаной крытке, слепой, как задолбанная летучая мышь.
Если они ей так скажут, она сразу прискачет сюда. Возьмет его за руку и
хера она тебе возьмет, Элен, друг, этим все сказано.
да она просто будет рвать и метать. Или вообще ничего не скажет. Это она умеет, молчать. Когда Элен злится, голос у нее становится тонкий, и это хрен знает как ее раздражает. Элен почему-то не любит высоких голосов, даже женских. Она не намного худее его, но предпочла бы еще похудеть, вечно твердит, что она слишком толстая, и еще у нее привычка сутулиться при ходьбе. Сэмми всегда говорил ей – выпрямись. А она злилась, иногда очень мило. Если он был на мели и говорил ей об этом, она отводила его в паб, выпить. Не всегда, конечно. Но случалось, и отводила. Раз или два. А после мрачнела вдвое против обычного. Замолкала, просто сидела, сердитая. Он даже и не замечал, что она сердится, не сразу. Разговаривал с ней, как обычно, и только потом до него доходило – она чем-то недовольна. Послушай, женщина, не вали все на меня, обычно говорил он, я ни хера в этом не виноват. А иногда пел ей ту штуку Кристофферсона:[2]
Ох и заводилась же она! Но хоть разговаривать начинала. Лучше мало, чем ничего, друг, чем молчание, знаю, что говорю; молчания Сэмми не переносит, особенно ее. Любой другой мудак пускай молчит на здоровье, но только не она. Нет, ненадежный он человек. Больше года прошло, как они стали встречаться, а прожил он у нее всего-то месяцев шесть-восемь. Остальное время она думала. Элен не из тех баб, которые хватаются за кого ни попадя. Опыт, мать его, все-таки трое сопляков на руках. Господи, как она распсихуется! Старушка Элен… Ни в чем ей удачи нет, вечно какой-нибудь алкаш достается, сама так говорила. Ну почему я всегда связываюсь с людьми вроде тебя? Я знала, что это случится! Вот как она скажет. Я тебе говорила! Как будто какая-нибудь манда могла сказать тебе, что ты в конце концов ослепнешь. Хотя она-то и сказала, более или менее, как раз утром в пятницу и сказала, что добром это не кончится, вот прямо так и сказала. Ладно, хрен с ним, друг.
Депрессуха ее иногда давила жуткая, по нескольку дней. Ты тогда чувствовал, что за ней нужно присматривать. Сэмми нравилось лежать, прижавшись щекой к ее титькам, зарывшись в них, сосок упирался ему в глаз, мяконький, рука между ее ног, ладонь прикрывает дырку, ограждает от опасности, надо же защитить и ее, и все это дело, особенно если она только что кончила.
Сэмми, лежа на полу, улыбается. Но улыбка у него получается не радостная. Радости он не ощущает. А ощущает он охеренную подавленность, вот что он ощущает. Чего ж удивляться, что она распсихуется. Задержан фараонами. Нарезался и был задержан фараонами. Ну так сама и виновата. Не надо было ему угрожать. Вот чего делать не следует никогда – угрожать мудаку, если только не собираешься выполнить угрозу. Конечно, может, она и собиралась ее выполнить. Откуда ему, на хрен, знать. Да он так и не узнал бы, пока не пришел бы домой. А, в жопу все, если она собиралась с ним порвать, тогда, честно, друг, ей только и нужно было сказать ему, сказать прямо. Разве он стал бы жить там, где его не хотят. Ты шутишь! Сэмми чемоданы укладывать не впервой, привычка имеется. Ублюдки. Теперь он еще и ослеп, ослеп, на хер. Ты только представь, ослеп. Исусе. Во поворотик был бы в какой-нибудь книжке.
Он сдвинул голову и почувствовал, что подушка под ним мокрая. А он вовсе и не плакал, вода, что ли, натекла. Или гной. Очень может быть, что чертов гной. Очень может быть, это гребаный желтый гребаный слизистый гной или еще чего, протухшее гребаное жидкое дерьмо сочится из его тела, из глаз. Может, это та штука, на которой держится зрение, а теперь зрения у него нет, вот она и превратилась в гной и вытекает, освобождает организм от лишней обузы. А то и кровь. Может, из носа течет. Или из ушей. В его клепаных ушах так что-то и ревет, может, это ушная сера растворяется, на хер! Исусе-христе, сколько еще всего надо обдумать.
Он встал, потыкал вокруг ступнями. По-прежнему слеп; а он и забыл, что это такое.
Выставив перед собой руки, он ощупью добрался до дальней от двери стены и прислонился к ней. Надо подумать. Надо постараться, чтобы ему не пришили то дельце. Фараонов он не очень-то и интересовал – пока они не сунули нос в его досье. Да и тогда – заинтересовал, но не шибко. Они небось думают, что он обратился в пропившегося ханыгу, и все, конец истории. И хорошо, его это устраивает. Чем дольше будут так думать, тем дольше будут так думать.
Опереться ему не на что. Вот в чем проблема. Вечно какая-нибудь дрянь вылезает наружу, такой у нее обычай, вылезает, и ты оказываешься по уши в дерьме, когда меньше всего этого ждешь.
Надо выкручиваться. Сзаду наперед и изнутри наружу.
Значит, так, решил он сшибить малость деньжат. Правильно, хорошо. И Нога с ним поперся. Нога-то ему был не нужен, но поперся, ничего не поделаешь; значит, ладно, три кожаных куртки. Они их сбыли за час, а башли поделили. И Сэмми пошел домой, просто чтобы там показаться. Чтобы Элен знала, он в порядке. Ну, вроде его все не было, не было и вот пришел. Тут они и поцапались. Хотя нет, не совсем. Слишком уж честным тоже всегда быть не стоит, точно тебе говорю, это дело не окупается, особенно с бабами. Он собирался сказать ей, чтоб не вязалась к нему.
Нет, ну правда, он просто хотел, чтобы Элен убедилась – он в порядке. Ну и пошел домой, показаться. Только когда пришел, она уже ушла. И в кухне был охеренный бардак, как будто она как встала да оделась, так тут же и отвалила. Ну, в общем, правильно, работает она допоздна, иногда и домой-то является после двух утра. Какая тут, на хер, работа по дому. Я к тому, что он-то и вовсе нигде не работает, так что ему без разницы, хозяйством Сэмми занимается с удовольствием. Плюс квартира же ее, и он как бы никаких законных прав появляться там не имеет, разве что ее повидать, так что приходится ему выполнять свою долю работы и все такое. Во всяком случае, он так считает. Так что, когда он в пятницу пришел около полудня домой, то просто включил музыку. Погромче, как он любит. И занялся уборкой. А как только закончил, деньги начали прожигать дырку в его кармане, он просто на месте не мог усидеть; пытался книжку почитать, телик воткнул, но нет, никак ему не удавалось сосредоточиться. Плюс проголодался. А поскольку он все там прибрал, снова разводить гребаную грязь не хотелось, ну он и послал всякую стряпню на хер. Просто вышел из дому, помышляя о пироге да пиве. Перешел реку, добрался до большой улицы, свернул на Кросс и по ней до Аргайл-стрит, а там встретил Ногу, и они отправились спрыснуть это дельце
они научили меня кури-ить и пить ви-иски
Ну и пошло-поехало.
Это все для него, не для фараонов. Это ему она нужна, история то есть. Как только она сложится да уляжется в его долбаном котелке, все будет хорошо, все будет в порядке; они ее оттуда и динамитной шашкой ни хера не вышибут, друг. Прочую мутотень можно и пропустить, не важно. Знаю, что говорю, когда он все это по полочкам разложит, остальное можно будет пропустить.
Ладно, хорошо.
А потом он проснулся в проулке, а на нем эти дурацкие кроссовки. Позавчера. Или вчера. В воскресенье.
Откуда он знает, что в воскресенье? А вот просто знает, на хер, друг, и все, вот откуда. Про шестое чувство слыхал? Вот о нем я тебе и толкую.
Самое сложное – суббота. Тут пусто. Хлебнуть пивка он вышел в пятницу, в полдень. А проснулся в воскресенье утром. Вот где проблема. Полный провал. На весь день. Плюс, еше Чарли встретил. Было это в долбаном…
Чарли! Черт, где же он Чарли-то встретил? Исусе-христе, друг, куда ни ткнись, обязательно вляпаешься! А, ладно, все путем. Ничего тут такого нет, ничего, с чем он не управился бы. История у него, друг, железная, на хер, водонепроницаемая. Ну, поболтали они о том, о сем. В забегаловке возле Кэндлриггс. Где-то там. Хрен с ней, не важно. Чарли сидел на имбирном пиве да лимонном соке, потому что бросил пить. Ей-богу. Старина Чарли бросил пить.
Так о чем они, на хер, болтали-то? Да обо всем, обо всем. Чарли все еще в деле. Просто затаился малость. Во всяком случае, так он сказал, хотя верить мудаку можно не всегда; он из тех, кто просидит с тобой час, а потом возьмет и пошлет тебя на хер.
Хотя кое-что в нем определенно изменилось. В кои-то веки с ним не боязно было выпивать. Эта его привычка лезть в чужие – незнакомых людей! – разговоры, знаю, о чем говорю; если те говорили чего-нибудь, что ему не нравилось, он лез к ним и объявлял, что все это куча дерьма. А с кем он связывался, ему было плевать, хоть с распоследним громилой. Ты мог сидеть с ним в пабе, битком набитом пуританами, а то и просто козлами, не важно, он никогда опасности не чуял; ты-то чуял, ты кроме нее и не видел ничего. И вот отчаюга Чарли лез к ним и начинал их доставать, всех сразу. Чем ты это докажешь, ибимать? Так он к ним обращался. Ты тут кое-чего сказал, а чем докажешь, ибимать? Да пусть я буду распродолбанным чуркой, если ты, на хер, говоришь что-то, мужик, так давай доказательства, понял!
Эй, Чарли, нам пора, пошли, Чарли! кончай ты эту херню… успокойся, друг, пойдем…
Ни хрена не слышит. А ты приглядываешься к ним, к их лицам, к глазам, вытаращенным на него, глаза-то мертвые, никаких им споров не нужно, просто смотрят на него, смотрят, смотрят, мать их. И ты думаешь, а, ладно, друг, на хер, щас такое начнется, такое… А Чарли горланит, потому что он так всегда и базарил: громко! во всю свою гребаную глотку. Может, это и было его оружием. Орал так, чтобы слышно было и прочим мудилам, всем прочим мудилам в пабе, дескать, у нас тут свой разговор, но говорим в открытую, так что если кто хочет вмешаться, пусть делает это здесь, у всех на виду:
Хочешь поговорить за политику? За политику хочешь поговорить? Ну давай, ибимать, поговорим за политику, и без этого, ибимать, говна, тут тебе не начальная школа, мужик, без хлебаного говна, давай, поговорим, ибимать, за политику, настоящую политику, ты же взрослый, ибимать, так? Уже созрел, небось, взрослый, ибимать, человек.
Исусе-христе, друг. А потом он делал вид, будто перенапрягся. Начинал давиться словами – так он вроде разъерепенился, так расстроился, так, туды его мать, осерчал. И просто-напросто выскакивал, к бубенной матери, из паба, бросался к двери, и нету его.
А ты оставался в пабе, как долбаный лох. Оставался. Как долбаный лох, друг, точно тебе говорю.
Главное дело было помалкивать. Вроде ты ничего, ты спокоен. И угребывать, друг, угребывать, даже выпивки не тронув, твоей собственной выпивки, спешу, знаете ли, охеренно спешу, где тут у вас дверь, – потому как когти надо рвать, на хер, друг, рвать когти, пока тебя тут не замочили. И ни на одного мудака не гляди. Гляди в пол. И вылетай в распродолбанную дверь.
С ума сойти. Но это все было до того, как Чарли бросил пить: я, говорит, переменился, Сэмми, притих.
В святоши, что ли, подался?
Чарли только рассмеялся. А поговорили мы ничего себе. Мать с отцом у него, оказывается, еще живы, приятно было это услышать. Это ж все из твоего детства, а ты думаешь, ничего уже не осталось, все сгинуло. Последний раз мы встречались три года назад, на карнавале в День подарков. Сэмми был со своим мальчишкой, а Чарли со своими двумя и с девчуркой. Сэмми как раз вернулся из Англии и не знал, чем заняться, дома немного пожить или что. Договорились сойтись через пару часов, пропустить по кружке. Но Чарли не объявился. Вот так. Да какая, на хер, разница. Сэмми ему об этом и напоминать-то не собирался. Сэмми всегда чересчур полагался на людей. Таким и остался. Ну и ладно.
В жопу.
Вот и оказался в канаве.
В жопу. Сэмми ни о чем не жалеет. Ты лучше постарайся во всем разобраться. Когда сбиваешься с пути, надо собраться с силами и сделать еще попытку; и надеяться, что на этот раз все получится. А не получается, так и хрен с ним. Ты-то что можешь поделать. Всегда одна и та же долбаная процедура. Правда, от нее может крышу снести, вот в чем проблема, мать ее. Плюс физическая сторона дела, на нее тоже глаза закрывать не следует, – чтобы измудохать собственный организм, тебе никакие сраные фараоны не нужны, с этим дельцем ты сам отлично справляешься.
Сэмми заползает на нары, сбрасывает обувку и уплывает в привычный полумир; не то чтобы в самоуничижение и прочее дерьмо, но вроде того. Это точно самое худшее, и все же, друг, не боись; хотя так погано тебе никогда еще не было, это уж точно, мать-перемать.
Дерьма собачьего. Сколько раз он говорил себе это, вот эти самые слова, сколько уже раз! Херня. Явственная херня, так что заткни хлебало, просто заткни хлебало, и все.
Он лежит на боку, глядя хрен знает на что, какие-то яркие нити выстреливают отовсюду. Выглядят-то они тускловато, но, наверное, яркие, иначе бы он их не увидел. Долбаная шконка, друг, просто яма какая-то сраная, лежишь, на хер, на голых пружинах, и что его того и гляди доконает, так это плечо, мать его, исусе-христе. Он поворачивается на живот. И видит точки. Вроде искорок. А все потому, что так называемая подушка – просто листок херовой папиросной бумаги. Так что кислород толком в мозг и не попадает. На Сэмми накатывает жуть, он вроде как левитировать начинает, и его мало-помалу сносит к потолку. Может, уже и снесло! Он вцепляется в края шконки и прямо-таки видит, как всплывает вверх и к окну, ноги впереди, организм за ними, пытается зацепиться плечами, держится локтями за прутья, все без толку, его всасывает в окно, и он выскальзывает наружу, плывет, минуя телеграфные провода, над крышами домов, все небо в мерцающих звездах, а внизу город, вон они, многоквартирные дома на Ред-роуд. Читал он как-то рассказ про одного малого, который путешествовал в уме, Джон Ячменное Зерно его звали или еще как. Кто его, на хер, написал-то? Джек Лондон?[3] Сэмми плотно сжимает веки. Плохо ему, до того, на хер, плохо, а тут еще в голову лезет всякая чушь, друг, дерьмовая чушь, жуть, хлебаная жуть, и только, если Элен его сейчас бросит, ему и вправду кранты, конец игры, останется только сунуть башку в газовую духовку. Все, что он может сделать
все, что он может сделать
Да ничего он сделать не может, толком ничего. Во всяком случае, сейчас. Ничего ему сейчас не по силам. Скоро будет по силам, а пока ни хера. Ну и хрен с ней, пусть живет своей жизнью. Сэмми поворачивается на бок, ох как заснуть хочется. Да в том-то и горе со сном, что он тебе не дается именно тогда, на хер
не можешь ты ему приказывать, приходит, когда захочет. Сон. Поразительное, казена мать, дело. Вот ты лежишь весь закутанный в собственное тело, укрытый им как хрен знает что. Лежишь, как будто ничего больше на свете не существует. Да ты ни хера и не хочешь, чтобы что-нибудь еще существовало. Ты хочешь удрать от него, потому как, если не удерешь, тебе не справиться; единственный способ справиться – это исчезать часов на шесть-семь каждые двадцать четыре. Только так ты и выживешь, других способов ни хрена не существует. Тот малый, с которым он когда-то корешился, просто заполз в угол, чтобы там умереть. Сэмми познакомился с ним, когда тот болтался вблизи Паддингтона. Околачивался вокруг одной забегаловки, облюбованной Сэмми, клянчил деньжата у проходивших мимо дрочил. Как-то раз Сэмми помогал переехать бабе, жившей в одном с ним доме. Ну, ковыляет он по улице с кучей ее долбаных чемоданов и пластиковых пакетов, друг, у нее этого дерьма было не меньше миллиона! И тот парень, про которого я рассказываю, подошел и подсобил Сэмми. Ну, одно за другое, и кончилось тем, что Сэмми поставил ему выпивку – и не один раз, несколько; так, время от времени, когда бабки заводились. А штука в том, что парень не любил пить в пабах. Ну просто не мог, и все. Ты и сам таких знаешь. Даже если у них в руках целый фунт, они все равно берут выпивку на вынос. Вот и он был такой, настоящий любитель свежего воздуха, мать его. Ну и как-то ночью они с Сэмми скинулись на пару бутылок бухла, свернули, значит, около конторы Управления общественных работ, с Эджвер-роуд, зашли в сквер. Сели на скамейку. А как малость стемнело, парень этот взял и отвалил, пошел поискать местечко поукромнее, где можно вытянуться во весь рост. Сэмми-то думал, он поссать пошел. А после, когда уже уходить собрался, дай, думает, прогуляюсь по скверу, может, где его и найду, – и нашел, между кустами и оградой, он туда вроде как затиснулся.
Ну и рожа у него была, жуть, на хер. Исусе, такого не забудешь. Ты не думай, Сэмми и до того видел, как ребята отдавали концы, еще до того, как к ним лекаря подоспеют, так и у них рожи были примерно такие же. Говорят, когда умираешь, у тебя на душе мирно становится, то да се, ни хера, друг, ты смотришь смерти в лицо, а оно охеренно жуткое, друг, можешь быть уверен, знаю, что говорю. Гребаная тюряга. То же и с мамой было, когда она померла, – Сэмми в то время сидел, на похороны не отпустили. Так что никакого безмятежного покоя и прочего он не видел. Ему сестра про все написала. Долбаное надувательство! И ведь каждый мудак клюет на эту удочку, вот чего Сэмми никогда не мог понять. Это его-то ма! Безмятежный покой! Не долби мне мозги, друг, она бы лягалась, на хер, била ногами и орала во все горло. Да и выглядела наверняка точно так же. Каждый раз, как видишь этот их безмятежный покой, это попросту значит, что человек побывал в лапах у докторишек или еще каких коновалов. Хоть тот же черный коротышка, исусе, в двух камерах от Сэмми при последней отсидке. Умер будто бы от сердечного приступа; в двадцать семь-то лет; суки просто придушили его, уселись на парня всем скопом да еще и подпрыгивали, сердечный приступ, как же, просто суки, друг, точно тебе говорю, а он-то, со своими задроченными наушничками, только и знал, что слушать сраную музыку, ты иногда ее тоже слышал, она тебя гипнотизировала, на хер, туматуматумти, туматуматумти. Лежал себе, мирно улыбаясь. Долбаные лживые ублюдки. Знаю, что говорю. Какого хрена? Кругом вранье, друг, вот что тебя больше всего достает.
Не о том думаешь. Снаружи пожалуйста, а здесь не стоит. Снаружи можешь думать о них сколько хочешь, а тут, у них в лапах, нечего. Потому что от этих мыслей можно свихнуться, на хер. Ты же их видел, видел, как они тут разгуливают. Твое дело какое: твое дело зарядку делать, – операция выживание, друг, динамические нагрузки, вот ими и занимайся, заботься об организме, об организме заботься, накачивай долбаные мышцы, не отчаивайся, а проси о большем, проси о большем, сражайся, жми дальше, вот твое дело; Сэмми и сам не отказался бы от наушничков, от музона
Старина Дилан. Сэмми его уже сколько лет не слушал. Откуда они приходят, а? Откуда приходят. Твои сраные мозги живут собственной жизнью, друг, ни хрена ты не можешь управлять ими, ну ни хрена. И спасибо исусу за это.
Рука сжимает ему плечо. Хриплый голос: Ну ты, пошли. Вот так они тебя и достают. Его вывели из камеры, провели по коридору все в ту же комнату. Сунули его манатки, а после занялись своими делами, как будто его тут и нету, обычная процедура, дерьмо господне. Он попробовал вставить ремень в штаны, но те все сваливались. Да он его и в долбаные петли ни хрена вставить не смог. Мне нужно сесть, чтобы зашнуровать башмаки, сказал он.
Никто не ответил, и он ощупью нашел стул. Ладно, говорит, я только шнурки вставлю.
Кто-то рядом произносит: это было в прошлую среду. Хорошая новость. Непонятно только, на этой неделе или на прошлой, а при том, что у Сэмми творится с башкой, могло быть и на той, и на этой. Да и устал он, друг, охеренно, позарез нужно полежать, отдохнуть, только этого и хочется. Хоть на полу. Если б он только мог просто лечь, на хер. В ушах звенит, все тело болит и ноет. Они его щас выставят, а он к этому не готов. Времени бы малость побольше, друг, вот что ему нужно, просто очухаться. Еще и хлебаные пальцы на ногах, совсем их зажало; не обувка, а жуть какая-то, такое чувство, будто в этих розовых кроссовках полно каких-то комков вроде улиточьих домиков или еще чего; он пошевелил ступнями, жмут, на хер, похоже, они размера на три меньше, чем нужно.
И всегда ведь они, ублюдки, всегда так, как удобнее им, всегда, до самой последней секунды, выбор всегда за ними, а у тебя никакого, в фалду, выбора нет. Какой бы херней ты в жизни ни занимался, это всегда они, мать их, они они они, точно жадные сосунки, тычутся в поисках титьки. Ну что, говорит один из них, пошли.
Опять рука на плече, ну мило, чтоб я сдох, ну мило, точно тебе говорю, ублюдки сраные, Сэмми это охеренно по душе; убери свою долбаную руку с моего долбаного плеча, ублюдок, и не трогай меня ни хера.
Пошли-пошли.
Ну пошли так пошли…
Кто-то придерживает его за локоть, остальные толкутся вокруг. Ладно, говорит Сэмми. Ведут к двери. Долдонят чего-то без умолку. Он закрывает глаза. Нормально. Все нормально. Куда-то ведут, ноги его покамест держат, его, значит, ноги, все путем, топ-топ-топ делают ноги, все путем, куда-то ведут, а куда топ-топ, ни хрена не понятно. Не хера меня волочить, говорит он, что вы меня волочете, не хера меня волочить, волокут, на хер, господи-исусе, я ж вам толкую, я же не вижу ничего.
Отвяжись ты от нас, бурчит один.
Толкаете меня куда-то, а куда толкаете-то!
Этот хмырь желает остаться здесь!
Все!
Сэмми пропихивают в открытую дверь, и никто его больше никуда не толкает. Дверь захлопывается. Тут были ступеньки. Он шарит ногой справа от себя, слева, исусе-христе, друг, вот здорово, справа и слева, ладно, делай, блин, что делаешь, ладно; бочком вниз по ступеням, теперь направо, ладони похлопывают по стене, шаг, еще шаг, вроде ладушек, когда ты был малышом, шлеп-шлеп по чьим-нибудь ладоням и все быстрей и быстрей. Очень-то быстро у Сэмми не получалось, если честно, получалось только медленно, медленно-медленно, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп; ладно, раз уж пошел, так нечего на месте стоять, и отлично, потому как больше тебе ничего и не требуется, даже старина лягушонок или кто там, на что уж копуша, и то добрался, куда ему нужно было, добрался, друг, да еще и этого торопыгу, зайчика, обскакал, все путем, ты, главное, не волнуйся и будь доволен
за угол, а там вдруг такой ветрюга, исусе-христе, как будто его посадили весной, а выпустили в середине зимы. Когда его сцапали-то, такая стояла теплынь! Уж это он точно помнит, тепло было, тепло. Может, они его и не брали! Может, какого другого дрочилу! Может, это был вовсе не он, а он вот он
Исусе-христе, выдумал тоже, псих, надо за ним присматривать, нет, правда, надо присматривать за этой чертовой штуковиной, за черепушкой, а, ладно, ты давай, пошевеливайся.
Ладно.
Исусе-христе.
Ладушки-ладушки, где были? у бабушки. Исусе затраханный. Вот и все, что тебе осталось – ладушки-ладушки, и топать, топать. А после, раз, и получшело, в одну минуту. Все прошло. Как ветром сдуло. Тебе же нужен счастливый конец. Щас получишь. Значит, так, ты попал в трудное положение. Ослеп. На несколько дней потерял зрение, веселого мало. Но ты справился, на хер, ты справился
Я чего хочу сказать, друг, с Сэмми было неладно, точно тебе говорю, да так, что куча мудаков на его месте сыграла бы в ящик. А он не сыграл. Он выжил. Потому как оставался в здравом уме. Туго ему пришлось. Но теперь все позади. И там он побывал, и тут побывал, где только не побывал, а теперь свободен. Кошмар закончился. Так почему же он все еще ни хрена не видит?
Я чего хочу сказать
Исусе-христе.
Ладно. Ладно. Не дуньди.
Спокойнее. Все путем, друг, спокойнее. Дыши глубже. И размеренно. Ты добрался до сути проблемы, вот что ты сделал, точно тебе говорю, это так, давай ее решать. Ты приглядываешься к ней и видишь, ее можно решить так, а можно этак, а можно и на хер послать, все, решение найдено.
Сэмми останавливается. Собственно, он давно уже никуда не идет. Стоит, подпирая стену. Вот что он делает. Подпирает стену за ближайшим к полицейскому участку углом. Может даже, это участок и есть, еще одна стена их говенного здания.
Но это ничего, это нормально, ты, главное дело, не переживай. Не переживай, и все. Какого хрена, друг, давай. Теперешняя ситуация, вот эта самая, в которую он попал, вот ее и необходимо обдумать; и не давай мыслям разбредаться, тут тебе не тюряга, это твоя хлебаная башка, друг, твоя голова, в которой пусто, хоть шаром покати, так что валяй, обдумывай ситуацию.
И ни о чем больше не думай. Все происходит сейчас, не на прошлой неделе и не на следующей.
Так, ладно, эту улицу он хорошо знает.
Покурить бы, друг, курить хочется до смерти; ну, суки
Значит, так: от участка он свернул за угол. Они небось свесились все из окон, наблюдают. Только этого ему и не хватает, чтобы они ему на голову нахаркали. А, ладно, не волнуйся. Храбрец Сэмми. Не волнуйся.
Так, значит, вот тут он и стоит
Исусе-христе. Топай же, мать твою. Ладно, он отлепился от стены, правда, не очень далеко, не очень. Ладушки-ладушки. Но только правой рукой, левую он сунул в карман штанов, потом вынул опять, понадобилась, для равновесия, ну, не так чтобы она прям позарез, просто на случай, если голова закружится, пусть будет свободной, вот так… По крайности, он не видит мудаков, которые на него пялятся. Потому как пялятся наверняка. Думают, он пьян в лоскуты. Думают-думают. Они всегда так думают. Таковы люди, и так они думают, худшее, только самое худшее – о тебе, – если им вообще охота о тебе думать, они думают худшее, друг. Ладно, с этим все ясно. Он остановился. Вздохнул. Скрестил на груди руки. Потому как плечи уж очень болят, надо бы малость передохнуть. Самую малость. Исусе-христе, сигаретку бы, это ж помереть можно. Там, внутри, не помирал, а теперь вот подперло. Просто подперло.
Да, но сколько еще перекрестков до главной улицы? Сколько улочек надо пройти, чтобы попасть на большую! Вот умора-то, он не знает. Думаешь, у тебя в памяти и то сидит, и это, а сидит ли? Ни хрена там не сидит. Надо у кого-нибудь спросить, да как он, к черту, узнает, что кто-то идет мимо, когда он никого не видит, а вокруг такой шум – движение, да еще этот чертов ветер, друг, холодный, как черт.
Шум, гром, похоже, грузовик проехал. Они иногда заезжают сюда, по пути к автостраде, а по ней в долгий рейс на юг или к восточному побережью. Один как-то раз подбросил его до самого Данди. Обычная его дерганая везуха. Добрался туда и обнаружил, что ни хера там работы нет, друг, – мудак, который наговорил ему с три короба, просто плел, что в голову взбредет, обычное дело. Господи, покурить бы. Будь у него деньжата на десяток сигарет, он зашел бы в магазинчик, купил их, а там, глядишь, рассказал бы о своих передрягах, и продавец, всякие случаются чудеса, взял бы из кассы хрусты и ссудил бы ему на такси, чтобы до дома добраться. А то еще там был бы телефон, и он позвонил бы Элен. Хотя у нее все равно телефона ни хера нет, так что если бы он и нашел монету в десять пенсов, то все едино остался бы в жопе. Если только Элен не в пабе. Можно было бы и туда позвонить.
Херово, друг. Трясет. Он все еще там, где стоял с тех пор, как остановился. И не думал ведь останавливаться, а остановился. Потому что вот он, здесь, у стены, привалился к ней плечом и стоит, как вкопанный, да и чему тут, на хер, дивиться, друг, чему тут, на хер, дивиться.
А, все безнадежно. Такое у него чувство. Ну, суки. А что ты можешь сделать? Только начать сначала, вот он и начал сначала. Вот что он сделал, начал сначала. Все это игра, но ведь еще и жизнь человеческая, долбаная жизнь, о которой я тебе толкую, так что тебе остается одно, друг, начать сначала, с чистого листа, новый старт, потом другой, а ты паши, друг, паши, мать твою, и все дела, ну, Сэмми так и сделал, что ему еще оставалось, я к тому, что пошло оно все, друг, точно тебе говорю, пошло оно все сам знаешь куда. Кошмар, конечно, тут не поспоришь. Вот палка бы ему не помешала. Палка это да, это было бы идеально, охеренно идеально.
Сэмми остановился, повернулся к стене, прислонился к ней лбом, ощущая ее зернистость, кирпичи, потерся – дюйм-другой в одну сторону, потом в другую, – пока не стало больно. Штука в том, что идет-то он непонятно куда, непонятно. Значит, надо прочистить мозги, подумать; подумать, охеренно необходимо подумать. Это всего-навсего новая проблема. И он должен с ней справиться, вот и все, и ни хера в этом больше нету. Каждый день это клепаная проблема. Теперь вот новая. И ты обдумал ее и разрешил. На то и существуют проблемы, ты их обдумываешь, разрешаешь и вперед – зеленые поля за каждым углом, солнышко, синие небеса, улицы, усаженные яблонями, детишки играют в траве, добрые старые власти и главный начальник в центральном офисе, добрый старый боженька, белобородый, в белой хламиде, сидит себе, посматривает на тебя с верхотуры, нежно улыбается, руководит своими деточками. Ну, и хватит с тебя. Существует только «сейчас». Вот этот самый миг. И все; ты прошел сквозь него и превратил в прошлое. Полчаса назад ты сидел в участке, а пройдет час, и окажешься дома, чашка чая в руке, ноги вытянуты к камину, и еще, может, тазик горячей воды; Элен хлопочет вокруг, беспокоится – взяла отгул и просто рада видеть тебя, потому что ты здесь
Подбородок-то как зарос, черт, с пятницы ведь не брился.
Глубокий вдох, глубокий выдох. Мимо проезжает машина, судя по звуку, такси.
Дичь. Долбаная дичь.
Сэмми отрывает плечо от стены и тут же снова в нее врезается, повело, он и споткнулся, господи-боже, он выпрямляется, прижимает к стене ладони. Ну полный мрак. Как иногда пыхнешь косячок, и мысли приходят, уходят, а то еще одна и та же мысль с какими-то проломинами, и прежде чем ты до проломины доберешься, в башке начинает гудеть, гудеть, как будто она того и гляди взорвется, и ты закрываешь глаза, зажмуриваешься, рожа скукожена, зубы стиснуты, потому что знаешь, эти вот, ублюдки, они, на хер, здесь, друг, ублюдки, они тебя ненавидят, на хер, точно говорю, ненавидят, на хер, тебя, друг, им охота увидеть, как ты загнешься, вот им чего надо
Ладно, хорошо, значит, делаешь так – уходишь отсюда, в ту сторону, куда рожа глядит. Ну, споткнулся, но ты все равно смотришь в ту сторону, тут и сомневаться нечего, так оно и есть, друг, не обратно ж тебе идти, даже не думай об этом, друг, это попросту глупо.
А как идти-то? А так: ставишь одну ногу перед другой и очень медленно, очень медленно переносишь на нее вес, одна нога, потом другая, только очень медленно, вроде сам себя догоняешь, вот так, молодец. Идешь. Сухая, сухая стена, это хорошо, мог бы и дождь хлестать, друг, потому что обычно он что делает – хлещет, хлещет тебя.
Ладушки-ладушки.
Спеть, что ли? Спеть бы можно было. Сэмми такой, обычно у него их полна башка, песенок, значит
просто болен, друг, охеренно, помощь нужна, а какая помощь; да деньжат бы на такси, на автобус. Пара сигарет. Палка. Палка объясняла бы людям что к чему. Необязательно белая, какие слепым выдают. Просто любая палка. Он мог бы нащупывать ею путь, колотил бы перед собой на ходу. Осторожно, палка! дерьмовая херовенькая палка, а все стало бы по-другому.
Забавно, если подумать, что фараоны его отпустили. Только думать об этом без толку. Но вообще, если подумать, забавно, знаю, что говорю.
Мимо со свистом проносится автомобиль. Может, если найти станцию подземки. Тут где-то была одна. Можно было б сказать ребятам в кассе, что у него был пропуск для незрячего, да только его ограбили, какой-то ублюдок ограбил, друг, такая херня. И может, они проводили бы его вниз и сунули бы в поезд. Хотя хрен ли толку, от подземки до его жилья еще топать да топать.
А, в жопу.
Выглядит он, наверное, распоследним пьянчугой? Несколько дней не брился, друг, ты шутишь, не было ни единого долбаного шанса.
Да, затруднение. Ладно, все равно не полный кошмар. Ничего похожего. Просто вот такая с ним случилась херня. Ниче, обойдется. Он свои силы знает. Вот что можно точно сказать о Сэмми, он знает свои силы. А все потому, что знает и слабости. Вот дерьмо. Нет, но он же чует, что обойдется. Ну что, ну столкнулся он с рядом интересных проблем и как раз на том интересном этапе его жизни, на котором, если честно, он почувствовал, что его поимели все, кто только мог, козлы недоделанные, и ведь конца этому не видать, ни хера не видно конца, так что давай, паши. У Сэмми же тоже сынишка есть, представляешь, и он никогда его больше не увидит, друг, если, конечно, не прозреет. Так он, может, и не захочет, вот это самое, прозревать. Ну то есть, когда у него будет время во всем разобраться, какие тут минусы, какие плюсы, потому как наверняка же должны быть и плюсы, просто обязаны быть; это какие ж такие плюсы; а хрен их знает, какие, какие-то быть должны – по крайности, ему не придется заниматься на следующей неделе тем, чем он занимался на прошлой; по крайности, не придется
Эй, где это он? Да вот тут. Ладно. Затянуться бы хоть разок. Вот, на хер, и все, друг, что ему нужно, все, чего он хочет, ничего больше, просто, на хер, покурить
Ладно.
Он почему-то вдруг хмыкнул. Вроде как смех, но не совсем. В лоб твою мать, самое лучшее – остановить какого-нибудь мудака и попросить помощи. А попадется баба, так ее можно будет и открячить! а вот не налетай на слепого. Нет, кроме шуток, тут все дело в том, как ты выглядишь, если приемлемо, если выглялишь приемлемо, тогда ты в порядке, а если нет, ты их только распугаешь, если не выглядишь приемлемо, друг, они тебя будут стороной обходить. Будут обходить стороной. Как увидят его, тебя, друг, так сразу и в сторону. Еще и перепугаются. Точно, как на бегах, мать их. Разве что подвернется какой-нибудь мудила, понимающий что к чему. Который и сам был слепым. Вот эти помогут. Он слышит, как мимо проезжает пара машин.
Жуть. Долбаная жуть. Жуть, дичь и дивное диво.
Но что-то во всем случившемся есть. Точно есть. Сэмми это чувствует. Ну, как, бывает, что-то нечисто, знаю, о чем говорю, и тебя вдруг осеняет, и ты понимаешь – нечисто. Вот это примерно Сэмми и чувствует. Наитие. Так что же, исусе, во всем этом есть-то? Он однажды читал рассказ, про одного несчастного мудака, мелкого чиновника из какой-то правительственной конторы, так тот с утра до вечера пахал, как конь, а все только одно в нем и видели – лоха, все, кого он знал, все считали его лохом, несчастного ублюдка, вот кем он для них был, долбаным лохом, и точка.
Эй, извините меня. Извините. Послушайте, э-э, простите, что беспокою, я слепой и потерял бумажник, меня ограбили.
…
Простите, что беспокою. Просто я не знаю, где я, был тут неподалеку и двое молодых людей избили меня, у банка, там эта машинка в стене, я как раз деньги снимал.
…
Але? Але? Вы здесь? Але?
О господи. Никого нет. Но точно же кто-то был. Теперь-то ушли, но ведь были же, точно, сейчас нет, а раньше были.
Правда, никто ничего не сказал. Подозрительные, видать, люди. Он говорит спокойным таким голосом. Если вы здесь, говорит, то простите, что я на вас налетел, это потому, что я слеп. Кто-то отнял у меня бумажник, там все мои документы. А я слепой. Простите. Я просто… Але? Вы здесь?
…
Але?
Мать вашу за ноги. Проходили же мимо люди. Он же слышал. Он, на хер, слепой, но не глухой же. Хотел ухватиться за кого-нибудь, все, на хер, объяснить, ну и повернулся, и потерял стену, держался за нее рукой да и потерял, ублюдок убогий, да еще и ногой во что-то жесткое врезался и отшагнул влево, и снова зацепился за что-то все той же ногой, и повалился, вот и все твои дела теперь – валяться здесь, просто лежать, ничего не понимая, что делать, ничего. Мимо пролетает мотор, черт знает как громко, совсем рядом. Он отползает вправо, чтобы нащупать бордюрный камень и не находит его. Шарит с другой стороны, слева, протягивает руку и тоже ничего не находит, бордюр, значит, тянется дальше. Потом плюет на все это. Снова моторы. Помогите, говорит он. Он на дороге. Да нет, не может быть. Не мог он попасть на долбаную дорогу, друг, не может этого быть; Помогите, говорит. Какого хрена, друг, ну не может же быть. Бурчат, бурчат. Голоса. Он поднимается на колени, встает, стараясь по возможности не делать лишних движений, чтобы остаться стоять там, где лежал; вытягивает в стороны руки, орет: Помогите! Помогите!
Бурчат, бурчат.
Помогите! Уведите меня с дороги! Помогите!
…
Брыкает правой ногой, чтобы найти край тротуара. Помогите! Я слепой, слепой, к свиньям, ничего не вижу. Помогите!
Слепой, говорит.
Отведите меня на тротуар, помогите!
Так ты на тротуаре.
Рука, протянутая ниоткуда, хватает его за предплечье, еще одна за плечо, и голос: Ты цел?
Да… Сэмми слышит собственный голос, хриплый.
Минута молчания, потом кто-то произносит: Он целый. Снова молчание.
И Сэмми спрашивает: Где я?
…
Что это за места? Тут есть кто-нибудь? А? Вы здесь? Але! Вы здесь? Але! Але! Вы здесь?
Мать-перемать! Бурчат погромче. Это они разговаривают.
Але?
Он их толком не слышит. Где я? спрашивает. Але? Я слепой. Можете мне помочь?
…
Помочь мне можете? А? Але? Исусе-христе. Але? Я слепой. Але? Где я? Але? Слепой, в жопу, пожалуйста, помогите мне, просто скажите, куда я, к черту попал, на хер? Я заблудился.
В чем дело? что тут такое?
Что?
Ты цел?
Я не знаю, где я. Я слепой, потерял палку. Что это за место?
Дэвис-стрит.
Дэвис-стрит?
Угол Непер-стрит.
Ну да.
Ты рядом с почтой.
…
Что с тобой стряслось?
Сэмми не может говорить – ему дурно – разнервничался, вот уж разнервничался, – его вроде как озноб колотит, припадок такой.
В чем дело?
Нет, я просто слепой, понимаешь и э-э… э-э… паб тут какой-нибудь есть поблизости?
Ну да, «Жаровня», на другой стороне улицы. Хочешь туда перейти?
Ага.
Тогда давай руку… Парень берет его за руку и, подождав малость, делает шаг, сводит Сэмми с тротуара, как-то он не шибко прямо идет, и ты гадаешь, может, это он от машин уворачивается, может, он не стал дожидаться зеленого света, если тут вообще есть светофор, это ж, на хер, хуже смерти, не знать, куда он тебя тащит, и потом, ты же можешь наступить ему на пятки, и тогда вы оба завалитесь; ты же ни хрена не контролируешь, ты пытаешься передвигаться меленькими шажками, но не получается, потому как надо идти, двигаться надо, чтобы все путем, а Сэмми к тому же и рот боится открыть, чтобы малый не отвлекался, или еще не осерчал, и не бросил его здесь, и не умотал, обидевшись, движение тут, друг, судя по звукам, оживленное, перекресток, очень оживленное движение на Непер-стрит, это он слышит
Поднимай ноги повыше, говорит парень, тут тротуар.
Сэмми шарит перед собою ногой. Всходит на тротуар.
Нормально?
Ум-м.
Чего?
Да… мне бы до стенки дойти.
Как это?
Тут есть стена, ты можешь меня к ней подвести?
К стене?
У входа в паб.
Парень берет Сэмми за руку, подводит к стене, и Сэмми прислоняется к ней. Брюхо болит, трясет всего, и вообще ему хреново. Мог бы повести его другим путем, от этого уж больно нервы расходились. Ничего, он постоит здесь, просто здесь постоит. Пока не оправится. Пока не успокоится дыхание. И хрен с ними, с долбаными прохожими. Живот-то, на хер, как прихватило, друг, точно тебе говорю. Он сознает, что дышит тяжело, старается дышать помедленнее, но тут в голове начинаются какие-то вспышки, а в ушах-то как гудит, друг, и громко так, знаешь, так громко. Наверняка они его по башке отдолбали, уж больно шум непривычный, отродясь такого не слышал. Хотя, может, это вроде приложения к слепоте. Уж не знаю, что они с ним творили, но это могло попортить и слух, не только зрение.
Хуже еще не бывало. Тут и сомневаться нечего, так погано ему еще не было. Если раньше у него и были какие сомнения, теперь ни одного не осталось.
Никогда. Никогда, на хер. Никогда так худо не было. Легко говорить – расслабься, не волнуйся, говорить-то легко, а попробуй-ка сделай. Особенно если знаешь, хуже еще не бывало, ну, не бывало хуже; потому что это случилось, на хер, и это не ночной кошмар, это прямо сейчас, мать его, происходит, прямо сейчас, так что ладно, ладно, все едино надо тебе расслабиться, не волноваться, ладно, взять все в свои руки, не время психовать, все мы временами психуем, знаем, на хер, что это такое, но сейчас не время, никакой тут хлебаной проблемы нет, что случилось, то и случилось. Сэмми складывает руки на груди, закрывает глаза, поспать бы. Стоит, привалившись к стене, он в порядке, и даже в безопасности, мать ее; вот только устал, сейчас бы подремать. Но если он так и будет стоять, друг, то заснет прямо на ногах. А после явятся гребаные фараоны. Они, может, и так-то перлись за ним от самого участка. Суки сраные. А он все равно будет стоять здесь. Ну заберут они его, на хер, и что, в чем они могут его обвинить? в преднамеренном праздношатании? Охеренно смешно, преднамеренное праздношатание – имел преднамерение врезаться мордой в фонарный столб, ублюдки.
При том, как он себя чувствует, он мог бы здесь и до вечера простоять.
Ноги его убивают, в жопу, долбаные дурацкие кроссовки. Кто-то прошмыгнул мимо, он повернулся, чтобы попробовать выклянчить денег на автобус, кто бы то ни был, но передумал. Глупо. Как он узнает, с кем говорит, может, это кто-то из тех, кто в пабе работает, тогда его просто выкинут отсюда, господи-боже, может, это даже фараон, а ты у него попытаешься деньжат перехватить. При твоей-то везухе ты скоро и обеих ног, на хер, лишишься, друг, точно тебе говорю.
Ну ладно. Так, значит, так. Давай-ка вали отсюда, уерзывай.
И хоть немного практичности, друг, заради христа, приди в себя, это ж вроде арифметической задачки, дважды два четыре.
Хорошо бы присесть. Выпить с кем-нибудь. Рассказать, что с тобой приключилось. Хрен знает что, друг. Вообще-то «Жаровню» он никогда особо не любил. Были у него знакомые парни, которые там выпивали, ну, в общем, захаживали туда двое, еще из прежней команды. Но ты же, в общем, и не хотел с ними больше встречаться, разве только по делу. Да и тогда приходилось осторожничать. За все в жизни надо платить. Когда-нибудь
но не сейчас. Это Сэмми уже проходил. Что верно, то верно, друг, сумасшедшие старые денечки прошли. Тут Элен ошибалась; прошли навсегда.
И все же, представляешь, – сидишь ты со здоровенной пенящейся кружкой, с пачкой курева.
А, гребаные волшебные сказки. Хотя напиться с кем-нибудь в жопу это тоже способ попасть домой. Ребята и выпивка, знаю, о чем говорю, старый добрый бог, главный распорядитель, вот кто ему нынче нужен. Бухаловка иногда похожа на волшебный ковер. А иногда не похожа.
Ладно, делом займись. Значит, идем влево. Идем влево. Исусе-христе! Ну, давай. Хорошо, иди влево, ну хоть повернись в ту сторону. Сэмми делает шаг, не отрывая руки от стены, похлопывая по ней, пока вообще не забывает, что делает, но ведь сюда-то он добрался, господи, он к таким штукам привычен, я к тому, что ему уже случалось тащиться хрен знает куда голодным, на хер, и без гроша в кармане, замерзшим, приткнуться было некуда, друг, в общем, сплошные лишения. Он в этих играх, мать их, не новичок.
Так чего, спой что-нибудь. Хотя какие тут песни? Какие, на хер, песни? Были да сплыли.
А, ладно, сам во всем виноват.
Да в чем виноват-то, господи-боже, опять он винит себя во всем, на хер, что с ним происходит, типичная его херня. Разве его вина, что он ослеп в жопу! Ты шутишь! Какого хрена, друг. Сэмми останавливается. Значит, все-таки шел. Старался быть практичным, один плюс один, ты давай, двигайся, просто двигайся, шагай, вот так, молодец, молодец. Левую ногу жмет, сил нет, но это ладно, это ничего, ничего, главное, с тротуара не сбрести – делаешь полшага, уже немало, потом подтаскиваешь другую ногу, и отдыхай побольше, копи уверенность в себе; со стороны небось кажется, что у него, может, грудная жаба, что он приходит в себя после сердечного приступа или еще чего; он, помнится, гулял когда-то со стареньким дедушкой, много лет назад, и они каждые двадцать-тридцать ярдов останавливались передохнуть, чтобы дедуля мог отдышаться, бедный ублюдок, легкие-то у него давно сдохли, но угомониться ни за что не хотели, все время в них что-то журчало да булькало.
Ну вот, налетел на кого-то, похоже, на коротышку; крепко так его приложил, но с ног вроде не сбил. Сэмми говорит, извините, но малый не отвечает. Так что Сэмми начинает рассказывать, как он очки потерял. Все равно молчит. Может, смылся уже.
Он снова касается рукой стены, но только это уже не стена, а витрина. Может, когда он доберется до дому, зрение восстановится. Хрен знает что. Эти испытания, которые тебе посылают, – жизнь, вот что тебе посылают, жизнь.
Охеренно курить хочется, друг. Может, отправиться прямиком в бар «Глэнсиз», выклянчить у какого-нибудь мудака деньжат на такси. А, на хер, быстрее до дому дойти, чем туда, не трать попусту время, топай домой.
Идиотский, конечно, случай, да! пошел по пиву, а кончил тем, что ослеп, ублюдок, – история его жизни, везет тебе, как хрен знает кому.
Извините!
Простите.
Мать-перемать, вроде как баба, а он ее прямо за буфера и сграбастал. Господи-боже, так его еще и арестуют, на хер.
Тащится дальше. Боец, друг, вот кто он такой. Вот чего у Сэмми не отнимешь, – хлебаный боец и все тут. Спроси у него, и он тебе скажет: мозгов нету, но всегда готов биться, как хрен знает кто.
А идти все-таки надо.
Если ему попадется открытая дверь, он точно в нее завалится, на хер. Ну и ладно, кто-нибудь да подымет.
Вообще-то в черепушке у него не так уж и пусто, в школе-то он, Христос всемогущий, выглядел совсем не плохо. Пока не сбежал из нее. А, кончай, никуда ты не сбегал, враки все это.
Исусе-христе, исусе-христе.
Футбол, вот что он мальчишкой любил, футбол; просто фанатиком был, чистым фанатиком
исусе-христе
Нет, правда же, был; град там, дождь или снег – он вечно гонял мяч. И это тоже, был же у него шанс так дальше мяч и гонять. Если бы он нашел, куда приткнуться. И бойскаутом был что надо. Ну, не сработало, друг, понимаешь, о чем я, ты пытаешься чего-то добиться и просто
Ах, мать твою. Мать твою и перемать!
Куда он, к черту, забрел? Сэмми останавливается. Ну, останавливается, чему тут удивляться, он же ни хера не въезжает, где он! Ладно.
А где он, черт подери, был-то, где, к черту, был! по улице шел, вот где, не мог же он с нее соскочить, невозможное дело, ну ладно; значит, недавно он был на углу, какое-то время, на углу, на следующем от «Жаровни», хорошо, ладно, там не так чтобы угол, не настоящий, и улица тоже – не так чтобы, не настоящий большой перекресток, – так что ты правильно шаг замедлил, вот кабы тут был волшебный ковер, которого тут нет, значит, постой пока, Сэмми, ладно, просто постой здесь. Дыхание вроде восстановилось. Улица прямая. Он и шел по прямой, все время по одной линии, одной и той же, потому что прямая линия должна была привести его в жилой квартал, а там потом повернешь, и скоро будет мост, он нам и нужен. Даже будь у него деньги на такси, никто б его не посадил, слишком близко, так бы ему сказали, шел бы ты на хер! так бы прямо и сказали, потому как уж больно близко. Для такси ты слишком близко от дома, тут и ходу-то пять минут, водитель ему так бы и сказал, так что все путем, надо только перекресток миновать, тут три, что ли, улицы, сходятся, к большому пятиполосному шоссе; а как его перейдешь, так там уж и делать будет не фиг, пустяк дело, друг, так что давай пробивайся вперед, пробивайся, и все. Он отходит от угла, подняв перед собой обе руки и поводя ими из стороны в сторону, правая нога нащупывает путь, выстукивает его, и скоро он чегото касается – столб, хорошо, это край тротуара. Улица не шибко оживленная, машин на ней почти нет. Слышатся людские шаги. Можно бы и о помощи попросить, да только она ему не нужна; вот позже понадобится, а сейчас нет, лучше пока на нее не напрашиваться, потому что
потому что? Потому что самое лучше ни к кому не соваться, самое наилучшее; он спускает правую ступню с бордюра, левая рука держится за столб, спускает и левую ступню – ниже бордюра, но так, чтобы чувствовать его пяткой, какого хрена, друг, сходи, сходи и шагай, так, ладно, он переставляет вперед левую ногу, потом правую, потом левую. Кто-то тащится сзади. У меня просто голова кружится, говорит он, кружится голова. Сэмми останавливается. Ну все кругом идет, говорит он.
…
Вы здесь? Он откашливается, нет, нету их, кто бы они ни были, здесь их нету, а может, они и есть, но говорят себе, ну его на хер. Но во имя христа, друг! Исусе. Уфф. Правая нога, потом левая и все сначала, ладно, вперед, он идет по прямой, боже милостивый, друг, христос всемогущий, все путем, все путем, так и было, потому что он в порядке, правая, левая, снова правая, переставляй их, просто переставляй, все в порядке, обошелся без помощи, не нужна была, и ты обошелся; после да, после понадобится, а сейчас шагай, продолжай, отталкивайся, толкай себя ногами, потому что надо ж туда попасть, рано или поздно, шагов двадцать всего или тридцать, а он сделал десять, ну, может, двенадцать; машины-то слышно, но это не здесь, на главной улице, здесь они не ездят, нечего им тут делать, это ж тупик, не настоящая улица, никуда она не ведет
снова люди, мальчишки, мальчишки, орут что-то громкими голосами, обгоняют его, и он ускоряет шаг, чтобы не отстать от них, потом голоса стихают, подходит большой тяжелый автобус, и голоса уносятся, а он все идет, потому как раз уж он сюда добрался, друг, так теперь недолго, сюда-то добрался, и знаешь, если бы только он что-нибудь видел, вот он о чем думает, если бы просто видел хоть что-то, ну хоть чуть-чуть, хоть где он все эти улицы-то переходит
отлично, он уже на другом тротуаре, добрался, он добрался, вот так, легко и просто, без проблем, подумаешь, сложности, никаких сложностей, все просто, ладно, подходим к дому, к углу, машины справа. Машины справа, там им и место, потому что – где они ездят? По главной улице они ездят, значит, он идет правильно, хорошо, исусе-христе, это хорошо, рука на стене и давай топай, не волнуйся, голову не теряй, потому что никаких причин терять ее у тебя нету, простая игра в ладушки, ты играешь в ладушки, только и всего, только этим ты и занят, ты ослеп, ну и играешь, и ладно, друг, а бежать по улице не надо, твое дело – не волноваться, и никакой херни, никакой
ладно. Покурить бы, вот это было бы здорово. Сэмми останавливается и снова трогается в путь, потому что самое лучшее – идти, а не вставать через каждые несколько ярдов, это уж глупость, просто гребаная глупость, друг, точно тебе говорю, ты лучше иди себе, а там будь что будет, потому что, когда идешь, не останавливаясь, внутри тебя зарождается этакий ритм, и он вроде как помогает, на хер, идти и не останавливаться, не так чтобы широким шагом, но достаточным, ну просто достаточным, чтобы идти себе да идти, ты вроде как приводишь себя в такое состояние или что, и голова у тебя занята, занята вот этим самым и ничем иным, кроме правды, друг, вот как оно бывает, правда и ничего, кроме правды, и тут ты нащупываешь пустоту, но это всего лишь дверной проем, только проем, несколько мгновений в темноте, и рукам твоим на пару секунд кажется, ну все, на хер, приплыли, а потом вот она, туточки, следующая стена, прямо за проемом, теперь порядок, хорошо еще, что он позавтракать успел, фараоны покормили.
Вот и давай, одинокий ковбой, вали, э-ге-гей, Сильвер[5]
Главное, завтраком-то они не всегда кормят, это уж они там сами решают, дать тебе завтрак или не дать, иногда и не дают, так голодным и остаешься, просто голодным, так что ладно, хорошо, это тебе здорово свезло, сходил на скок, сходил на скок
Что-то вроде песенки:
Ранним утром в Рождество, такая, примерно, мелодия. Да какая такая, мать твою, ранним утром в Рождество? Ни кия Сэмми вспомнить не может, ни кия, ранним, мать его, утром в Рождество. Но ведь была же мелодия, точно была; а какая? Потому что мелодия была точно, это ж тебе не поговорка, не долбаный стишок, друг, не стишок, это песенка, ты ее сам же и пел; значит, должна быть мелодия. Вот же херня
штаны подтяни
и прибавь шагу, прибавь шагу
Ладно, короче говоря, с головой у Сэмми хреново, поэтому из нее всякое вылазит, необязательно хорошее. Замудохали парня, вот так вот можно сформулировать, замудохали, так что дальше тянуть эту резину смысла нет никакого. Хочешь, чтоб все по честному, так? ну, пусть все так и останется, пусть, на хер, так и останется, и нечего к нему лезть, знаю, о чем говорю; какого хрена, дайте мужику передышку, иногда самое лучшее просто принимать все как есть.
Отъебись, короче.
Вот же суки сраные, друг, точно тебе говорю, долбаные мозги, им, на хер, сразу все подавай; я же ей сердце отдал, так ей нужна еще долбаная душа; эй, ты давай, шагай, шагай, на хер; и твою мамашу тоже, шагать-то уж все умеют. Суки. Да нет. Злиться без толку, злиться не стоит. Если он еще и обозлится, это уж будет полный кошмар, точно тебе говорю, ты же видал этих мужиков, друг, ну, которые выбыли из игры, как они иногда стоят где-нибудь в людном месте, стоят-стоят, и вдруг, бабах, крыша набекрень, и они начинают реветь, орать на окружающих мудаков. Без всякой причины. И ведь никто из них зрения не терял; просто у них нервишки поехали, друг. И все, им кранты. А Сэмми у нас храбрец.
А что, справляется ведь, делает, что задумал. Так что списывать его еще рано все-таки. Да, мерекалось ему то да се, но не так уж и много, не так уж, если подумать. Он вроде как ждал этого, ну и опять же, когда оно началось, сразу и прекратил. Знавал он когда-то одного малого…
Какого хера, шутишь ты, что ли? да он таких сотни знал, целые сотни: мужиков, которые все держали в себе, держали, пока их не пробивало, таких в любом дурдоме навалом. Только тот малый жил не в дурдоме, а в общежитии, ну то есть, так оно называлось
Да ну их в жопу, друг, истории, истории, жизнь полна историй, они для чего нужны – чтобы помогать выпутываться из неприятностей, когда ты по уши в дерьме, тут они и приходят тебе на выручку, че мы еще в жизни узнаем? Истории, у Сэмми их полна башка, он в свое время всяких козлов повидал; не то чтобы он такой уж старый, нет, ему всего тридцать восемь, просто он выглядит старше своих лет, такая уж у него жизнь; да, если раскинуть мозгами, такая у него жизнь
в общем, не хуже, чем у любого другого долдона. Ничуть не хуже. Ты просто сражался все время, вот чем ты занимался, друг, все время сражался, а что ты еще мог делать? Да ничего. Если подумать, так ничего. Много ли тебе надо-то. Покурить бы, это да, покурить смерть как хочется. Эти мудаки, решившие, будто он пропившийся ханыга, здорово промахнулись. Ни хера они не поняли; ему даже мысль о выпивке, друг, в голову не приходит, ему бы покурить и все, только посмолить; ну да ничего, если не удастся разжиться сигаретой, значит, придется дотянуть до времени, когда удастся, и все будет нормально, покурит и сразу об этом забудет, так оно всегда и бывает, хочешь чего-нибудь, ну сил нет, а получишь и сразу думать о нем забыл, о том, как тебя желание распирало, забываешь и все, получил свое и выкинул из головы. На веки вечные. И даже не вспомнишь никогда – до следующего раза.
Может, и впрямь стоило отправиться в «Глэнсиз». Чем не идея? Непременно же найдется там какой-нибудь мудак, который одолжит ему пару фунтов; да тот же долбаный старина Моррис, который за стойкой торчит, раздражительный старый ублюдок, даже он помог бы Сэмми, точно, на хер, помог бы. Но не со зрением, друг, знаю, что говорю, не с гребаными глазами! исус христос всемогущий! Ладно, угомонись. Движение тут жуткое, ему еще улицу переходить, а как ее перейдешь, ни единого шанса, в одиночку-то, ни хера, невозможно, в жопу; исключено.
Терпение это добродетель, правильно говорят.
Терпение. Ну, где вы, ублюдки? Он принимается постукивать пяткой по бордюрному камню, почему-то опустив голову пониже. Я слепой, говорит он на случай, если кто-то есть рядом. Да ведь должен же кто-нибудь быть. Только бы не легавые. Терпение, ты должен ему научиться. Научиться просто стоять здесь, как проклятый. Как это там поется?.. Какое, на хер, поется, друг, куда тебя опять понесло?
Ну, наконец-то, голоса. Он снова постукивает по бордюру. Вы не могли бы перевести меня через улицу? спрашивает.
Что?
Я ничего не вижу.
…
Я слепой.
Ты слепой?
Ага.
Сэмми слышит, как мужик посапывает, вроде как пытаясь понять, правда это или нет. Палку я дома забыл, говорит Сэмми.
Ладно, друг, хорошо, подожди минуту, пока свет не сменится… Потом он шепчет что-то и кто-то отвечает ему, тоже шепотом. И у Сэмми сдают нервы. Он вдруг жутко пугается. Снова шепот. В чем дело, исусе, голос словно бы знакомый, вроде как он его знает; а это плохо, друг, охеренно плохо: это ж может быть какой угодно мудак. Любой, друг, знаю, что говорю.
Тут мужик стискивает левое запястье Сэмми и тянет: сюда, приятель… Сэмми сводят с тротуара, он пытается совладать с ногами, совладать со своими ногами, сообразить, как ему идти, но не может выровнять шаги, не может управлять ими, приходится приноравливаться к этому мудаку, идти, как идет он. Рядом еще какие-то люди, точно, он их слышит. Слышит, как они переговариваются или еще что, вроде шелеста какого-то жуткого ветра, этакий сквознячок или как там, но громкий, это голоса, голоса, словно приносимые ветром, но совсем рядом с ним, друг. Христос всемогущий, христос всемогущий, тебе вспоминаются все ублюдки, с какими ты когда-либо цапался, за многие годы, это ж может быть любой из них, любой долбаный дрочила
Ты в порядке, приятель?
Ага.
Он притормаживает, снова идет. И врезается в этого малого.
Мать твою!
Прости, я это… Исусе, он вроде как кланяется, кланяется, представляешь?
Ладно, не переживай, говорит малый.
Да я ничего.
Бурчат чего-то. Он все слышит.
Ну, вот, тут край.
Хорошо.
Нащупал?
Ага. Сэмми вступает на тротуар и не останавливается, пока не добирается до стены; а это и не стена никакая, магазинная витрина, ладонь касается стекла; он запыхался; ах, мать, выдохся, измотался полностью, будто марафон пробежал. Долбаная нервозность, сплошные нервы. Особенно после того, как чего-то сделал. И ведь всякий захлебанный раз. Мускулы стягивает; все стягивает, всякий раз; ну просто все напрягается, на хер, каждая часть твоего уделанного организма. А ему же еще одну улицу переходить, теперь-то понятно, где он, ну, то есть, он так думает, там еще улица за углом, ему надо за угол свернуть, вот щас уйду с этого долбаного места и сверну, во имя исуса-христа всемогуще задроченного. Машины-то как ревут. Ну-ну-ну-ну, охереть можно, чтоб я, к перематери, сдох
исусе, ладно
Бурчат-бурчат. Где-то совсем рядом. Люди проходят мимо. Да и шли бы все они на хер.
Господи-господи, он на мели, просто-напросто на мели. Ублюдки. Суки драные. Шуточка, а? мать их. Ублюдки. Это я про фараонов. Сэмми, на хер, знает, что к чему. Он все, на хер, знает. Глотает слюни, во рту пересохло, он кашляет, мокрота, наклоняется сплюнуть на тротуар. Он все еще стоит у витрины. Но теперь отталкивается от нее. Стекло отвечает каким-то стоном. Шаг в сторону. Покурить бы, обалденно хочется покурить, и присесть, отдохнуть. С ума сойти, друг, ну полная долбаная дьявольщина.
И ведь сам виноват, виноват сам кругом, больше никто, никто больше, только он, и это его совсем уделывает.
Он ощупывает витрину – теплая. Тут стоять нельзя, люди смотрят, которые в магазине, вот выйдут щас и навешают пенделей, да еще и вооруженный наряд вызовут. Идти надо. А куда! А налево. Исусе-христе. Ладно. Ладно, это мы проходили. Ты давай следи за собой. Нашумишь тут, набуянишь, на хера тебе это нужно. Ты лучше успокаивайся. Самое для тебя занятие. А после двигай, двигай.
Он уже рядом с центром города, вот он где. И все у него путем. Всего-то пара улиц осталась. Вот эта первая, потом вторая, ну, может, еще одна, перед самой главной, после мост, а как мост перейдешь
вот он, тут, на месте
А как доберешься до Элен, господи, свалишься, на хер, и проспишь долбаную неделю. Если только не грохнешься на трепаной улице, друг, сил уже ни хера никаких нет, только что кончились, теперь одна надежда – на руки и на колени, так он это дело понимает, потому что уже плюхнулся на четвереньки и ползет по улице. Какого же хрена, друг. Какого хрена! На что это все похоже? На долбаный ночной кошмар, без шуток! Долбаный кошмар вроде мультяшек распродроченного Уолта Диснея, друг, в сравнении с этим, исус-христос всемогущий, Багс Банни[6] так это вообще полный гвоздец, точно тебе говорю!
Ладно. Двигайся.
Поспать! Заснуть прям щас и проспать до утра. Он до того, на хер, устал, что и есть-то, наверное, не станет. Когда доберется до дому. И там будет лежать чек, пособие, стало быть.
В гробу он видал завтрашний четверг. Хватит с него и пятницы.
Идем дальше. Держи дыхание, ты выступил в путь, не думая об этом, похлопывай ладонью по витрине, потом по стене, и правильно, молодец, еще бы вот палкой разжиться. Ладно, хоть погода хорошая. И на том, мать ее, спасибо. Пару месяцев назад тут вообще хрен знает что было. Все тротуары обледенели, друг, долбаная смерть, да и только.
Чем хорошо зрение: ты хоть можешь натолкнуться на какого-нибудь знакомого мудилу. А щас ты просто перебрался из пункта А в пункт Б, только и остается – надеяться, что он сам тебя заметит. Я к тому, что это же центр города, бубена мать, да он ни разу не прослонялся здесь так долго, не встретив кого-нибудь, он же тогда все видел; хоть какого ни на есть попрошайку, уж кого-нибудь да встретил бы, не боись.
Сэмми выпрямляется. Надо соответствовать образу. Исусе-христе, кто тут кого обманывает! Он же гудел с самой пятницы, гудел, друг, охеренно, охеренно здорово гудел.
Выходит, сам же и виноват. Вот в чем дело. Придурок чертов. Совсем оборзел. Фараонов измордовал, идиот долбаный, ты, друг, отчаянный малый, охереть можно, исусе-христе.
И вот, пожалуйста. Ослеп. Он ослеп. Ладно. Ослеп. Никуда не денешься. Сам знаешь. Ладно. Так вышло. Такие дела. Такие долбаные дела. Кого он знал из незрячих. Бобби Динса, вот любил побазарить, ублюдок, любой мудак, завидев его, сразу старался убраться подальше, знал, что от него только и жди гребаных неприятностей. Сэмми его уж несколько лет как не видел, точно. Помер, наверное, на хер. А кроме него? Ни единого мудака.
Неудивительно, что ты заводишься, это понять нетрудно; точно тебе говорю. В жопу; бурчат-бурчат-бурчат-бурчат, больше ни хрена от них не дождешься.
Жратва! Пекут чего-то! Запах-то какой сильный. Это место он вроде как знает; иногда они с Элен посиживали здесь субботними утрами, читали газеты. Она любила рассматривать витрины здешних магазинов. И временами затаскивала его сюда, и он просто сидел полчасика с газетой. Ну, может, линял иногда за угол, пивка хлебнуть – это если она отвлекалась. И если в кармане водилась монета. Нюх у нее был, как у долбаного далсеттерского спаниеля, – кто бы он такой, на хер, ни был, друг, этот самый далсеттерский спаниель.
О, господи, друг, Элен. Что будет. Что будет.
Но какого хера беспокоиться о том, что не в твоей власти.
Он снова останавливается, прислоняется к стене. Веки сомкнуты. Не здорово он себя чувствует. Ой, не здорово. С животом совсем худо. Все просится наружу. Просится наружу. Куда-нибудь, на хер, подальше от него. Жуткое ощущение, жуткое. Дурнота. Прямо в клепаных кишках. Предупреждение, вот на что это похоже, страшное предупреждение. Потому что его отметелили, друг, отметелили по полной программе, в жопу, отметелили полностью. А что он тут может поделать. Ничего. Только идти. Идти надо. Он поворачивается кругом, нет, не туда, поворачивается назад; идти надо в эту сторону, а он развернулся, вот и повернулся назад. Ему мы только до моста добраться, а как дойдет до моста
Все будет хорошо. Через большой перекресток, потом на мост, и ты в порядке, так что ладно, ничего не попишешь, ты просто давай, на хер…
Все, что тебе следует делать, это идти, шаг за шагом, идти шаг за шагом, за шагом, топай, и не позволяй ему на тебя навалиться, друг, этому чувству, которое над тобой нависло, не дай ему тебя придавить, топай, исусе, какие он знавал времена, через что только не прошел, друг, через самое, на хер, худшее он прошел, это еще ни хрена не худшее, друг, худшее он, друг, видел, это не оно, ни хера, не оно, не оно, просто ни хера не оно, он много чего повидал, друг, много всякой херни, мудаков, которые, на хер, помирали, забитые до смерти, на хер, он знаешь сколько их видел, друг, до бениной матери. Долбаный Чарли! И никакой тебе долбаный Чарли не нужен, чтобы сказать, друг, ты шутишь! Шел бы ты на хер! Ублюдки сраные. Сэмми и такое видел, мать их, и такое тоже. Он и хотел-то только того, что ему положено, и все, друг, только то, что ему, на хер, положено. За это и получил; и то получил и это. И правильно, на хер; ладно, ладно, мать вашу!
Не хочется тебе насчет этого рассусоливать, не любишь ты этого, вот почему Сэмми всегда говорит, а шли бы вы все. В забегаловке, везде, не говори им ничего, друг, скажи: идите вы на хер; дедуля его, старый старичок, так его учил, это самое верное дело, ничего не говори. Ничего, ни одному мудаку. Ну, сволочи фараоны, друг. А? Сэмми улыбается. Ублюдки долбаные. Ты шутишь! Ты просто шагай, друг, топай вперед, мать твою, и все дела; как далеко, господи, как далеко.
Знаешь старое присловье: жизнь продолжается. Сэмми перешел мост и добрался до жилых домов; тут никакой везухи не было; он сражался; вышел на битву и победил. Ну вот, пришел, делов-то. Плюс Элен еще не вернулась. Он понял это, как только вышел из лифта. Хлебаный ветер дул, как обычно, по коридору. Вот в чем беда с этим домом, ты неизменно оказываешься лицом к лицу со стихиями. Временами начинаешь даже слышать всякую хрень. Точно. Когда поднимается ветер, тут все потрескивает, и иногда, возвращаясь ночью домой, думаешь, будто слышишь то да се, можно и перетрухать, тем более, вокруг все тени да тени; даже сейчас, хоть ни теней, ни прочего не видишь, все равно малость страшновато, будто кто-то слоняется тут и шпионит за тобой. Крадется по пятам, что-то в этом роде, друг, чушь, в общем-то, не обращай внимания, это все воображение; вот что это такое.
Он открыл дверь в квартиру, захлопнул ее за собой. Прошел в гостиную, плюхнулся на кушетку. Господи, как он устал, устал, на хер. Сглотнул, еще раз сглотнул, потом еще, глотал, глотал, какого хера.
Элен дома нет. Ушла на работу. Если, конечно, не валяется в постели. Сколько сейчас? Полдень. Значит, на работе. Если отгул не взяла.
Ай, господи, не пори ты херни.
А с дыханием-то получше стало. Он нагибается, чтобы ослабить шнурки, распускает их, ложится, пытается сбросить кроссовки, не получается, приходится снова нагнуться. Чтобы стянуть их руками.
И вырубается. Возможно, на час-полтора. А очнувшись, встает, снимает куртку, включает камин, обходит квартиру. В кухне вроде все прибрано. Плюс молоко скисло и хлеб зачерствел. Ощупывает раковину, сушилку. Даже чашки нет! Проверяет прихожую, потом спальню; шарит по кровати – застлана. Что само по себе странно. Нет, бывает, конечно, но обычно Элен застилала ее, только когда возвращалась домой, если, конечно, он не попадал сюда первым. По всему выходит, она тебе любезность хотела оказать, так оно выходит, долбаную любезность
Да не возвращалась она домой. Непременно что-нибудь тут да валялось бы. А ничего нет, друг, ни хера. Надо бы вещи ее проверить, может, она вернулась и уложила чемодан. Плюс у нее на работе подружка есть, может, к ней отправилась. Чтобы вместе все обсудить
Он валится на кровать. Неохота ему сейчас беспокоиться на ее счет. Даже думать об этом неохота, о ситуации, он же все равно управлять ею не может, не может ничем помочь. Сейчас он только о себе позаботиться и способен. Чувствует себя вконец измудоханным. А как ему еще себя чувствовать после того, что он вынес за последнюю пару дней? Как ты со всем этим справишься, не получится же. Он это уж много лет как понял. Вон малый вроде Чарли Барра тоже пытался сделать это, пытался со всем справиться и вечно оказывался в жопе
Но Сэмми не Чарли Барр, и не желает он быть Чарли Барром, и не может он быть этим долдоном. Нет, против Чарли он ничего не имеет; не много есть на свете людей, которых он уважает так же, как Чарли, ну и хрен с ним, мы все разные, и жизнь у нас у всех разная, каждый идет своим путем, разные испытывает влияния и разный накапливает опыт. И не хер отчаиваться только потому, что ты выбрал тот путь, а не этот. У Чарли тоже есть дурные стороны, друг, святых в этом хлебаном мире нет. Сэмми, к примеру, хотя, конечно, может, все и переменилось, – знает, что этот малый жену свою, на хер, затрахал, так что какого хрена, я к тому, что
исусе, это же дурно, друг, дурно, на хер, говорить такое о человеке, какого хрена? Сэмми переворачивается на живот, утыкается лицом в подушку.
Немного погодя он уже сидит в гостиной на кушетке, чашка кофе и все такое, радуется, что хоть в чем-то ему свезло, по крайности, сахар нашелся
Бубнит радио. Телевизора он и в лучшие времена особо не любил, так что радио ему хватает. Спортивные передачи еще туда-сюда, и некоторые документальные фильмы тоже, хотя по большей части он телик смотрел, только чтобы время скоротать, особенно когда она была дома и приходилось составлять ей компанию. Ему больше нравилось книжку почитать, радио послушать, дискуссионные программы там или новости всякие. Но больше всего он любил музыку, прямо усидеть на месте не мог, музыка его здорово разбирает. Элен называла его привередливым человеком. Так прямо и говорила. Ну и ладно, хотя сам-то он так не думал. Уж кто из них привередничал, так это она. Впрочем, если он и был привередливым долбаком, так имел на это полное право, при его-то жизни.
А музыку он всегда любил. Особенно когда срок отбывал, там тебя так достают, что ты можешь слушать все, что угодно; без музыки, друг, оттуда можно прямиком в психушку отправиться. Сейчас ему все больше кантри по душе, но раньше он и другое любил. Потому как не всегда же сам выбираешь. Особенно в крытке. И ди-джей у тебя любимый был. Сэмми помнит одного с местной станции, тот вроде как надоумил Сэмми составить список любимых мелодий. Много лет назад, много. Но прямо долбаная жуть была, друг, прямо жуть – лежишь среди задроченной ночи в наушниках, а из них льется такое, что прямо до нутра пробирает. Особенно одна песня, тихая такая, жалобная, насчет того, как уходишь от женщины и все прочее – как увидишь ее, передай ей привет / хоть она уже, может, в Танжере – у него как раз тогда семья распалась. Жалко ему себя было, плюс мысли о маленьком Питере, о малыше, о том, что больше он его не увидит, – две вещи его доставали, жена и малыш, так что чего ж удивляться, что он себя жалел. Да и не только это. Он тогда был злой, на хер; по натуре, так он себя чувствовал, так ощущал. Так что он и не хотел по-настоящему, чтобы она возвращалась, это было просто охеренное
Одиночество, просто охеренное одиночество, одинокоепреодинокое задроченное одиночество; и так всю жизнь, одиночество. Исус всемогущий.
Не сейчас. Сейчас никаких эмоций не осталось, полиняли, на хер, полиняли, такие дела. Нет
С легкими все еще плоховато, и с ребрами, если он резко вдыхает, то сразу больно.
Кофе остыл. Чашка кофе, да на посошок.[7] Дилана он в последнее время что-то совсем не слушал. Может, начать; один малый говорил в пабе, что новые альбомы у него ну совсем классные. Может, пойти взять парочку.
На хер, друг, на хер, какая разница, какая, в жопу, разница.
Где-то в холодильнике была тарелка с бобами плюс немного чеддера, может, уже и заплесневел, он не проверял. И пара консервных банок. Но их лучше бы сохранить. Если нынче среда, значит, завтра четверг, а после пятница, большой день, вот сколько времени ему придется обходиться без денег.
Смешно все же, каким боком повернулась жизнь. А он почему-то чувствует себя в порядке. Вроде как покой на него снизошел. Звучит банально, но так оно и есть. И ты вали своим путем, а я пойду своим.[8]
В конце концов, он задремал, а когда проснулся, перебрался на кровать, вытянулся, красота. Почти никаких неудобств, боль иногда наваливается, это уж как ляжешь – однако организм слишком измотан, чтобы много чего чувствовать. В голове все что-то вертится, вертится, бессвязное, всякое разное, замирает, перетекает одно в другое. Потом он просыпается. И даже не понимает, спал он или не спал, вроде того, как иногда в компании закемаришь минут на пять и очнешься. Казалось, всего-то миг пролетел, но он знал, это не так, проспал целую ночь. Занятно. Откуда ты знаешь, что целую ночь? Со слепотой это никак не связано. Такое с любым человеком бывает. На самом-то деле все просто, потому как сейчас не только тихо, точно в могиле, но еще и шестое чувство долдонит тебе то же самое. Как-то даже страшновато становится. Вроде бы просыпаешься, акклиматизированный во всем, что делал в последнее время. И в то же время обычно тебя будит что-то непонятное, дергает за нервные окончания. Какой-нибудь странный сон привиделся, не так чтобы кошмар, но близко. И едва проснувшись, чуешь такую тревогу, что тянешься к ближайшему оружию, которое защитит от ублюдка. Кем бы он ни был. Вот же мать их, а?
Элен рядом нет. Сэмми проверил, поводил ногами.
Она может вернуться в любую минуту. Может. Не в первый раз они поругались. Он ее много чем достает. Потому-то она так долго и думала, прежде чем пустить его в койку. Ну то есть позволить ему перетащить сюда чемоданы и все такое.
Собственно, она может появиться прямо сейчас, вот в эту самую минуту, потому что иногда остается в пабе и после закрытия. Ее босс позволяет кое-кому из избранных посетителей засиживаться за выпивкой допоздна. Проблема в том, что он обычно надеется: Элен задержится с ними; она там старшая официантка, а это связано с дополнительными обязанностями.
Элен просто цены, на хер, нет – ну то есть в баре, про который я говорю. Босс-то у нее дурак дураком, вечно носится с какими-нибудь нововведениями, чтобы привлечь клиентов, если в баре все тихо-спокойно, он прямо волком воет. И как она с ним ладит… Сэмми ему давно бы уж башку проломил. Беда в том, что Элен все время чего-то боится. Иногда кажется, будто она и не может без этого. Временами действует на нервы. Нет ничего хуже, чем баба, которая все время беспокоится о тебе. Бабушка Сэмми – мать его матери – была в этом смысле просто жуть что такое, каждый раз, как ты выходил из дома, она изо всей силы обнимала тебя и так, на хер, вглядывалась в лицо, словно пыталась запомнить тебя как можно лучше, потому как это уж точно последний раз, что она тебя видит, друг, потому как стоит тебе выйти в долбаную дверь, и можешь проститься со всем на свете – с жизнью? а хрен его знает, с чем, – все, что есть в мире плохого, прямо там и стоит, дожидаясь случая взять тебя за горло, а ее рядом, чтобы спасти тебя, не будет. Она ж не была атеисткой и знала, что ты идешь в дом атеистов, в безбожную семью, чьи дети будут вечно вопить в чистилище, если только добрый боженька иисус над ними не смилуется.
Ты ж еще маленький, вот в чем все дело. От таких штук ты и чувствуешь себя мальцом, от всего этого беспокойства, как будто вообще ни с чем, на хер, справиться не способен, друг, понимаешь, о чем я, как будто ты лох какой. Да еще и судьбу искушаешь. Вот что тебя, на хер, достает. Вот что заводит, на хер. Ну и ты волей-неволей делаешь это самое, то, что ее с самого начала так пугало, волей-неволей, друг, точно тебе говорю, даже если тебе этого и не хочется, если она и вообще помалкивает, сделаешь, будь спокоен. Ладно, что тут попишешь, главное – дело делать.
Вот и на той неделе было то же самое. Элен узнала, чем он занимался, и распсиховалась. А у него башлей не было, и в ближайшую долбаную неделю не предвиделось. Но ей же это без разницы, ее это ни хера не заботит; денег нет? ну и что? в чем тут, едрена палка, проблема? Ее это ни хера не заботило
мать-перемать
Черт, как спина-то болит. Внизу, там, где почки. Он перевернулся на живот. Теперь шея затекает, да и голова давит всей тяжестью на больное ухо. Фараонов тут винить не в чем, глупо, и смысла, на хер, никакого; они всего лишь выполняют приказы. А приказ, чтоб ты знал, у них всего один, лупцевать, на хер, мудаков, чтобы те поняли, кто тут у нас главный; вот и весь их гребаный приказ, первая заповедь, ты только представь, никто ему даже денег на автобус не предложил, господи-боже, с ума можно сойти, даже если твой худший враг возьмет да и ослепнет, ты все равно позаботишься, чтобы он хоть до дому, на хер, допер. Или нет? Нет, если в тебе сидит инстинкт убийцы. В этом случае, если б они ползли на карачках по улице, ты бы им тоже постарался руки отдавить. Вот что это такое, друг, инстинкт убийцы, они ж фараоны, натасканные убивать; и до такой степени, что их даже осаживать приходится, для чего и существуют все их долбаные руководства, наставления и процедуры, страница за страницей, «когда этого делать не следует» – все исключительные обстоятельства, при которых не надо ее соблюдать, первую-то заповедь, когда не надо ей подчиняться.
Какой-то глухой стук, то ли с потолка, то ли из-за стены, ритмичный, не музыка, а словно кто ходит по кругу. Мужчина, женщина? Женщина. Женщина, которой не спится, вот она и встает, проверяет малышей, может, чаю себе заваривает. А после чая и вовсе не уснешь. Мысли донимать начинают. Или, может, она так распалилась, что и сон не идет! А, ладно, заткнись. Нет, ну, неизвестно же, может, ей мужика хочется. А че такого, естественное дело. Ты ж видел в кино, как они разгуливают почти голышом, в халатике или пеньюаре, да и тот сползает, так что сосок наружу торчит. И все это, чтоб тебя раззудить. Только для того и нужно. Он со своей бывшей хлебнул лиха, ей чего только в голову не влезало. Да всем влезает. Всем людям лезут в голову такие мысли, но бабам в особенности. А ты и не понимаешь, как тут быть, особенно когда молодой. Еше и удивляешься, чего они в тебе находят, нет, честно; мужики – исус всемогущий, просто свора грязных ублюдков, буквально, знаю, что говорю, ноги потеют и все такое, трусы воняют. Конечно, бабам выбирать не из кого, разве что лесбиянкам, тогда, пожалуйста, хлопайся титьками одна об другую, да и то неудобно, трясется же все; то же и с мужиками, концы мотаются, ноги стукаются – такое случилось однажды в тюряге, один малый вообразил, будто Сэмми к нему обниматься полез, господи, во кошмар-то был, подбородки, на хер, колючие, эти самые части тела друг о друга бьются, коленки тоже, друг, и ты сознаешь, что вроде не с той стороны к нему подлез, – для чего другого оно, может, и сошло бы, но не для объятий, – тот малый так ему и сказал, Сэмми, ты меня держишь, как женщину, я же не женщина. Ладно, хорошо, а как его еще держать-то было, он же не хотел дурака обидеть, тот ему нравился, точно тебе говорю, хороший был парень и все такое. Черт-те что, друг, жизнь сложная штука. Сэмми тянется к приемнику, включает: надо бы время узнать. Потом встает пописать, накидывает одеяло на плечи. Приходится сесть на толчок, чтоб не промазать.
Он отыскал на кухне ложку, достал из холодильника бобы, поел. Потом вернулся с чашкой чая к кровати, присел на нее. Курить охота до смерти, ну и что, выбрось ты это из головы. Один хмырь ему как-то втолковывал, до чего это важно: отказывать себе во всяких вещах, и чем их больше, тем лучше – в молоке, сахаре и так далее, но особенно в куреве и в дури. Если удается обойтись без курева и дури, значит, можешь и вовсе их бросить, а там, глядишь, отмотаешь срок и выйдешь на волю миллионером. Так прямо и говорил. Идиот долбаный. В тюряге каких только долдонов не встретишь, и у каждого свой план выживания.
Хотя, в общем-то, правильно, способность обходиться без сигарет – это определенно долбаный плюс, особенно если тебе приходится бычки подбирать, ты же видел этих хмырей, ну, то есть как они это делают, одуреть можно, никогда же не знаешь, кто его выбросил, какой-нибудь задроченный сифилитик со струпьями на губах, друг, да кто угодно, тут с одним только СПИДом три тысячи тридцать, мать их, шесть мудаков, а ты высасываешь то, что они оставили, исусе-христе, при таких-то дурных наклонностях – да еще со слепотой, не забудь, – какие у тебя, на хер, останутся шансы. Может, и правда, бросить это дело. Уж сколько лет он сам себя губит. Да, так он и сделает. Покончит с куревом. Пусть видит, перед ней новый человек.
От этой мысли Сэмми пронимает смех. Хотя что ж: когда начинаешь новую жизнь, всякое возможно.
И ведь многое срабатывает. Другое дело, к добру или к худу. Но срабатывает, рано или поздно.
Да сколько же сейчас времени-то, мать-перемать!
У ди-джея глубокий такой, бархатный голос, как бы американский, на «Би-би-си-2» такие любят, и он травит под музыку всякие байки; сейчас вот про его таинственных соседей в Кенте или еще где, как те все рыли что-то и рыли в саду, а он с супружницей гадал, что это они там делают, мертвеца закапывают, или плавательный бассейн решили соорудить, или что, а после выяснилось – это они теннисный корт строили, у них двойняшки были, мальчик и девочка, так те совсем съехали на теннисе, вот они и решили сделать их классными профессионалами, чтобы детки, значит, прославили травянистую зеленую Англию, самое же время дать любителям тенниса возможность погордиться своей страной, и он, ди-джей, совершенно с этим согласен, он и сам немного играет, по-любительски, и потому желает им всего самого лучшего, что способна дать Британия, и все загулявшие полуночники, которые его сейчас слушают, через шесть-семь лет сами увидят, как эти долбаные двойняшки с гарантией протырятся в большую лигу. А теперь песня «великого, покойного» Сэмми Дэвиса.[9] Пощелкивают пальцы. Он часто пел с сигареткой, зажатой в длинных пальцах, показывая, какой он стильный и классный. Однажды во сне.[10] В этом стиле музон. Каждый старается, как может.
Допив чай, Сэмми сунул чашку под кровать, откинулся, слушая какой-то джазовый блюз, на подушку. Книжек жалко. Теперь тебе остались только звуковые книги для слепых. Или брайль. Брайль.
Четверг. Первый привольный день в незрячем виде. Начало новой жизни и прочее дерьмо. Есть вещи, которые надо сделать, и сделать их должен он. Больше никто не станет. Даже она, если вдруг войдет сейчас в дверь. Только он. Ладно, хорошо. УСО[11] и лекарь. Лучше не откладывать. Вот только у него в кармане ни гроша. Ни гроша в кармане, весь разбит, во всем организме такое ощущение – хрен знает какое – отделали его под орех, вот какое в нем ощущение. А идти все равно надо, иначе они потом скажут, за давностью, мол, срока и прочее. После них – в приют для слепых, если такой вообще существует, надо пойти туда, записаться, записаться-расписаться, чтобы получить белую палку и собаку-поводыря. Наверняка у них там очередь, быстро в жизни хрен чего получишь. Вообще-то собак он никогда особенно не любил. Ну да ладно.
Приют для слепых, по одному названию ясно, что это за дыра, прямиком из какого-нибудь гребаного викторианского кошмара, ей-богу, он так и видит их всех, несчастных ублюдков, как они в полном унынии бродят, ощупывая беленые каменные стены; мужчины, женщины, дети; все в одной преисподней, все в длинных, обвислых ночных рубашках; а вот и важные господа появились, с дамами, держатели акций, пришли проверить, упали те в цене или нет: черные шелковые цилиндры, белые шарфы, бальные платья, завернули по пути на хлебаный балет или еще куда, в частную ложу на «Айброкс парк»,[12] чтобы пить там шампанское и закусывать французской селедкой или какой еще херней ублажают их во время футбола.
Но вот для Сэмми немаловажно, вот что ему на руку, или возможно на руку, не стоит искушать судьбу, особенно когда дело касается УСО; и все же он, если бы был игроком, счел бы это малым, но шансом, друг; правда, он не игрок, теперь уже нет, не настоящий, хоть и был когда-то, игроком, значит, да еще каким, а теперь нет, – разве что вот в этом деле, да, тут можно бы сделать ставочку, маленькую такую, пару фунтов сразу на трех лошадок, не больше, на УСО, на друзей-приятелей, на Городские программы трудоустройства или как их там, чует его сердце, может сработать, ты только особо-то в это не влезай, вдруг ни черта не получится, хотя если подумать, исус всемогущий, ему же причитается пособие по утрате трудоспособности, понимаешь, о чем я, а, друг, раз он не может видеть и не по собственной вине, а какая ж тут его вина, это все сраные фараоны устроили, друг, государственные служащие. Вот такие дела. Стало быть чего-то ему причитается, лишняя пара фунтов. А как же, мать вашу? Видеть ты не можешь, значит, лишился функции зрения, способности чего-нибудь зреть. Так что, с одной стороны, ему надо перерегистрироваться, потому как он же теперь по строительным лесам шастать не может, друг, знаю, что говорю, оставьте человеку хоть какие-то шансы, он же не видит ни хрена, как он, по-вашему, полезет, на хер, по лестнице с ведерком долбаного раствора в руке? Без шуток, железная, мать ее хлоп, твердокаменная определенность, что касается его, со строительными работами покончено, вот так, и никаких больше Городских программ, идите все на хрен, это не для храбреца Сэмми, не для него, – финито, мать вашу, засуньте их себе в задницу, полный копец.
Сэмми хлопает в ладоши, потирает одной о другую. Может сработать. Он фыркает. Исусе. Глаза, друг, глазам-то кранты. Хоп! Господи-исусе!
Если только они не подыщут ему работенку специально для незрячих.
Ладно.
Но попробовать надо, и попробовать быстро, потому как, если он не зарегистрируется, они его поимеют с этим их сроком давности.
Кофе допил.
Первым делом ему необходима пила. И он ее добудет. В доме только и есть инструментов, что молоток да пара отверток. Он все собирался разжиться тем да этим в «Баррасе». Ну ладно, теперь вот какое дело: теперь ему нужно у швабры ручку отпилить. Для этого и требуется пила. Он врубает радио погромче и выходит из квартиры.
Тут у нас один из открытых таких коридоров, вроде балкона с оградкой в четыре фута. Вечно по нему ветер гуляет. Зимой в нем приходится туго. За соседней дверью обитает пожилая женщина, но он проходит к следующей, потому что знает, там живет мужик. Сэмми его видел раза два, но никогда с ним не разговаривал.
Когда дверь открывается, он говорит: Здравствуйте, я живу в двух дверях отсюда, и подумал, не сможете ли вы одолжить мне на минутку пилу, если она у вас найдется.
Мужик переспрашивает: Пилу?
Я свою брату отдал на прошлой неделе. Мне всего на минуту.
А, понял, ладно…
Сэмми слышит, как он роется в шкафу. Потом возвращается к двери и говорит: Сегодня вернешь?
Да, конечно. Полчаса, самое большее.
Я не из жлобства спрашиваю, просто это пила моего отца, она уже много лет как в семье. Где ты живешь, повтори?
Вторая дверь от вас. Макгилвари.
По-моему, я тебя не видел.
Сэмми кивает.
Давно ты здесь?
Да довольно давно уже, я и хозяйка… Последнее Сэмми вставляет, чтобы мужик успокоился. Договорились? – спрашивает он, протягивая руку.
Да, не волнуйся, сынок.
Сэмми касается полотна, сжимает его, кладет правую ладонь на ручку: деревянная; приятное ощущение.
Вернувшись в квартиру, он вешает связку ключей на крючок и, прежде чем начать, слегка смазывает режущий край мылом. Надо было у мужика сигаретку стрельнуть. По голосу слышно, что курильщик. Ладно; Сэмми плюет на ладони, растирает их. Так, хорошо; он притаскивает из столовой стул, подстилает под него газету. Затем произносит эни-бени-раба, вставляет кассету. Из магнитофона слышится:
Мать твою, друг, ну и херовую же песню ты выбрал! Вот уж точно дерьмо собачье – про переживания одного козла, которого жена бросила, – ежу понятно, мудак отродясь пальцем о палец не ударил, но ему даже невдомек, что это и объясняет все случившееся. Да чего там, мудаку, который песню написал, это тоже невдомек. Элен как-то обратила внимание Сэмми на то, что по тону, каким старина Джордж Джонс[13] все это дело распевает, ясно, что он ни хера и не шутит, никакой иронии.
Сэмми иногда пел это на собственный лад:
Не бог весть какой юмор, но они с Элен иногда под конец прыскали. В ней было что-то от феминистки.
Вообще-то не такая уж и плохая песня для этой работы, потому что необходимо же все время быть начеку. Плюс в плече, когда он тянет пилу на себя, что-то похрустывает, отвлекает. Когда Сэмми покончил со шваброй, он был уже в жопу измотан и прямо-таки изнывал от желания закурить, выпить и повалиться, на хер, на долбаную кровать, да еще и накрыться чем-нибудь на случай, если Элен прямо сейчас и вернется.
Хотя кого ты обманываешь-то.
Ладно, хоть палец себе не отпилил. Он сложил газету с опилками, сунул в мусорное ведро. Возвращая пилу владельцу, протянул руку: Меня зовут Сэмми.
Боб, рад с тобой познакомиться.
Рукопожатие.
А быстро ты, сказал Боб.
Да там работы-то кот наплакал. Кстати, хорошая пила, приятно держать в руках.
Я же говорил, отцовская. Она уж сто лет как в семье. Думаю, еще деду принадлежала.
Правда? Ух ты! Слушайте, а у вас куска наждачки не найдется?
Нет, сынок, извини, тут тебе не повезло; было немного, да вся кончилась.
Нет, я просто на всякий случай.
Извини.
Если говорить о возрасте, он дал бы Бобу лет пятьдесят-шестьдесят, хотя, кто знает, может, тот и старше; Сэмми думал, что вроде бы помнит его лицо, но уверен не был. Приличный, похоже, мужик. Хотя сколько ты встречал мужиков, казавшихся приличными, а после выяснялось, что они просто злобные ублюдки; сразу человека не всегда расчухаешь.
Ну ладно, палка есть, уже хорошо. Он на пробу походил с ней по квартире – ничего, годится. Вот вчера был полный кошмар. Больше такого не повторится. Палка составляет разницу между жизнью и смертью; не всю, но около того.
Он сварил еще кофе и сел – подумать. Палка, стало быть, у него есть. Отлично.
Кассета докрутилась до конца. Интересно, сколько сейчас времени. Оно, конечно, не важно. Но только есть вещи, которые он должен сделать, которые сделать необходимо, и поскорее. Да, поскорее. Будешь тянуть резину, они всегда найдут способ тебя поиметь, так что надо браться за эти дела; как только что-то приходит в голову, все, друг, надо пошевеливаться, на старт, внимание, и пошел. Но он просто-напросто не может; сейчас не может; в кармане пусто и в доме денег нет, он уже поискал, и не раз. До УСО несколько миль, пройти их он не сумеет; в любое другое время – пожалуйста, но не сейчас. Слепому, друг, без башлей труба; а ты не можешь никуда пойти, ты и ходить-то толком не можешь. Сэмми весь город исходил, из одного конца Глазго в другой, и Лондон тоже. Ну и что? Палка штука хорошая, но не настолько же, это ж не долбаная ведьмина метла, на ней верхом не проедешься. Плюс он и физически никуда не годится; организм все еще слаб, на хер, потому он вчера и вырубился. Если бы они его не отметелили, ему бы так хреново не было. Обычно он оправляется быстро. А тут организм никак в себя не придет, болеет. А ему надо быть в порядке, готовым ко всему. Вон сколько хлопот впереди. Значит, надо подготовиться. Подготовиться, на хер, друг, привести себя в порядок. Зарядку, что ли, сделать. Главное дело ребра, дыхание, дышать все еще больно. И попилил-то самую малость, а еле жив. Так что надо отдохнуть. Если бы не эта хлебаная…
Ну просто…
Ему необходимо заняться делами, охеренно необходимо заняться долбаными делами, не может он здесь торчать, просто не может себе позволить. Черт дери, да сколько же времени-то, друг, ты даже хлебаного времени узнать не можешь! Сэмми включает приемник. Дела-то ведь подпирают, это уж точно, точно, на хер. Так что нужно УСО, врач и все такое. Но как он туда попадет, если у него ни гроша, господи-боже, как он к ним попадет, если у него ни гребаного гроша за душой, друг, ладно, можно попробовать сунуться к этим, как их, Здравоохранение и Социальное обеспечение, с этим он справится, тут всего минут двадцать ходьбы, самое большее полчаса.
Эх, если б он хоть чего-нибудь видел, мать вашу так! Исусе-христе, друг, идиот долбаный, у него ж на эти дела целая сраная неделя уйдет. Хотя нет, с палкой нет. С палкой все пойдет быстрее. Все-таки палка это вещь, на хер. Ладно. Но первым делом УСО. Высший приоритет. Опоздаешь на день, они тебя всю жизнь потом мудохать будут. Однако без автобуса до них не добраться. Вот такие дела, а дергаться все едино нечего. За один-то день вряд ли, за один пропущенный день они его гнобить не станут.
Но, бубена мать, ведь точно же, были же в доме деньги!
Так он уже искал. Ну и хорошо, друг, поищи, на хер, еще раз, тебе и нужно-то всего шестьдесят пенсов. Даже тридцать, в одну сторону можно и рискнуть, зайцем проехать. Где-то тут должна валяться мелочь. Сэмми, когда возвращался домой, обычно выгребал ее из кармана и ссыпал на каминную полку – всю мелочь, какая была. Иногда так там и оставлял. Целая куча набиралась.
Просто смешно, друг, что там ничего нет. Понимаешь, о чем я? Как будто она все с собой забрала. Как она могла? Правда, может, это он и забрал, может, и он; в последнюю неделю он здорово поиздержался, потому и на дело пошел, мать его, ну, давай же, ищи! Не помнит он, что забирал.
Сэмми поднимается с кушетки. Кофейный столик, он в эту сволочь прошлой ночью коленом впоролся; поосторожнее, на хер, тут навалом опасностей и препятствий: он огибает столик, подходит к камину, ощупывает полку. Ни хрена, только обрывки бумаги да всякая дребедень вроде пластмассовых пуговиц или еще чего, плюс несколько спичек. Ну и черт с ним, завтра чек принесут. Надо просто набраться терпения, терпения-терпения-терпения. Чего торопиться-то; думаешь всех обскакать, а что получается? а ни хрена не, получается; тебя только назад отбрасывает; шаг вперед, шесть назад, вот что получается: терпение есть добродетель, друг, нет вопросов, на этот счет никаких вопросов нет.
А ну его в жопу, это терпение, пойдет-ка он лучше в «Глэнсиз»!
Сэмми смеется. Сидит, согнувшись, на кушетке. Мотает головой.
А что, можно. Можно, на хер. Да и выйти определенно надо бы, от этого сиденья, друг, свихнуться можно. Заодно и палку опробует. По дому-то слоняться это, конечно, хорошо, но настоящее испытание начнется, когда он выйдет внизу из лифта, дойдет до долбаной выходной двери и выйдет на улицу, вот это будет настоящее испытание. Может, он еще в «Глэнсиз»-то и не пойдет, но выйти это все равно мысль хорошая. Чем еще можно заняться? Не сидеть же здесь целый день. Долбаное радио, друг, просто куча дерьма. Курить охота, страсть. Плюс живот, охренительно хочется есть. Кончится тем, что он опять в койку завалится. А это дурная привычка, он и так со вчерашнего вечера только это и делал. Давай отрывай задницу от кушетки. Тем более у тебя ни шиша. Спать завалиться-то – проще всего, попытаться переспать все это дерьмо, отсидеться в темноте преисподней; но это вовсе не то, как вот, когда загриппуешь; не надо путать безденежье с гребаным гриппом, друг, знаю, что говорю, в чистилище тебе делать нечего, ты не гриппозный, ты нищий. Так что давай выбирайся отсюда. Плюс еще голова у тебя, друг, никак ты с головой не сладишь; во всяком случае, не с головой Сэмми, друг, при такой вообще недолго с глузды съехать. Плюс тут ведь разные уровни есть. Тут уж как посмотреть. Ну нет у него сейчас ни гроша, делов-то, только до утра и дожить, до пятницы.
Так что ладно. Значит, идем в «Глэнсиз».
Опять же и разомнешься, дашь мускулатуре возможность себя проявить. Все это сидение на месте вредит организму. В «Глэнсиз» закатываются иногда мужики, с которыми можно иметь дело. Глядишь, и Нога подвернется. Или Тэм – можно и Тэма встретить; у Сэмми дома припрятано кой-чего, ему б только барыгу найти. Но сейчас не до этого, это потом. Ему просто, Христос всемогущий, ему просто нужно чем-то заняться, просто нужно чем-то заняться, только и всего, и всех делов, и пошло оно все, ему действительно нужно пошевеливаться, потому как у него дела есть, не может он тут сидеть, потому как подпирают разные разности, такое у них обыкновение, подпирать, и, значит, ты должен быть готовым, даже если ты не готов, даже если тебя измудохали, весь твой организм.
Ну ладно. Ладно.
Сэмми встал с кушетки, выключил радио. Толку от него все едино ноль, от этого тупого ублюдка с его дурацкой долбаной викториной, с идиотскими простыми вопросиками, на которые ни один мудак, похоже, ответить не способен.
Ах, исусе-христе, Элен.
Ладонь Сэмми прижата ко лбу. Дерьмово он себя чувствует. То есть хрен знает как дерьмово, друг. И дело не в том, что разные разности подпирают, все уже состоялось, все состоялось, уже, на хер, подперло. Его отмудохали. Они его отметелили. И это вообще не его организм. Его долбаный организм, друг, это вовсе не его долбаный организм. Ни хера не его.
Сэмми пробирает дрожь, потом он ощупью доплетается до окна, открывает его. Дождя нет; вроде как нет. Зато есть запах, странный какой-то запах. Исусе.
Это же от него так несет. Скорее всего, от него. Он хрен знает сколько времени толком не мылся. Грязный, небось, в жопу, в этом все и дело. Сначала в проулке валялся, потом в крытке. Штаны, когда он прочухался, были мокрые от клятой сырой травы. Если, конечно, он не напрудил. Но это уж нет, наверняка, на хер, нет. Определенно нет, потому что фараоны тогда что-нибудь да сказали бы. Им такие штуки нравятся. Охеренно нравятся. Надо бы ванну принять, но не сейчас, попозже, когда он вернется домой.
Он закрыл окно, повернулся, возвратился к кушетке, от нее к двери, прошел через прихожую в спальню. Рубашка и брюки. Ощупью отыскал те, что с манжетами. Выходные пусть пока полежат, может, он их потом в чистку снесет. Эти, с манжетами, ему не особо нравятся. Но лучше они, чем джинсы, потому как надо же соответствовать образу.
Бриться он, пожалуй, не станет. Оставит до вечера, до после ванны. Почти недельная щетина, вполне может сойти за молодую бородку. Главное – прилично выглядеть. Это главное. Плюс бритье это еще одна морока.
Исусе, а обувка-то! про долбаную обувку-то он и забыл! про эти дерьмовые кроссовки.
Господи-боже. И что теперь делать? Хлебаный идиот, который стянул их с Сэмми, небось и не дотумкал, какие они классные, друг, точно тебе говорю, он же, кретин задроченный, скорее всего, толкнул их за такие деньги, на которые только банку пива и купишь. Потому что некоторые из них ровно такие, зачем им их гребаные головы приделали, никто и не знает, они даже не понимают, чего тырят. Возмутительно, на хер, просто возмутительное поведение.
Сэмми вздыхает. Вот положение, а? Ничего себе положение.
Если у тебя не будет должного вида… тебе необходимо иметь должный вид. И чтобы не только для улицы годился. Для «Глэнсиз» тоже. Нужно соответствовать образу. Нет, ну нужно же. Этот мужик, Сэмми, у него была репутация; он понимал, что такое стиль, точно тебе говорю, а тут старые, пропотевшие кроссовки; ты шутишь!
Ладно. Он разгладил волосы от макушки ко лбу и от висков назад. Если с бритьем не получится, придется тащиться в парикмахерскую. Разве что Элен попробует его побрить, может и попробует.
Ладно.
Ну, хотя бы квартал кругом обойти. Не сидеть же, в самом деле, под крышей. Он все-таки не инвалид. Слепой, это да, но ходить-то пока может. Вышел в коридор, запер за собой дверь и, постукивая палкой, направился к лифту. А палка точно хороша. Единственная проблема – запястье, ну и то, как ты ее держишь. Когда он на пробу прогулялся с ней по квартире, приходилось то и дело перехватывать палку, никак он не мог с ней освоиться; неудобно, неловко; попробовал держать в левой руке, однако запястье все еще работало хреновато, это из-за того, что он врезал мудиле фараону, плюс левой рукой ее никак не удавалось держать правильно и палка втыкалась то в одно, то в другое. Вот если бы у нее была ручка, тогда, может, было б полегче; а сейчас он ее держит примерно как актеры нож в голливудском кино.
Пришел лифт.
Выйдя из него, Сэмми постоял с минуту, соображая, куда повернуть. Значит, выходишь наружу, и если пойдешь направо, до конца дома, тебе надо будет пересечь пустое место, расстояние примерно в…
Хрен его знает…
Ну вот, пройдешь его, и будет другой дом. А как доберешься до его конца, там есть пешеходная дорожка. По ней прямиком на главную улицу и попадешь. Она-то ему и нужна.
Обычно он, выйдя из дому, просто переходил площадь. Большая тихая площадь, она лежала прямо перед домом. Но сегодня он на нее соваться не собирается, он уж лучше обойдет ее по краю, хоть это путь и не близкий. Хрен его знает, как он вчера управился, полный провал в памяти. Ну ладно.
Может, он еще и вернется. Он заключил сам с собой договор – дойдешь до пешеходной дорожки, посмотри, если там ветрище дует, так просто топай назад и возвращайся на свой этаж. Он же не полный мазохист.
Так, ладно, он проталкивается через выходную дверь. Кто-то бьет по футбольному мячу. Сразу же; первое, что услышал, – мальчишки в футбол играют; исусе-христе. Пошел, постукивая палкой, направо; тут где-то полоска травы была. Из квартиры Элен эту площадь не видно, а жаль, он любил смотреть, как мальчишки в футбол играют. Теперь и этому кранты, футбола он больше не увидит. Чтоб их всех в аду поимели. Компенсация, друг, за одно только это тебе полагается компенсация. Нет, это уже без шуток, без шуток.
Отличная палка. Теперь бы еще темными очками разжиться. Палка стучит, довольно приятный звук; вот только она все как-то подрагивает, может, настоящая-то будет покрепче. Плюс белая.
Нет, надо домой идти.
Не доберется он до моста, наверняка заблудится. Бесшабашничать тоже, на хер, не дело. Ненужный риск. Вот что это такое. Все, друг, топай, на хер, домой. Хороший денек и все такое, глоток свежего воздуха, очень мило. Но он лучше домой пойдет, он уже повернул назад, держа палку в правой руке. Какой смысл дурака-то валять. Ну его на хрен. После вчерашнего-то дня. Бар «Глэнсиз»! Кого ты обманываешь, да ты туда и за хлебаный год не доберешься. А доберешься, что станешь делать? Рассказывать о том, что какие-нибудь зудилы наверняка угостят тебя выпивкой, это все хорошо, но с ними же сначала как-то познакомиться надо, это ж первое дело, и делать это придется тебе. Не можешь же ты просто войти туда и сразу начать побираться.
Терпение. Завтра принесут чек. Ты просыпаешься, друг, а он лежит себе на полу в буром конверте. Вот тогда он и выйдет. Прикупит кой-чего. Может, позавтракает где-нибудь, горяченьким; бекон с долбаными яйцами, друг, это вещь, целая долбаная куча, здоровенные сосиски, кровяная колбаса, тоже куча и тоже долбаная, тосты. Вот тогда он все и обдумает, все разложит по полочкам.
Опять же и палка, работает-то она неплохо, и отпилил он ее толково. Просто надо пройтись по ней наждаком, по отпиленному концу, а то он расщепится, кому это нужно. А если он ее малость подкрасит, народу и вовсе будет ясно что к чему.
Ладно.
Сэмми снова обшарил каминную полку – не только в поисках денег, но и на случай, если там лежит записка от Элен. Ему вдруг стукнуло в голову, что она могла просто отчалить куда-то по делам. Малышей, скажем, повидать. Что-нибудь в этом роде. Плюс она иногда ни с того, ни с сего срывалась с места. Было у нее такое обыкновение – особенно после того, как он учинял какую-нибудь глупость. Обещал прийти и не приходил или набирался до бровей. Она от таких вещей просто на стену лезла. И неудивительно. И все-таки иногда оставляла записку. Могла и на этот раз. Идея-то, на хер, неплохая, но как он узнает, оставила или не оставила! Даже если найдет записку, как, на хер, поймет, что это записка! Дичь! Да потом еще придется просить какого-нибудь мудака, чтобы тот прочитал ее вслух. На полке полно клочков бумаги, но ты же не можешь сказать, какой из них что.
Плюс он не терял надежды найти хоть пару фунтов. Элен наверняка держала где-то заначку; она была из таких, из опытных.
А, хрен с ними.
По телику шли десятичасовые новости. По четвергам после них иногда показывали кино; можно было б хоть послушать.
Честно говоря, чувствует он себя вполне пристойно. Особенно если вспомнить последние несколько дней. Во всяком случае, белый флаг он не выбросил, друг, вот что главное. Эти суки, они думали, что могут так просто отхарить тебя; и ты пойдешь и ляжешь посреди улицы.
Не знали они тебя, друг, хоть, похоже, и думали, что знают.
Ноги согрелись; он лежал без носок. Час назад завалился в постель, но потом пришлось встать, потому что заснуть ну никак не получалось. Ванна: да он о ней подумывал, но дальше мыслей дело не пошло. Завтра, завтра он будет в порядке. А сейчас сил нет. Хотел было ноги попарить, однако нашаривать тазик, наполнять его горячей водой и тому подобное – на все это у него сил не было. Взять те же яйца; лежа в кровати, он подумал, подрочить, что ли, немного; и не смог. Он даже попытался зажать яйца в кулак, но те выскользнули из долбаной ладони; странные они какие-то на ощупь, мягкие и вроде как ослабелые, будто болели, а теперь поправляются, будто и он долгое время болел, валялся на больничной койке, долго валялся, но теперь уже на пути к выздоровлению. Правда, к выписке он пока не готов, не готов он пока для этого; душевное состояние у него хорошее, но сам он еще не окреп, организм, значит, пока что нет. Вот это яйца ему и сказали, друг, старые добрые яйца так ему и сказали: иди ты в жопу, тоже, дрочила нашелся, так прямо и сказали.
По телику пошла реклама. Может, все-таки удастся, на хер, заснуть.
Утром его поднял почтальон. Три конверта. Тот, что с чеком, он узнал сразу. Другие два – шут с ними, это письма к Элен; ему никто никогда не писал. На одном прозрачное окошечко, так что с ним не хрен и возиться. А вот в другом присутствовало что-то странное. Попросить, что ли, старика Боба прочитать вслух. Нет, плохая идея. Боб, может, и заслуживает доверия, но его не Боб беспокоит, необязательно Боб. Разговоры пойдут, вот что. Места тут не из лучших. Вечно у кого-нибудь дверь взламывают. Торчки вокруг так и шастают. Эти мудаки приходят словно бы продать тебе то да се, и если тебя нет дома, все, готово дело. Так говорила Элен, правду говорила скорее всего. Самое лучшее, ни хрена никому не говорить, ни одному мудаку. Узнают, что ты ослеп, так и месяца не проживешь. Долбаная неделя, друг, и тебя оберут дочиста. Надо быть настороже.
Ну и проголодался же он, исусе-христе. Почта откроется самое малое через полчаса. Может, еще кофе. Чуть раньше он подумывал, не размяться ли, но это было так, умствование, несерьезная идея, он сразу о ней забыл. Голова у него стала не та, что прежде; привык за последние месяцы к хорошей жизни, форму потерял. Ничего, форму он теперь быстро, на хер, восстановит.
Хрен с ним, с кофе. Другое дело, если бы можно было еще и покурить.
Он вставил в магнитофон кассету. Потом подобрал палку, походил немного, в виде испытания. Где-то в прихожей, в шкафу, было с полбанки белого лака. Ему только одно и требуется – нужную отыскать, там же еще самое малое три жестянки стоят одна на другой.
И продумай свой маршрут, друг, продумай свой маршрут. Значит, так: когда выйдешь на улицу, почта будет на площади слева, – вчера, направляясь в «Глэнсиз», он пошел ровно в противоположном направлении, – почта находится посередине коротенького ряда разных заведений: мини-маркет, контора букмекера, аптека. Заведения все нужные. Тутошняя забегаловка стоит особняком, за углом. Чтобы добраться до автобусов, нужно пройти мимо нее. Улица, по которой ходят автобусы, это другая, не та, что к мосту идет. Всякий раз, как Сэмми отправлялся в город – то есть чуть ли не каждый день, – он сворачивал к мосту, проходил пешеходной дорожкой, она прямо напротив аптеки, которая на другой стороне площади. Звучит сложновато, но если знаешь эти места, все проще простого, а Сэмми их знал хорошо. Или думал, что знал. Может, и не знал ни хера. Но это его, в общем-то, не беспокоило, ни с какой стороны, главное, сосредоточенность, друг, главное не давать мыслям разбредаться. Что и составляет проблему, вечно его куда-нибудь заносит, мозг твой то есть.
Если все распланировать и придерживаться плана. Вот что тебе нужно. Просто держись за него, за план, за маршрут, раз уж ты его составил.
Сэмми готов, он пускается в путь.
Он вышел из лифта, постукивая палкой справа от себя, слева, впереди, прошел входную дверь, не торопясь, потому как спешить некуда, совершенно некуда. Так. Повернул налево, без всяких проблем добрался до почты, вошел внутрь, встал в очередь. Конечно, никаких проблем он и не ожидал. Долбаные проблемы возникают, друг, когда отступаешь от плана. А он от плана не отступал, его цель – хлебаный автобус. Получив деньги, он зашел в мини-маркет, купил унцию табаку, папиросную бумагу, зажигалку; и еще пирожок с мясом, который тут же и слопал. Потом в аптеку. Место довольно коварное, у них там по всему залу шкафчики расставлены. Сэмми иногда заходил туда, покупал всякую всячину для Элен; тампаксы и так далее, таблетки от головной боли; так что где там чего он знал. Ну, не то чтобы знал – просто сознавал, что это опасная зона, я только об этом и толкую. Когда он пошарил вокруг палкой, та сразу ударилась о что-то металлическое. Он остановился и сказал: Мне нужны темные очки.
Ответила женщина: Они прямо за вашей спиной.
Э-э, вы не могли бы выбрать мне какие-нибудь. Какие вам самой понравятся, я к тому, что мне все равно…
Если они держатся на носу, друг, какая, в жопу, разница, как они выглядят. Женщина откопала для него пару, он примерил. Нормально. Протянул ей купюру. Двадцатку. Получив сдачу, он засунул бумажки поглубже в карман. Прикинул, не попросить ли, чтобы она проводила его до остановки автобуса, но нет, на хер, помощь ему сегодня еще понадобится, так что не надо искушать судьбу. Прямо в дверях сорвал целлофановую обертку, свернул цигарку. Но чертова зажигалка никак не желала загораться. Может, ее сквозняком задувало. Сэмми пощелкал несколько раз, придерживая цигарку за кончик и той же рукой направляя зажигалку, чтобы не промахнуться, ни хрена он не мог промахнуться, если б она работала. Может, ему в долбаном мини-маркете липу какую всучили, черт ее знает, друг, во всяком случае, он сдался, свернул за угол и двинулся в сторону главной улицы, стараясь держаться левой стороны, той, где травка растет вдоль бордюра, такой у него был ориентир.
Судя по голосам, автобуса поджидало сразу несколько человек, хороший знак. Но, когда подошел автобус, у Сэмми невесть почему свело от страха живот, он вроде как и с места-то сдвинуться не мог; слышал, что двери открылись, и все равно стоял как вкопанный. Потом все же собрался с силами: Мне нужно в Центральную клинику УСО! крикнул он: это тот автобус?
Тот!
…
Вам, значит, туда?
Ага, сказал Сэмми.
Ну, вот этот вас и отвезет.
Сэмми шагнул вперед. Женщина произнесла: Он слепой, помогите ему доехать!
Чья-то ладонь взяла его за локоть. Мужской голос: Куда вам?
В Центральную клинику УСО.
А, ну этот вас прямо к воротам доставит.
Сэмми подвели к ступенькам, помогли подняться. Центральная клиника УСО, сообщил тот же голос.
Да, точно…
Могу подвезти, сказал другой голос: Если он даст мне шестьдесят пенсов.
Сэмми повернул лицо в его сторону. Вы водитель?
Так мне говорили.
Сэмми сунул палку под мышку, выгреб из кармана какую-то мелочь, протянул ее на ладони; водитель отобрал несколько монет, звякнул кассой, оторвал билет и сунул его в руку Сэмми. Вам покричать? спросил он.
Спасибо за беспокойство.
Сэмми, держась за поручень и прижимая палку к боку, прошел внутрь автобуса. Судя по шуму, народу здесь уйма. Однако он ни с кем не столкнулся. Наверно, уступают дорогу. Рука коснулась очередной стойки, потом повисла в пустоте; это лестница на второй ярус. Вот и хорошо, он полез наверх.
Нет, но курить-то как хочется, правда, просто горло, на хер, перехватывает; он улыбнулся, попробовал пригасить это желание, не получилось; вот дурь: черт с ней, надо залезть наверх, ноги ударяются о ступеньки; но это ничего, друг, это нормально, только, когда автобус тронулся, палка обо что-то ударилась и тряхнуло здорово, ничего, он в порядке, все, на хер, отлично, друг, и ни одному мудаку его не разглядеть, ни одному, ни хера! знаю, о чем говорю, очки, да еще темные, бодрись, друг. Ну вот и залез, вот и залез – и держится изо всех сил за стойку.
Голоса. Ладно. Он постучал вокруг палкой.
Хотите сесть? спросил мужской голос.
Ага.
Вот сюда. Сэмми подвели к сиденью, он плюхнулся, врезавшись в человека, сидевшего у окна. Простите, сказал он.
Ничего.
Женщина!
Я бы не прочь покурить, сказал он. Он уже достал сигарету и вставил в губы. Щелкнул зажигалкой – зажглась, значит, работает. Пальцами придерживая сигарету за кончик, раскурил ее. Затянулся.
Минуту спустя он уже хихикал про себя; просто идиотская мысль насчет того, что в автобусе, может, пусто, всего один человек, а ты этого не знал и, может, выбрал сиденье, где он-то и сидит – она то есть, баба, – и плюхнулся прямо на ее долбаное колено! Простите и все такое! Ты только представь, какая дурь! И он опять не сдержался, фыркнул, люди небось услышали, если они не глухие, на хер! Дичь.
Ох, исусе-христе, исусе-христе. Ну ладно, ладно. Он глубоко затянулся. Почему это он такой, к матери, счастливый! А бог его знает. Может, чертов никотин ударил в голову. Хотя нет, не так уж он и счастлив, не в этом дело; просто доволен собой, просто доволен. Вот же он, в автобусе.
Ты шутишь?
Пока все путем. Ему предстояло принять кучу решений, и кое-какие он уже принял. Отлично справился. Деньги в кармане, а сам он вот он. Не то чтоб он какой-то особенный. Да он и не хотел никогда быть особенным. Не хотел. Какой есть, такой и есть. Его устраивает.
Если надо сделать дело, ты идешь и делаешь его, слепой там или не слепой. Этому Сэмми давно уже научился – ты мужик, ты не слабак. И потом, не во всем из случившегося виноват только он. Кое в чем да, но не во всем. За все отвечать невозможно; только не в этом мире: в этом мире, друг, точно тебе говорю, ты никогда не отвечаешь за все. Но с другой стороны, и никаких других мудаков винить не приходится, сам все сотворил, так что просто жми, на хер, вперед, занимайся делом, мать-перемать.
Сэмми откинулся на спинку сиденья. Потом свернул еще две сигаретки и засунул их в кисет.
Уф. Видела б его Элен. Ничего особенного, конечно, но все-таки человек при деле.
Да, размяк ты, брат, тут и говорить не о чем. Зарядку надо делать, друг, пора бы начать, пора бы, на хер, начать. Вот разберется с деньгами, перерегистрируется. А там кто знает. Кто знает.
Центральная клиника!
Автобус остановился.
Центральная клиника!
Ах, чтоб тебя! Сэмми поспешно вскакивает. Не ждал, что будет так скоро. Простукивает себе дорогу к лестнице, и тут палку заклинивает, друг, заклинивает: долбаная дрянь. Впору и запаниковать, но он в порядке, не надо было торопиться, спешить, просто перестань спешить; хорошо, ладно. Вон и водитель на твоей стороне, водителя винить не в чем. Вот только Сэмми нужно спуститься по лестнице, а это ни хрена не просто, наверх-то залезть пустяк дело, а тут хрен знает что, идешь прямо по воздуху, вот что ты делаешь, еще и палка застряла, на хер, где-то ее заклинило. Он ударяется плечом о перегородку и останавливается, чтобы перевести дыхание.
Ты в полном порядке, друг мой!
Сэмми двигает дальше.
Не волнуйся, ты в полном порядке.
Он спустился с последней ступеньки, прошел вперед, не отрывая руки от поручня, вот и стойка.
Все нормально?
Сэмми не отвечает, держится рукой за левую половинку двери, сходит на мостовую; на мостовую, нужно побыстрее найти бордюр, быстрее, друг, давай, давай. Он как-то раз видел, один мужик соступил с тротуара, Аргайл-стрит, субботний вечер, господи-боже, везде толпа, а по улице, по самому краю, гнал автобус и долбаное боковое зеркальце шарахнуло того мужика прямо по долбаной черепушке, кровь так и брызнула, а треску! водитель выскочил из кабины, хотел помочь, но несчастный ублюдок тут же задал стрекача, думал, наверное, что наделал делов, повредил хлебаную собственность компании или еще чего, а водитель намерен выяснить его имя, ну он и дунул по улице, чистый спринтер, только мотало его из стороны в сторону – Сэмми как сейчас его видит, бедного ублюдка, весь, на хер, в кровище.
О чем говорить, все может случиться. Заранее ж не знаешь. И просто махать во все стороны палкой тоже нельзя, так недолго и оглоушить какого-нибудь мудака. Что Сэмми точно нужно – так это собака. Вот разживется он собакой
Какие-то люди впереди. И все вроде идут в одну сторону. Хорошо бы от них не отстать. Проходная тут, за углом. Он сюда пару раз уже попадал. Ненадолго. Стучи палкой, не отвлекайся.
Господи, их уже и не слышно, людей-то, удрали вперед, ну и пусть их, не имеет значения.
За углом пустота, Сэмми, шаря палкой, повернул и пошел, стукая справа и слева; пошел. Кто-то громко крикнул:
Эй!
Он продолжал идти.
Эй!
Не собирается он останавливаться, потому как ты ж не знаешь, тебя это окликают или не тебя, не знаешь, откуда тебе знать, неоткуда, на хер, вот и иди себе дальше, друг.
Эй вы, в темных очках!
Чтоб тебя…
Эй! Вы!
Сэмми остановился. Это вы мне?
Ага. Куда это вы так торопитесь, а?
…
Сюда, знаете ли, полагается через дверь входить.
Сэмми вытащил кисет, извлек из него сигаретку.
Здесь не курят.
Я же не в здании.
Да, но вы на территории.
Но не в здании.
Неважно, спрячьте.
Сэмми прячет.
Входить положено в дверь.
…
А вы прямо в ворота поперлись.
Сэмми поворачивается к нему, жалея, что не может видеть ублюдка.
Куда вы направляетесь?
Вы из охраны?
Куда направляетесь?
В Инвалидку.
Да, но в какое отделение?
Для слепых.
А, в глазное. Направление есть?
Что вы сказали?
У вас есть направление?
Мне сказали прийти сюда.
Я спрашиваю, есть у вас направление? – талдычит свое мужик, теперь он, похоже, подошел поближе.
Я не знаю, говорит Сэмми.
Карточку вы получили?
Карточку?
Если есть направление, должна быть карточка.
Карточки мне не дали.
Так, хорошо, направления нет. Тогда вам в неотложку. Как ваша фамилия?
Сэмюэлс.
Первая буква имени?
С.
Через минуту в руке у Сэмми оказывается карточка, а мужик говорит: поднимитесь на тротуар.
Сэмми идет на голос, пока не ударяет палкой по бордюрному камню, поднимается.
Отнесете карточку в неотложную.
А где она?
Значит, так: пойдете прямо, тридцать ярдов, там налево будет вращающаяся дверь. Как войдете в нее, справа приемное отделение. Отдадите им карточку. При ходьбе держитесь внутренней стороны тротуара. И в следующий раз проходите через дверь.
Сэмми шмыгает носом и говорит: Так я же слепой, я ее не увидел.
Хорошо, ладно, но в следующий раз…
Извините, я ее просто не видел.
Ладно-ладно, идите.
Я же слепой, понимаете, я не могу ее увидеть.
…
Я же не знал.
Ладно, хорошо, идите.
Точно говорю, я слепой, ну и не увидел ее, дверь, значит, потому и пошел в ворота… Сэмми сжимает палку. Слышны какие-то шаги, то ли это охранник отходит, то ли еще кто. Я очень извиняюсь, говорит он, очень, очень извиняюсь.
Да идите же вы.
Сэмми улыбается. Ублюдок хлебаный. Ладно. Он трогается с места. Чек обналичен, башли в кармане. И он уже здесь. Отлично. Надо было шаги посчитать. Ну, не важно, не важно.
Скрипучий, визгливый шум. Осторожнее! кричит кто-то.
Сэмми замер на месте. Шум проследовал мимо. Он шел и шел, пока не дошел до стены и не услышал какое-то шипение. Автоматическая дверь. Пройдя через нее, почувствовал: воздух тут совсем другой, и под ногами все иначе, полы, постукал по ним, попал по чему-то твердому. Извините, сказал он, я слепой, ищу отделение неотложной помощи, вы не могли бы сказать мне, куда идти.
Не ответили, похоже, тут и нет никого. Пошел дальше. Хотя какое-то бормотание слышится, он, на хер, расслышал его, бормотание. Снова остановился. Простите, сказал он, э-э… я слепой и э-э, хотел бы
Бурчат-то за спиной. Он повернулся и сказал: Я ищу отделение неотложной помощи.
Вы уже в нем, ответил женский голос.
А, хорошо.
Очередь там, сзади вас.
А у вас нет отдельной приемной для слепых? Мне нужно в отделение для незрячих.
Не знаю.
Как-то недружелюбно она это сказала. Сэмми пожимает плечами. Отходит налево. Бормотание нарастает. Это очередь? спрашивает он.
…
Эй, поставьте меня кто-нибудь в конец очереди.
Он прямо перед вами.
Сэмми тычет палкой и нашаривает ее, скамью, значит. Долбаная жизнь, друг. Вздыхает. Воняет чем-то; застарелым потом, обычное дело.
А, ладно, все равно ведь ни хрена не известно, сколько он тут просидит. Так что и дергаться нечего.
Очередь двигалась шаг за шагом, когда кто-нибудь отходил от стола, все переползали вперед, заполняя возникшую пустоту.
Сэмми спел про себя пару песенок, но этого занятия надолго не хватило, и вдруг поймал себя на том, что думает об отце – ни с того, ни с сего, без всякой причины. А там и о маме. Он просто видел их двоих, вместе; как будто они прямо тут. Казалось, все это было так давно. Целую жизнь назад, в юные годы; хрен знает что, друг. Рано или поздно он тоже помрет. И тогда его мальчишка будет вот так же думать, думать о Сэмми. Какого хрена. Жуть, просто долбаная жуть. Он ее уже много лет как не видел, бывшую-то свою, мать мальчишки. В памяти она оставалась прежней, двадцатилетней девчонкой. Хотя они почти ровесники. Отец с ней знаком не был, и о Питере ничего не узнал, о малыше, ни хера о нем не знал, помер еще до его рождения. Позор, да и только. Как подумаешь об этом, тоска берет. Исус всемогущий, и мама тоже; как она сидела с малышом на коленях; Сэмми помнил, какое странное у нее было лицо. Мать-перемать, хрен знает сколько лет назад, хрен знает сколько…
Где-то поблизости разговаривали. Молодой парень громко рассказывал о какой-то драке, сквернословил вовсю, чтобы все поняли, какой он крутой, как круто приходится людям там, откуда он родом.
Тут ты подумал о тех, кто сидит рядом, о том, что он все про них, на хер, знает, о том, каково им приходится в жизни. И тебе стало смешно; этот молодчик, будь у него хоть немного долбаных мозгов, чтобы задуматься об этом, об окружающих людях, ни хрена бы так не горланил. Одну вещь ты затвердил накрепко; всегда отыщется человек, которому хуже, чем тебе.
В крытке таких было навалом, горлопанов. Сначала раздражали, но потом ты переставал на них злиться; в общем-то, ты их даже жалел, их болтовня просто показывала, до чего же многому им еще предстоит научиться. А некоторые из них так ничему научиться и не успели, ублюдки несчастные.
В конце концов, подошла его очередь, он отдал карточку, назвал свой адрес, сообщил нужные сведения. Глазное отделение на пятом этаже, надо подняться на лифте. Он сказал: Никто не покажет мне, где это?
За спиной Сэмми кто-то зашебуршился, рука взяла его за запястье: Я вас провожу, произнес женский голос. И она повела его за собой. Сэмми понимал, что может отдавить ей пятки, и потому топал мелкими шажками. Рука женщины сместилась. Теперь она тянула его за рукав. Ему стало неудобно. Лучше бы она отпустила его, он бы и сам справился. А сегодня вроде потеплее, сказал он.
Да… Тут она остановилась, выпустила рукав, и Сэмми услышал, как она нажимает кнопку. Идет, сказала женщина.
Двери, погромыхивая, отворились, женщина подтолкнула его в плечо; он вошел в лифт, услышал, как она нажала внутри кнопку, и торопливо выскочила наружу. Двери закрылись. Лифт пошел вверх. Охеренно мило! сказал он. И кашлянул, словно бы прочищая горло. Это он вроде как пояснил, почему говорит так громко. Он знал, что в лифте никого нет, но, может, его прослушивают, на хер, или тут телекамера установлена, очень даже может быть. И тот самый мудак из охраны прямо сию минуту сидит себе и пялится на него, посмеивается над тем, что Сэмми заговорил, а говорить-то и не с кем. Да и хрен с тобой, сказал Сэмми и повертел туда-сюда головой. Хрен с тобой.
Лифт остановился, двери открылись, и Сэмми быстро выскочил наружу, ловко у него получилось. Двери закрылись. Сэмми постоял, подождал. И услышал чьи-то шаркающие шаги.
Привет, сказал кто-то, мужчина.
Это глазное?
Оно.
А куда мне идти?
Да я не знаю.
Это пятый этаж?
Ага.
Тут вроде должно быть глазное.
Тут и есть, сам только что из него.
Во… Так вы тоже слепой?
Ага.
Господи. Рад знакомству. Сэмми переложил палку в левую ладонь, протянул правую, чтобы пожать мужику руку, но не нашел ее.
Это лифт сейчас уехал?
Да, сказал Сэмми; простите, надо мне было его задержать.
Мужик что-то пробормотал.
Сейчас вызову. Сэмми повернулся, нашарил кнопку, нажал. Это не займет и минуты.
А-а, исусе-христе… вздохнул мужик. Ну и лестницы тут, вы с ними поосторожнее.
Да, хорошо.
Все время боишься сковырнуться.
Какого хрена, у вас, что же, и палки нет?
Нет.
Надо завести…
Мужик посопел.
С палкой совсем другое дело.
Да я уже записался в очередь, пробормотал мужик.
Здесь?
Не-а.
В каком-нибудь благотворительном обществе?
Ага.
А в каком?
…
А?
Да там, на Сент-Винсент-стрит. Мужик опять посопел. Брюзгливый какой-то голос у мудака. Некоторые идут на Галлоугэйт, сказал он, ну это которые педы, не в обиду будь сказано.
Я не пед.
А, ну да, а если и пед, я ж не в обиду говорю. Мужик посопел еще. Просто у них свои заведения.
Двери лифта открылись. Ну вот, сказал Сэмми.
Можете подержать его, пока я не войду?
Да! Сэмми сунул в лифт палку; двери захлопнулись, потом снова с громыханием открылись, снова захлопнулись, но Сэмми успел ухватить одну створку и придержал ее. Скажите, когда войдете, попросил он.
Эти чертовы лестницы… Вы где?
Здесь; идите на голос, я рядом.
Все время боишься свернуть не туда, понимаете? Тут он здорово двинул Сэмми рукой.
Полегче, приятель.
Извините.
Порядок?
Осталось чертову кнопку найти… Двери закрылись. Открылись опять. Ублюдок недоделанный, пробормотал мужик. Двери закрылись.
Сэмми подождал с минуту, потом пошел от лифта. Открылась какая-то дверь. Сэмми позвал: Але?
Да? ответил вежливый мужской голос.
Я ищу глазное отделение.
У вас оба глаза не видят?
Да.
Надо просто дойти до конца коридора и повернуть налево; мимо не пройдете.
Отлично, спасибо… Добравшись до места, он отыскал дверную ручку и вошел.
Садитесь, пожалуйста.
А куда?
Сейчас покажу.
Извините.
Судя по голосу, мальчишка лет восемнадцати-девятнадцати. Взял Сэмми за руку, потом приложил его ладонь к краешку мягкого кресла и попросил сесть. Сэмми опустился в кресло и провалился в него – его мотнуло назад, ноги оторвались от пола, – он вцепился, уронив палку, в подлокотники, дернулся вперед, достал подошвами пол.
Направление у вас есть?
Сэмми отдал мальчишке направление и услышал, как тот защелкал по клавишам компьютера.
Итак, вы хотите записаться на пособие по утрате трудоспособности, основание – отсутствие зрения: оба глаза?
Да.
Мальчишка снова застучал по клавишам и продолжал стучать после каждого ответа Сэмми.
Это у вас врожденное? спросил он.
Нет.
Результат непредвиденных обстоятельств или вы были заранее осведомлены о возможности такого исхода?
Нет.
История болезни у вас имеется? Вы посещали окулиста?
Нет.
У вас никогда не было глазных заболеваний?
Никогда.
Совсем никаких?
Таких, чтобы я запомнил, нет. Вообще-то глаза у меня всегда малость косили, – в дартс плохо играл, никак не мог в доску попасть, хоть тресни! Но в очках никогда не нуждался, и на других вещах, на игре в футбол или еще на чем, это не отражалось.
А, так вы занимались спортом… играли в футбол?
Да, было дело.
Но теперь не играете?
Сэмми улыбнулся: Нет.
Вы перестали играть по причине утраты зрения?
Что? нет – просто перестал.
А за кого вы играли под конец?
…
За кого вы играли под конец?
Ну, за пару команд.
Назовите последнюю.
Да вы их не знаете, это английский клуб.
Английская команда?
Да.
Как она называлась?
Вы ее не знаете. По-моему, она распалась.
Все же вам придется сообщить ее название, если, конечно, вы его помните.
…
Так помните?
Она входила в Провинциальную лигу Эссекса.
А название?
«Нортфлитские Любители».
Как долго вы в ней состояли?
Э-э, около, э-э, четырех-пяти месяцев.
Как давно это было?
Э-э, десять лет. Даже одиннадцать.
Вы проходили у них полное медицинское обследование?
Э-э, да, наверное.
Вы были безработным, когда играли у них?
…
Вы были безработным, когда играли у них?
Сэмми шмыгает носом: То так, то этак.
Вы регистрировались в Бюро по трудоустройству?
Время от времени: да.
В то время, когда вы были зарегистрированы, получали ли вы от клуба какие-нибудь денежные суммы, пособия или вознаграждения?
Никаких.
Совсем никаких?
Совсем, это была чисто любительская команда.
И вы регистрировались на предмет полной занятости?
Да.
По профессии вы строительный рабочий?
Ну, не по профессии, я чернорабочий – полуквалифицированный.
Находясь в тюрьме, вы записывались на общие работы?
Да.
Вас никогда не переводили на необременительную работу вследствие физической дисфункции или физической неспособности?
Нет.
Или непригодности медицинского характера?
Никогда.
Где вы работали в последний раз?
Здесь, Городская программа трудоустройства.
А до того?
О, господи, все-то ему расскажи… Э-э… это было в Лондоне, одиннадцать лет назад.
И вы ушли оттуда, потому что работа закончилась?
Ну да, работа закончилась, меня и уволили.
Но не вследствие физической дисфункции или физической неспособности?
Нет.
Когда вы в последний раз ходатайствовали о пособии по болезни?
Да уж сто лет как не ходатайствовал.
Так когда?
О, господи, ну, где-то лет одиннадцать-двенадцать назад.
И в настоящее время вы не работаете?
Нет.
Но вы зарегистрированы?
Да.
На предмет полной занятости?
Да, но… я хотел сказать, да, но не сейчас, я буду перерегистрироваться.
Когда вы лишились зрения?
На прошлой неделе, в понедельник или во вторник – думаю, во вторник.
Вы хотите сказать, что тому имелась причина? Или просто так вдруг случилось?
Ну, должна же быть какая-то причина.
И как вы считаете, какая?
Э-э…
Могу я проставить «не знаю»?
Э-э, да.
Вы в это время находились в полиции, под арестом?
Да, правильно.
Вы еще не обращались к врачу?
Нет.
Было ли ваше расстройство диагностировано какими-либо специалистами-медиками?
Пока что нет.
Собираетесь ли вы подать гражданский иск о получении компенсации в связи утратой зрения?
Нет.
Ни сейчас, ни в любое другое время?
…
Ни сейчас, ни в любое другое время?
Нет.
После этого малый некоторое время молотил, не задавая вопросов, по клавишам; потом вдруг спросил: Послушайте, эта лига в Эссексе, она как, ничего? марку держит?
Да неплохая. Во всяком случае, была в мое время. Пара отставных профессионалов, и все такое. Не думаю, чтобы вы о ней когда-нибудь слышали.
Это да. А здесь вы никогда не играли?
Мальчишкой.
За кого?
Да за пару команд. Сэмми шмыгает носом. Вы, похоже, и сами играете?
Ага. У нас в отделении есть команда. Но я играю и еще за одну.
Здорово.
Церковная лига.
О, господи, добрая старая Церковная лига! Там крепкие были ребята.
Да и сейчас есть!
Сэмми усмехается.
Вы знаете, я уже выходил за нее на поле.
И правильно, сынок. Пока тебе это нравится, надо играть, точно говорю, пока нравится. Господи, я и сам-то только игрой и жил. Если бы я попытал счастья… А так, из скаутского возраста я вышел, ну и бросил это дело.
А что случилось?
Да просто бросил. Дураком был. А вы?
Ну, я пару раз участвовал в отборочных матчах.
Да ну?
Пока ничего из этого не получилось. Правда, мной заинтересовался клуб юниоров, но я решил переждать пару месяцев.
И правильно, да, раз вы подаете надежды. Только не бросайте.
Да нет, занятие классное, я думаю показаться им в конце сезона.
Надо просто понять, нравится тебе это или нет, это самое главное. Я и теперь скучаю по игре.
Некоторые еще играют в вашем возрасте.
Я знаю.
Жаль, что так вышло с глазами.
А, собственная моя глупость, сынок, малость повздорил с фараонами; ну, они меня и отметелили. Сэмми пожимает плечами. Знаете, как бывает – я наглупил, и они тоже.
Они вас избили?
Ну да.
И вы говорите, по вашей глупости?
…
Малый опять начинает стучать по клавишам.
Вы что, записываете это? спрашивает Сэмми.
Да.
Эй, лучше не надо.
Я обязан, мистер Сэмюэлс.
Почему?
Потому что это существенно.
…
Мы обязаны это делать.
Сэмми шмыгает носом. Что, уж и пропустить ничего нельзя?
Можно, но не в подобном случае. Предполагается, что, если человек не хочет чего-то говорить, он молчит. А сказанное вычеркивать не положено. У меня нет таких полномочий; я всего лишь провожу предварительный опрос. И не имею права решать, что существенно, что нет.
Насчет футбола вы же ничего не записывали.
Потому что это было несущественно.
…
Ну ладно, хотите сказать что-нибудь еще?
…
Нет?
Сэмми почесывает подбородок; отыскивает палку и с ее помощью выбирается из кресла. Слышно, как юноша встает и обходит стол, направляясь к нему:
Я провожу вас к ОАИ,[14] говорит он. Пожалуйста, возьмите меня за руку.
Что?
Он кладет ладонь Сэмми себе на запястье. Нервы у Сэмми натянуты охеренно, но ему все-таки удается сладить с собой и не жать слишком сильно. Запястье у малого тонкое, Сэмми мог бы сломать его одним резким ударом. Юноша куда-то идет, и Сэмми с ним вместе. Жутковатое ощущение. Сэмми отродясь ни с кем так не ходил. Смешно, с виду он вроде бы сам собой распоряжается, ан нет, потому как ведут-то его, и все-таки это его рука держит чужую, а не наоборот. Проходит минута, прежде чем он вспоминает, что разозлен. Палка ударяет в дверь. Юноша открывает ее, проводит в нее Сэмми и подводит к креслу. Посидите пока здесь, говорит он, это недолго.
…
Все в порядке?
Сэмми отнимает руку, опускается в кресло, приготовляясь к тому, что опять провалится.
Все в порядке, мистер Сэмюэлс?
Сэмми шмыгает носом. Послать бы их всех подальше. Он даже не злится больше. Просто хорошо бы мальчишка отвалил прямо сейчас, пошел бы своим долбаным путем.
Он кладет палку на пол, садится, держась за подлокотники. Слышатся удаляющиеся шаги.
Как бы там ни было, друг, это его дурацкая долбаная вина, точно тебе говорю, это я о том, что ты балабон, просто-напросто балабон.
А, к черту. Покурить бы сейчас, вот что. Вряд ли у них тут курилка имеется. Хотя, может, и есть, для персонала. Он начинает напевать, потом умолкает. Ни одного херовенького звука, ничего. В последнем кабинете было тихо, а здесь и вовсе ничего не слыхать. Может, тут и нет никого, может, он один. Тут непременно должно валяться разное зелье. Все-таки кабинет, знаю, что говорю, значит, должно. То да се. Он нащупывает палку, поводит ею вокруг, не вставая: палка ударяется обо что-то, о мебель.
Глупо даже думать об этом. Да наверняка, стоит встать и начать шарить по столам, долбаная дверь тут же и откроется. При его-то везухе, друг, точно тебе говорю, так оно, на хер, и будет. Самое лучшее – расслабься, пусть оно как валялось, так и валяется. Да и что ты тут найдешь! хлебаные карандаши и прочую херь.
Плюс камера небось работает, мать ее, ты шутишь!
Сэмми зевает. Исусе, ну и устал же он, друг; любое движение дается с трудом. Зевает снова; это все кресло, до того оно, на хер, уютное; сначала-то вроде нет, а после привыкаешь; начинаешь с того, что просто сидишь, но постепенно откидываешься, и почти уж лежишь, как на склоне. И хочется обувь сбросить. Еще зевок. Исусе-христе. Да и тепло тут, как будто они центральное отопление врубили на полную мощность.
Вообще-то ему было с чего устать, посидеть пару минут с закрытыми глазами, чуток вздремнуть – это самое то, что надо. Столько всякой херни на него свалилось; и потом, он же не на краю обрыва лежит, с которого можно ненароком свалиться, это кабинет, и вокруг всего-навсего люди.
Что и составляет гребаную проблему, так что ты лучше будь начеку, друг, начеку.
Начеку, как хрен знает что, вот каким тебе следует быть, друг. Он сел, наклонился вперед, оперся локтями о бедра, выдохнул, вдох, выдох. Свежий, блядь, кислород. Потому как все тут просто старается тебя усыпить. Для того все и придумано; они тут хитрые, на хер, в УСО-то, все придумано для того, чтобы твои долбаные мозги перестали работать, чтобы ты думать не мог, если вдруг соберешься составить какой ни есть план. Так что необходимо любой ценой оставаться начеку. Тебе нужны все твои органы чувств, все до единого, друг, точно тебе говорю. Сэмми както читал книжку про летучих мышей; слух у них немыслимый, чего-то там ультразвуковое или еще какая херня, они вроде как изобрели, чтобы скомпенсировать слепоту, свои собственные радары. Или вот еще, господь всемогущий, армейская программа была по телику, так там один слепой мужик стоял по одну сторону стены и все знал, что творится по другую, просто улавливал, что происходит в другой комнате, где какие люди стоят и все такое – вроде того мудака, который вилки умеет гнуть. Да только вилки гнуть это вроде концерта самодеятельности в «Палладиуме»[15] по сравнению с тем, что вытворял тот слепак, он словно развил в себе еще какой-то орган чувств. Очень на то походило. Так что, может, и такие, как Сэмми, тоже на это способны. Может, стоило в детство впасть; те первые несколько часов ты только и знал, что вопить да ногами лягаться, прокладывая дорогу в мир. Потому как все же рождаются незрячими. Сэмми помнил, как увидел малыша Питера в больничной люльке, как беспокоился, все ли у того в порядке, потому что сразу-то не поймешь. Глаза их видишь, но как понять, будут ли они, на хер, работать, ну вроде как: ты видишь магазин, набитый ботинками, но ведь ни один из них ни хрена не ходит. Ну и прочее все, и все разное.
Вы мистер Сэмюэлс?
Да. Сэмми вздергивает голову; он и не слышал, как она подошла.
Тогда будьте добры, сделайте шаг вперед.
Она, должно быть, совсем рядом. Чуть попахивает духами или еще чем, может, свежим мылом; ощущение полной и абсолютно охеренной чистоты, друг, так и видишь ее – блузка на шее расходится, верхние две пуговицы расстегнуты, намек на сладкую тайну, клевая юбка, жакетик, украшения и этот, как он, на хер, называется, э-э… – класс или как-то там еще, не знаю, стиль; Сэмми вылезает из кресла, следуй за этим шелестом; любой твой каприз, бэби, давай. Куда? спрашивает он.
Стул слева от вас, между столами.
Сэмми на ходу постукивает палкой. Налетает на что-то. Больше похоже на обеденный стол, чем на письменный, Сэмми обходит его кругом. Еще один такой же, а может, этот как раз и письменный. По стуку сказать трудно. На долю минуты он останавливается.
Теперь немного влево, говорит она, между столами.
Исус всемогущий, куда тут налево, о чем она? Он тычет вокруг палкой, пока не обнаруживает пустоту, смещается в ту сторону, проход узкий, левое колено обо что-то ударяется.
Стул прямо перед вами, садитесь.
Стул оказался самый обычный, и на том, мать вашу, спасибо, потому как проверить его он позабыл. Сэмми сел, выпрямился, чтобы дать отдых спине, рука лежит на палке.
Вы заявляете об утрате зрения на обоих глазах, так, мистер Сэмюэлс?
Правильно. Сэмми вертит головой, кажется, будто ее голос доносится откуда-то сбоку.
Что именно включает в себя утрата зрения?
Ну, я просто ничего не вижу. Он пытается подвинуть стул, но тот вделан в пол.
Что в точности вы подразумеваете, все вообще?
Да.
Вы совсем ничего не видите?
Нет. Сэмми снова сдвигается; голос определенно исходит теперь из другого места, такое ощущение, что она ходит вокруг него.
И вы говорите, что это произошло совершенно неожиданно? Да.
Без каких-либо признаков прогрессирующего ухудшения?
Нет, все было, как я уже говорил вашему молодому человеку, я проснулся и все, ничего не вижу.
Некоторое время стоит молчание, теперь, когда она задает следующий вопрос, голос звучит ближе и прямо перед ним: И это случилось в то время, когда вы находились под арестом в полиции?
Правильно.
Вы заявляете, что работники полицейского управления подвергли вас физическому избиению?
Как?
…
Что вы сказали?
Они вас отметелили?
Они меня отметелили?
Так здесь записано.
Вообще-то мне эта формулировка не нравится.
Я лишь зачитываю то, что вы сказали в ходе предварительного собеседования; наш сотрудник ввел эту фразу в кавычках, дабы указать, что это ваши собственные слова. Вам они кажутся неверными?
Послушайте, я же не могу точно помнить, что я сказал; насколько я знаю, я просто сказал, что лишился зрения в прошлый понедельник или во вторник – проснулся и все, готово.
Вы отрицаете, что прибегли именно к этим словам?
Я не знаю, не могу припомнить; но слов «физическое избиение» я не употреблял, это я помню точно.
Сэмми сжимает палку.
Она продолжает: Здесь введена фраза «они меня отметелили» и введена именно как цитата. Однако это разговорное выражение, и не всякий из тех, кому предстоит разбирать ваше заявление, сможет понять, что оно означает. Я сочла правильным использовать в качестве его истолкования «физическое избиение», однако, если вы предпочитаете что-то другое… можете вы что-нибудь предложить?
Это была драка.
Прошу прощения?
Послушайте, как там у вас записано?
Они вас отметелили.
Могу я это изменить?
Простите, нет, однако вы можете добавить что-либо с целью пояснения; если вам хочется пояснить, что вы имели в виду, вы можете это сделать.
Сэмми потирает подбородок, так что кожа и мясо перекатываются по кости. Надо было побриться, тут он промахнулся. Он шмыгает носом, потом говорит: Меня подвергли физическому принуждению.
Она вводит это в компьютер, одновременно произнося:
Тем не менее ваши собственные слова так и останутся в этом документе, мистер Сэмюэлс. Хотите добавить что-нибудь еще?
Нет, оставьте как есть.
Хорошо. Итак, существуют две группы дисфункциональных расстройств, к одной относятся те, причина которых допускает проверку, к другой – подпадающие под категорию псевдоспонтанных. Расстройства, входящие в первую группу, позволяют заявителю претендовать на пособие по утрате трудоспособности, расстройства же, относящиеся ко второй, этого не позволяют. Тем не менее и те, и другие дают заявителю право на пересмотр его или ее физического состояния в целях регистрации для работы, сопряженной с полной занятостью, при условии что дисфункциональное расстройство будет должным образом установлено.
Он лезет в карман за сигаретой, но вовремя спохватывается.
Итак, мистер Сэмюэлс, насколько я понимаю, компенсации вы не требуете.
Правильно.
Угу-м.
…
Теперь она, говоря, все время стучит по клавишам: То обстоятельство, что вы не требуете компенсации в отношении предположительного физического принуждения, может быть воспринят некоторыми как непоследовательность, я просто хочу, чтобы вы это понимали.
Послушайте, я говорю, что приобрел это расстройство из-за физического принуждения, оно не было спонтанным, ну то есть я же не без всякой причины зрение потерял, какая там причина, я не знаю, но какая-то быть должна. Вот я и пришел, чтобы это дело зарегистрировать. Я хочу сказать, что больше ничего и не делаю, просто регистрируюсь, как я и хотел; я же не лезу внаглую, если мне положено пособие, значит, положено. Нет, значит, нет. Это все, что я говорю, понимаете?
Ну хорошо, мистер Сэмюэлс, полицейское управление обладает полномочиями подвергать задержанного принуждению и, разумеется, если задержанный приобретает при этом дисфункциональное расстройство и устанавливается, что это расстройство является следствием примененного к вам принуждения, задержанный получает право подать в управление ходатайство о получении пособия по утрате трудоспособности, после чего, если ходатайство удовлетворяется, он это пособие получает.
Ну да, все так, я же это самое и говорю, мисс, это было принуждение, они подвергли меня принуждению, и я ослеп, ну то есть я с этим согласен. Сэмми снова тянется за сигаретой и снова спохватывается.
Однако я хотела бы указать вам на некоторую непоследовательность сказанного вами, мистер Сэмюэлс: с одной стороны, вы говорите, что все дело в этом; с другой, я легко могу представить себе людей, которые спросят: хорошо, если это правда, почему он не предпринимает никаких действий?
…
Почему он не предпринимает никаких действий?
Как это, я предпринимаю действия, я же вот пришел к вам, чтобы получить пособие.
Эти люди будут исходить из предположения, что всякий, кто, по всей вероятности, получил дисфункциональное расстройство, находясь в руках другого человека, должен был бы предпринять против этого другого действия, позволяющие получить должную компенсацию.
Сэмми улыбнулся, покачал головой. Послушайте, мисс, я же вам говорю, полицейские не собирались лишать меня зрения, ну то есть если бы они набросились на меня с бритвой и полоснули меня по глазам, тогда я точно потребовал бы компенсации, по совести, понимаете, но они же этого не сделали, они подвергли меня физическому принуждению, а кончилось тем, что я получил расстройство. Если бы все было намеренно, если бы они намеренно это сделали, тогда да, – компенсация, тогда бы я сразу ее и потребовал, не сомневайтесь. Так? Я без всякого нахальства говорю, я вам признателен за то, что вы мне все объяснили.
Некоторое время она занимается только компьютером.
Я просто хочу оставить все, как есть, бормочет Сэмми и бросает взгляд на запястье, да только часов там все равно ни хрена нет, а и были бы, он бы их не увидел. Долбаное курево, друг, они здесь тебе даже покурить, на хер, не дают.
Вы должны также понимать, мистер Сэмюэлс, что если предположительное расстройство является, как вы и утверждаете, результатом физического принуждения и официально признается таковым, то применительно к названному принуждению возникает вторичный фактор, причем он может в дальнейшем оказаться первичным, а именно: какая причина обусловила это принуждение…
Вы вроде как хотите узнать?
…
Хотите узнать, что это было за принуждение?
Нет, мистер Сэмюэлс, этого я знать не хочу, однако вы должны понимать, что все сказанное вами способно бросить тень сомнения на вопрос о причинной обусловленности; вы можете попасть в незавидную ситуацию, в которой вам будет, по всей вероятности, сказано, что причиной предположительного расстройства были вы сами, что вы и есть его первопричина.
Сэмми знал, что к этому все и идет. Охеренно хорошо знал. Это ж очевидно, на хер. Он прикусил заусенец на большом пальце левой руки.
Вы хотели бы добавить что-либо?
Вечно одно и то же. Он скрещивает руки на груди.
Мистер Сэмюэлс?
А?
Вы хотите добавить что-либо?
Сэмми наклоняется вперед, стискивает ладонями колени: Я говорю, что было физическое принуждение, так? и в результате я ослеп, потерял зрение: вот и все, что я говорю.
…
Что же тут неправильного?
Вопрос не в том, правильно это или неправильно, мы просто заполняем бланк письменного ходатайства.
Вы сказали, что я должен потребовать компенсацию?
Прошу прощения, мистер Сэмюэлс, ничего подобного я не говорила.
Так чего же тогда? Я к тому, что послушать вас, так мне и дергаться-то не стоит. Ну то есть по существу, так вы и говорите, не дергайся, вот все, что вы говорите, Христос всемогущий, я же не того, я хочу сказать – давайте разберемся; вот он я, говорю, что ослеп, я знаю, что полицейские в этом не виноваты, они всего лишь исполняли свою чертову работу, откуда им было знать, что случится, неоткуда, они и не знали, я их не виню, вот в этом во всем, все было ни черта не намеренно, понимаете, я это признаю, господи… Сэмми трясет головой и тут вдруг осознает, что она молотит по клавиатуре. Вы что, записываете за мной?
Прошу прощения?
Исус всемогущий. Извините… Слушайте, мисс, я же не знал, что вы станете все записывать, я к тому, что…
Вы желаете изъять что-либо из сказанного? Просите, чтобы я что-то изъяла?
Да я и не помню, чего наговорил.
Хорошо, тогда, может быть, хотите что-то добавить…
Сэмми шмыгает носом. Протирает глаза. Зудят. Он вовсе не хотел заводиться. Да и чего заводиться-то, сам кругом виноват, точно как на долбаных скачках. Если он разозлится, придется вышибать из себя это дерьмо, потому как идиот он задроченный, мать его, и больше никто. Он сует руку в карман, нащупывает кисет. Вертит его так и этак, перебирает пальцами. Делает короткий вдох, следом длинный. Давай-ка, подкрути гайки. Живот, черт его подери, и ребра. Давай, расслабься, расслабься. Пусть все идет, как идет, и все. Он слышит стрекот клавиатуры. Все бессмысленно, на хер. Ну и плюнь.
Сэмми улыбнулся, покачал головой.
Ну их в жопу. В жопу. Он вздохнул, откинулся на спинку стула; спал бы себе, на хер, и не просыпался никогда. Ну их всех в жопу.
А эта все талдычит, мать ее. Курица клепаная. Сэмми берет палку, встает. Бу-бу-бу.
У Отдела медицинских пособий Управления полиции собственные процедуры, мистер Сэмюэлс.
Да что вы говорите?
…
Сэмми постоял немного, потом спросил: можно я заберу бланк с собой и сам его заполню?
Да, конечно; но вам следует знать, что для подачи заявлений, подобных этому, установлен определенный период времени: вы утверждаете, что расстройство возникло в прошлый вторник?
Да, во вторник.
В таком случае, у вас имеется восемь дней, не считая выходных. Я также обязана уведомить вас о том, что даже если вы заполните новый бланк, старый все равно сохранится в вашем деле в качестве дополнительного свидетельства.
А просто вычеркнуть его вы не можете?
Нет. Однако я могу изъять ваше ходатайство.
Хорошо, но вы можете также, я к тому, что вы можете также выкинуть его к чертям собачьим.
…
А?
Мистер Сэмюэлс, если вы считаете, что лишились зрения, в ваших собственных интересах зарегистрировать это обстоятельство в качестве физического критерия, используемого при регистрации для получения работы, сопряженной с полной занятостью.
Так.
Что может произойти, если вы, в силу вашего нынешнего договора, получите от Управления городскими программами трудоустройства направление на работу? Раз вы ничего не видите, значит, вы не сможете выполнить условия договора. Я настоятельно рекомендую вам зарегистрироваться прямо сейчас.
Да, но…
Мы всего лишь зарегистрируем наличие дисфункционального расстройства, в вашем случае – утраты зрения; после этого можно будет соответствующим образом изменить ваши физические критерии в отношении регистрации с целью трудоустройства.
Я понимаю, о чем вы.
Это означает, что вас можно будет использовать для некоторых типов работ и только для них. Одни виды работ могут исполняться при наличии дисфункционального расстройства зрения, другие не могут.
Это верно.
Так не думаете ли вы, что нам стоит сделать это?
Ну, да.
Теперь разговор у нас пойдет чисто медицинский. Компетентным органам потребуются разного рода отчеты.
Ладно.
Вас тем не менее попросят лично явиться в ОМПУП, очень советую вам так и поступить, однако по отношению к основным вопросам это чистая формальность. Медицинский отдел Управления полиции должен установить дату, на которую вы получили расстройство. Разумеется, если вы заявите, что получили его, находясь под арестом, то есть в распоряжении их собственных офицеров, Управление будет обязано полностью прояснить это обстоятельство. Такова неизменная формальная сторона приема заявлений подобного рода.
Так. Сэмми шмыгает носом. Понимаете, мисс, я ведь не очень уверен, когда я зрение-то потерял, может, и раньше, может, в прошлую субботу, на самом деле, я думаю, что в субботу все и случилось.
По-моему, вы назвали вторник.
Да, но, может, и в субботу.
Вы уверены?
Ну, не полностью.
Однако это возможно?
Да, чем больше я об этом думаю, – понимаете, этот день совершенно выпал у меня из памяти, полный пробел, вот я и думаю, может, это тогда и было, тогда-то все и вышло.
То есть до того, как вас арестовали?
Да вроде того.
И у вас имеется свидетельство, подписанное уполномоченным на то лечащим врачом? Она опять стучит по клавишам.
Пока нет, я записался на завтрашнее утро. Надеюсь в понедельник увидеться с врачом.
Ну что же, вам придется как можно быстрее представить в управление копию медицинского заключения.
Я это и собираюсь сделать.
Хорошо.
Сэмми шмыгает носом. Так чего, теперь мое заявление насчет пособия вычеркнуто?
Нет, боюсь, что нет, хотя хода ему дано не будет.
Вы хотите сказать, оно так в компьютере и останется?
Да, но я сохранила его, как отозванное.
Слушайте, а если вдруг я передумаю…
Насчет чего, мистер Сэмюэлс?
Да не знаю пока, но если вдруг, ну то есть если передумаю… Что тогда?
Это зависит от разных факторов, от того, например, по поводу чего вы передумаете. Подобные ситуации всегда конкретны.
Да, верно.
Вы что-то утаиваете?
Да нет, вообще-то пока ничего.
Еще раз напоминаю вам, мистер Сэмюэлс, об установленном периоде времени; если вы заявляете, что расстройство возникло не во вторник, а в субботу, время подачи ходатайства сокращается до пяти дней.
Ну да, спасибо.
Будьте добры, распишитесь вот здесь. Она вкладывает ручку в пальцы Сэмми, подтягивает его ладонь к чему-то вроде маленькой машинки, что ли, придерживает его указательный палец. Прямо здесь, говорит она.
Как духи у нее пахнут. Сэмми говорит: Ничего я подписывать не стану! И улыбается: Да нет, шучу.
О нет, вы совершенно правы, мистер Сэмюэлс, я должна была упомянуть, что законом установлена оговорка со стороны государства, в соответствии с которой вы приходите сюда и по мере ваших сил описываете ситуацию, полностью сознавая при этом, что осознанно ложные утверждения могут иметь своим результатом отмену любых или всех денежных пособий, назначаемых любыми или всеми отделениями данного государственного учреждения; и что любые действия, предпринимаемые данным учреждением, не предотвращают и не отменяют каких бы то ни было дальнейших действий, возможность которых может рассматриваться любым другим государственным учреждением.
Сэмми расписывается; слышится звук отрываемой бумаги, женщина вкладывает ему в руку листок. Это расписка, говорит она, подтверждающая, что вы подали заявление на перерегистрацию.
Он засовывает расписку в карман, подбирает палку. Хрен знает по какой причине желает ей, перед тем как уйти, здоровья. Уже у двери он вроде бы слышит, как щелкают, удаляясь, ее каблучки. Ему не трудно представить себе ее походку. Сэмми знает женщин этого типа. Обалденно красивые, но на какой-то странный манер, при котором уже и не важно, на кого она похожа, как сложена, ничего. И к тому же убийственно сексуальные. Иногда они носят этакие клево скроенные костюмчики, блузки у них с низким вырезом; да, красавицы, перед которыми всегда оказываешься в абсолютно невыгодном положении; у тебя даже от голоса такой женщины коленки слабеют. Они часто попадались тебе во всяких чиновных конторах, и они – лучшее, что там есть… худшее, следовало бы сказать. Как зовут ту актрису с хрипловатым голосом? Стоит ей взглянуть на тебя, и уже глаз оторвать не можешь; и куда бы она ни пришла, мужики немедленно затыкаются. Иногда ей дают главные роли в детективах. Даже если у нее нет пистолета, хреновые у тебя дела, друг, неприятностей не оберешься. Потому как временами она оказывается женщиной совсем другого пошиба.
Ладно; стало быть, его поимели.
Парень один отбывал срок вместе с Сэмми. Он был резервистом, или, как их там, территориальные войска, ну и его отправили куда-то на Средний Восток. Законопатили в пустыню, и он там подцепил какую-то жуткую болезнь. Сэмми как-то раз говорит ему: А чего ты оттуда ноги, на хер, не сделал? а, человек пустыни?
И куда бы я пошел? отвечает тот.
Да куда угодно. В раздолбанную Австралию. В Китай.
Размечтался, говорит он, ты хоть знаешь, где этот самый Средний Восток находится?
Средний восток? Средний восток находится на засранном Среднем Востоке. Это между Ближним Востоком и Дальним.
Да, но те места, в которых я был, Сэмми, там знаешь какие пространства?
Ну а я о чем; чем пространнее, тем легче спрятаться.
Да нет, говорит он, я понимаю, о чем ты, но все как раз наоборот. Чем пространнее, тем легче тебя застукать.
Штука-то вот в чем, присмотрись к положению Сэмми, к его мыслям, понимаешь, и окажется, что разобраться во всем этом не так-то легко. Сразу так и не объяснишь. Потом, есть еще вещи, которые вроде сначала приятны, а после оказывается – такая дрянь, я к тому, что все, на хрен, великолепно, все в порядке, четко думаешь, молодец, все путем, я хочу сказать, никто, на хер, жаловаться не собирается, не на что жаловаться-то, просто надо быть практичным, реалистом, ты должен быть реалистом, трезво все оценивать. Я к тому, что Сэмми никогда нытиком
Долбаный ад, и все же это был сюрприз, вся эта мутотень взяла тебя врасплох; самая обычная херня – вот что тебя достает. Плюс сама твоя жизнь, если уж о ней говорить, я к тому, что это ж тоже задроченная загадка. Не считая того, что с каждым разом, треснувшись мордой о самое дно, тебе становится все труднее оправиться, выбраться из ямы. Иногда держишься из самых последних сил, крепко закрыв гребаные глаза, а уши…
Думаешь, тебе кранты, а ни хрена подобного. Секс, вот что помогает. Потому как секс означает, что ты жив, на хер. Знаю, что говорю, нравится тебе это, друг, или не нравится, а жив, пока еще брыкаешься. Долбаная эрекция, друг, она способна вытянуть тебя из любых неприятностей: мать-перемать, похоже, ты еще на что-то годишься, ну-ну-ну, так вот мы какие. Исусе-христе!
Потому как без секса тебе этого не выяснить. Нет, точно. Сэмми это сколько раз замечал. Без секса ты пустое место, просто раздолбай – понимаешь, друг, гвоздей тебе, и ты начинаешь бухать или ширяться, все что угодно. Иногда просто сидишь целыми днями на месте или лежишь; и тебя засасывает, ты заходишь так далеко, что там уже и нет ничего, долбаная пустота. Одна долгая пустота. Ну может, с крохотными просветами. И в этих просветах – частицы тебя, того, кто пытается найти дорогу назад, нащупывает пути побега, возможность как-то выправить свое положение. Есть один способ понять, что ты более-менее в порядке, – это когда замечаешь, что напеваешь чего-то. Сэмми однажды разговаривал с одним дундуком, ну, не так чтобы разговаривал, говорил-то все больше он, а Сэмми слушал. Мужик этот сам к нему заявился – служил в тюрьме по воспитательной части. Неплохой был мужик, с учетом всего; мужик в порядке. Ну вот, и толкует он Сэмми насчет духовного опыта, который тот приобретает. Приходится же приобретать, никуда не денешься. Не приобретешь, тебе же будет хуже. Так он, во всяком случае, говорил. Чего-то там про религию. Это вроде гудения у тебя в голове, сказал он.
Гудения-мудения, как же. Был там еще один, тоже ему все время лекции читал, уж такой был мудозвон, я про того долбака
Да какая разница, кому это, на хер, нужно, какая гребаная разница. Сэмми устал. Ну и ладно, имеешь полное право устать, лежать в долбаной темноте с этим тупым долбаным радио, со всеми его тупыми дребаными голосами, от которых в голову лезут мысли о двойных порциях долбаного малинового, на хер, бисквита, друг, со шматом свежих сливок, вот о чем говорят эти голоса, вот как они звучат, долбаные натуральные сливки, друг, с той минуты, как они открывают глаза и до самого того дня, когда они копыта отбросят, ублюдки сраные; и ты все время думаешь о парнях, которых уже нет на свете: о том, с которым вот это самое и приключилось, ему полагалось досрочное освобождение, он только его и ждал, глянешь на него тайком, а он лыбится сам себе до ушей, лыбится неведомо чему, пока не заметит, что ты на него смотришь, и тут уж физиономия у него сразу каменеет; а заговоришь с ним, так он сохраняет такую серьезную мину, старается из последней мочи не показать, какое радужное будущее он себе напридумывал, потому как судьбу искушать не стоит, друг, какого хрена, такие вот у него были мысли, у бедного ублюдка, охеренно она его беспокоила, судьба-то. Но только он, мать его, был такой, исусе, трудно все это описать, понимаешь, потому как сам ты такого сроду не чувствовал; ну то есть так, как этот малый; он был из другого, чем Сэмми, теста – Сэмми свою жизнь еще в ранние годы профукал, – а этот малый, нет, его жена поджидала, молодая семья, дети малые и все это дерьмо, он был кокни. Исусе-христе. Ну вот, и настает, значит, великий день, – хотя нет, на самом деле до него дня два еще оставалось, – и его находят неподалеку от прачечной, в котельной под трубами, прямо там, там его и нашли; уделали его всем скопом. И это способно тебя умудохать, на хер, самыми разными способами.
А, вздор. Прорвешься. Тебе-то что, друг, сам же он и виноват, идиот долбаный, знал же он все сраные правила и, на хер, нарушил их, друг, ну и все, конец истории.
Сэмми сидит дома.
Картина: сидит на кушетке, сгорбленный, приемник включен, ладонь подпирает подбородок – думает; в голове, по правде сказать, ни хера, кроме дурацких воспоминаний, которые лезут в нее неизвестно откуда.
Вот что с ним дальше будет, так это действительно вопрос. На который он не ответил. Нет, серьезно. Как будто что-то самое главное крутится и крутится в голове и никак не материализуется; может, он сам ему и не позволяет. Подбородок подперт большим пальцем. Нижняя челюсть отвисла чего-то, вот он и ткнул в нее пальцем, возвращая на место, так что даже зубы лязгнули; кожа под подбородком свисает мясистой складкой. Камин согревает лицо. Он меняет позу. Опять спина разболелась; интересно было бы взглянуть на свое тело. Одна мысль таки продирается в голову, нравится она ему или нет, мысль об Элен, если она не вернется, ему кранты. Вот так. Полный, на хер, пензец. Точно. Все пошло прахом, каким бы оно там ни было, все прахом. Для начала придется уматывать из квартиры. Она ж на Элен записана. Побираться придется, вот ведь херня-то, разве что безглазым чего-нибудь там положено, может, их пристраивают в какой-нибудь особый дом для незрячих. Дадут тебе где-нибудь комнатку. В специальном здании. Ну, скажем, в приюте для слепых. Если такой существует. Никто же не сказал, что не существует. Он, конечно, не какой-то там, на хер, особенный, нет, друг, я к тому, что он на какую-то там особую роскошь не претендует. Но должно же быть какое-то место, центральное агентство, которое дает всем этим слепошарым долбарям хлебаное прибежище, друг, понимаешь, ведь если подумать, так этих мудаков с палочками полна страна. Значит, должно быть какое-то место.
потому как при теперешних его делах
при теперешних делах ему кранты. Кабы еще это было совместное владение, тогда да. Так ведь нет. Квартира только на ее имя. У него только и есть, что хлебаное пособие. Да тут еще шпики шныряют повсюду, ублюдки, вынюхивают где ты есть. А соваться в УСО с новым заявлением это рискованно, друг, охеренно рискованно, рискованное дело. От них тебе лучше держаться подальше – если ты можешь себе это позволить; все горе в том, что Сэмми не может, выбора-то у него и нет.
А, на хер, действовать надо, надо действовать, ну так он и собирается действовать, просто ему необходимо какое-то время, чтобы начать; и не потому, что он такой уж ленивый, он не ленивый, он просто должен все обдумать; а уж обдумав, он будет действовать так же быстро, как любой другой мудак; фактически иногда он действует слишком быстро, так что это ему же, на хер, боком выходит; так-то он в нынешнее положение и попал. Типично, просто обалденно типично. Чего ж удивляться, что он не любит спешить, друг, сам видишь, он если поспешит, так и влипает, на хер.
Запутывает все, в жопу, и остается с носом, с носом, на хер.
Плюс он того и гляди рехнется от этого радио.
Сэмми выключает приемник. Находит кассету. Но не ставит ее. Поднялся, поводил взад-вперед плечами. Зарядку надо делать, вот что. Он приоткрывает окно. Ветер. Воздух – хорошо. По временам кажется, будто морем тянет, может, оно и не так, но кто его знает, от Глазго до моря рукой подать.
Кабы не долбаные ноги, друг, ну просто ноют и ноют, на хер. Вот это и значит быть слепым: с тобой столько всего происходит, что не остается времени подумать о чем-то еще. Он бы хлебнул сейчас пивка, и деньги на такси до «Глэнсиз» у него есть, а он все равно дома сидит. Не может он встречаться с людьми, пока что не может. Плюс придется объяснять что да как. Слишком все это хлопотно, слишком. Он думал, что, может, выяснит чего-нибудь насчет субботы, однако ну ее в жопу, какая разница, никакой, на хер, разницы нет, был он там или не был.
И потом, все эти мудаки будут глазеть на тебя, покачивать головами. И прочая долбаная мутотень. На хер тебе это надо, друг.
А вот Элен.
Опять какое-то жутко тошнотворное чувство под ложечкой, он крепко сжимает веки, друг-друг-друг, о исусе, прижимает ладони к глазам. Что-то не так, друг, что-то совсем ни к черту, что-то такое наполняет его, он чувствует, и никак не может от этого избавиться, оно здесь, на хер, прямо в нем, и словно душит его изнутри, заполняя гребаную голову. Хуже, чем он думал, определенно хуже, чем думал. Дела, друг, офигенно худые, друг, худые дела
Он с ногами забирается на кушетку, ложится, прижавшись щекой к руке, стараясь устроиться поудобнее.
Похоже, совсем ты от всего этого охренел. От всего. Когда эта дверь, мать ее, хлопает за твоей спиной. Я о времени, когда ты входишь в квартиру, потому как, когда ты выходишь, ты и не знаешь, на хер, хлопает она, не хлопает, не замечаешь же ни хрена, думая только о том, что ждет тебя впереди. Но когда он выходил во второй раз, то чувствовал такую, мать ее, усталость, что даже до конца пути не добрался. Усталый был, на хер, друг, выжатый, до того выжатый, что и знать ничего не хотел, точно тебе говорю, до того замудохался, исусе, что сунулся в первый же паб и сидел там, похоже, пока не нарезался вдрызг, но это все потому, что он был просто разбит, совершенно разбит, ему было на все насрать, – даже если бы фараоны пришли, схомутали его и сказали, что, дескать, ошибочка вышла, пошли назад.
Исусе, это тебя удивляет только потому, что нисколько и не удивляет. Понимаешь, о чем я? И вызывает улыбку.
Мать-размать.
Ноги хорошо бы отпарить. Эти дурацкие кроссовки слишком малы. Пальцам тесно, да еще такое чувство, будто в один всадили кривой гвоздь – почем знать, может, из него и кровь идет. Вот эти дурацкие мелочи всегда его доставали – ногти стричь на ногах и все такое. А попробовать все-таки надо. Что еще остается?
Помыться бы надо, на хер. Ванну принять, настоящую, полежать, отмокнуть. От этого тебе никакого вреда не будет, ни хрена, это уж точно.
Господи-боже, вообще-то, что уж такого дурного в том, чтобы пивка пойти попить, друг, все-таки пятница, вечер, знаю, о чем говорю, имеешь полное право. Уж чего-чего, а это ты заслужил, долбаную кружку пива вечером в пятницу.
А, слишком поздно. Собирался, так надо было раньше идти.
Он поднимается, запихивает в гриль жестянку с супом, сует под решетку два ломтя хлеба. Музыка играет. Ладно: есть вещи, над которыми ты властен, а есть, над которыми нет; вот и все, о чем думает Сэмми. Например, ты не можешь ничего записать. Ну то есть записать-то можешь, но прочитать записанное тебе ни хера не удастся; значит, придется полагаться на память.
Но только по какой-то сраной случайности, друг, память у него, как рехнутое решето. Ну, стало быть, тренируй ее. К этому все и сводится, к пробам и ошибкам. Есть куча всякой всячины, требующей внимания. Та же палка, ее надо покрасить, это, друг, долбаный прихреноритет. Где-то в шкафу, который в прихожей, точно стоит старая двухсполовинолитровая жестянка с белым лаком. Только нужно найти какого-нибудь ублюдка, чтоб тот пришел и, на хер, отыскал ее, потому что там долбаных банок навалом, а отличить одну от другой ты не способен.
Он вставляет другую кассету, ждет. Щелчок. Хотя нет, эту он слушать не будет. Элен была неравнодушна к романтическим любовным песням. Она, правда, говорила, что это никакие не романтические любовные песни, но именно такими они и были. Ну вот, пожалуйста, исусе-христе, он должен сосредоточиться, охеренно сосредоточиться. Во всем разобраться, расставить все по порядку. Он вытягивает лоточек гриля, ощупывает хлеб, почти готов. Через пару минут и суп согреется. Скорее всего, она отправилась повидать свою малышню. Или, может, завалилась к этой ее подружке из бара. Сэмми и забыл о ней, о тетке, с которой дружила Элен. Возможно, она решила пожить у нее пару дней, потому как от него ее уже, на хер, тошнило, друг, да и кто бы стал ее за это винить, ты бы не стал, она права, друг, кругом права. Эх, жизнь человеческая. Что люди знают? ни хрена они не знают. Если не меньше. Вообще-то занятно было встретиться с Чарли. Нет, правда, занятно – в забегаловке около Глазго-Кросс, он как раз возвращался с одной встречи. Хороший малый, Чарли, все такой же шумный. Приятно обнаружить, что он малость повеселел. Одно время ты и говорить-то с мудаком не хотел. Просто перемена тактики, только и всего. Некоторые люди все время пребывают в движении, друг, все время идут вперед. А разным там мудакам это не нравится, они все ждут, когда ты, на хер, дойдешь до ручки. И если ты не доходишь, понимаешь, если идешь и сражаешься, тогда, друг, им кажется, что их обмудохали. Пора бы тебе начать отыскивать во всем хорошую сторону. Ну то есть во всем: не покорно смиряться с вещами, а считать их приглашением к действию.
Сэмми намазывает хлеб маслом. Ох и проголодался же он. Надо бы было пройтись по магазинам, набрать настоящей жратвы, кучу всего. Пока в кармане еще кое-что есть.
Он временами делает это, песенку сочиняет; сначала приходят слова, потом мелодия. Хотя нет, ни хера не так, они приходят вместе, приходят вместе.
Что характерно для Сэмми, не любит он разговаривать о политике, просто не хочет чувствовать себя виноватым. Чарли вечно внушает ему это чувство. Вообще-то ничего он ему не внушает – старается, да не выходит. Так что приятно видеть, что он поуспокоился. С ним можно даже поговорить – для разнообразия, на хер. А поговорить им было о чем.
Мать-перемать, друг, он включает радио, вынимает кассету. Иногда эти голоса заглушают все твои мысли. Где-то в этой вшивой стране идет удивительная жизнь, долбаная волшебная сказка, да и только. Иногда такое услышишь, ушам не веришь. Носишься по своим делишкам; съедаешь обед и все такое, моешь тарелки и слушаешь эти голоса. И думаешь, Христос всемогущий затраханный, что ж это творится. Сэмми вон даже видеть не может. Ни хера не видит, друг, понимаешь, а ему все равно приходится слушать их, распрохлебанных кретинов. И ты начинаешь заводиться, и заводишься, и заводишься, пока тебя не посещает желание просадить кулаком клепаное кухонное окно, и если тебе малость повезет, ты в аккурат пропорешь главную артерию, вот эту, большую, друг, прямо на твоем заерзанном запястье, самую большую.
А, какое все это имеет значение. Какое имеет значение.
Когда он просыпается, радио все еще бубнит. Рука касается камина, Сэмми лежит на полу между его решеткой и кушеткой. Шея затекла, весь в поту. Сам виноват, нечего было разваливаться на ковре. Какая-то скреботня, может, кто-то в доме стену проковыривает или это мыши, вот ни хрена себе, он приподнимается, опираясь на локти, сволочи маленькие, очень ему нужно, чтобы они шмыгали по его лицу. А может, и крысы. Все здание так, на хер, и кишит ими. Как-то они с Элен возвращались домой, стоят, ждут лифта, а когда долбаная дверь открылась, оттуда вышла одна, неторопливой такой походочкой. Хорошенькое дельце. Говорю тебе, друг, наглые, как хрен знает что, если бы дождь шел, так эта тварь еще бы и зонтик с собой прихватила.
Он забирается на кушетку, шарит вокруг, где табак. По радио треплется какой-то хмырь, отвечает на телефонные вопросы. Который, мать вашу, час? Мыши или крысы; если они полезут к нему, он их просто сожрет, на хер, со шкурой и хвостами, поотгрызает им гребаные головы. Да нет, они к нему и близко не подойдут. Животные же не идиоты, до них все быстро доходит. Это вроде злых собак, понимаешь, что пытаются напугать тебя взглядом. Глядят на тебя, глядят, а после видят – тебе по херу, чувствуют это, ну и отваливают. То же и кошки, только те первым делом убеждаются, что им есть куда удрать, и шипят на тебя. Понимают, что они тебе по херу. Ну и теряют к тебе всякий интерес. Что характерно для животных, они всегда прикидывают, какие у них шансы на успех. А может, и не прикидывают. Может, все это куча долбаного дерьма. Какой только херней мы себя не дурачим.
Сэмми отлепляет задницу от кушетки и топает на кухню налить себе последнюю чашку чая, перед тем как завалиться в койку.
Отдел здравоохранения и социального обеспечения по субботам открыт с 9.30 до 11 часов; в самой конторе никаких лекарей нет – регистраторы да санитары, ты там больше никого не встречал. Сэмми вышел пораньше, чтоб наверняка получить направление на понедельник. Любой из автобусов, которые по главной улице ходят, подвез бы его. Но Сэмми свернул на углу и пошел, постукивая палочкой, своим ходом. Тут и идти-то всего ничего. Добравшись до места, Он поиграл со стеной дома в ладушки, так и попал во двор. У двери стояла очередь. Сэмми был в темных очках, вперед продвигался медленно, чтобы, если он стукнет кого-нибудь палкой, удар получился бы не сильным. Зацепил ногой пустую жестянку от пива. Какая-то женщина обратилась к нему. По голосу судя, старая. Ты слепой, сынок? спрашивает.
Да.
К доктору?
Да вроде того, хочу направление получить.
Вот сюда, сказала она, беря его за руку и ставя в очередь. Они через минуту откроются.
Сэмми приваливается к стене, прислоняет к ней палку, подпирая ее бедром; достает кисет, сворачивает цигарку. Люди подходят, встают за ним. Какой-то мужик начинает базлать. Голос звучит где-то впереди, но понимаешь, ему хочется, чтобы слышали его все. Несет какую-то чушь, хер знает о чем, слушать противно. Вступает женский голос, поддерживает, стало быть, разговор. Долбаная дичь. Сэмми дважды кашляет и между зубами его застревает комок мокроты. Он собирается выйти наружу, сплюнуть, но передумывает, глотает. Кто-то несильно давит на правую руку, около плеча. Кто-то из стоящих сзади привалился к нему; давит Сэмми плечом, и ты гадаешь, сознает этот малый, что делает, или он просто такой рассеянный? очевидно же, на хер, что это не женщина.
Но тут нажим прекращается. Друг, огоньку не найдется?
Сэмми ждет продолжения. Похоже, мужик к нему обращается, но наверняка же не скажешь. Он слышит негромкое бормотание, чей-то смешок. Сигарета докурена, Сэмми роняет ее, шаркает каблуком по полу, там, куда она, по его расчетам, упала, в общем, ведет себя так, словно все в ажуре. Опять чего-то бурчат. Лучше бы все они взяли да и представились ему вместо этого долбаного.
Удивительно, каким беззащитным себя чувствуешь: Сэмми машинально поводит плечами и понимает – делает он это из опасения, что ему вот-вот врежут по спине. Пытается расслабиться. Нет, какая все же долбаная жуть, чего тут удивляться, что ты все время так устаешь. Я не говорю, что врежут тебе нарочно, просто вскочила в голову такая мысль, друг, охереть можно, – поганое чувство, совсем поганое.
Когда дверь открывается, старуха берет его за руку. Он думает, может, попросить, чтобы она вместо этого позволила ее за руку держать, но решает не поднимать лишнего шума и ни хрена не говорит, только: Спасибо, миссис.
Старуха проводит его через две двери, усаживает. Он снимает очки, потирает глаза. Трогает себя за ушами, где больно. У него там шишки какие-то, всегда были, даже в детстве; естественная, скорее всего, вещь. Вот только заушины очков давят на них, и это действует на твои гребаные нервы. Может, правда, та женщина продала ему маловатую пару, ну, та, из аптеки, пару, которая ему ни хрена не по размеру. Людям же все по барабану. Стул вот тоже далеко не удобный. Последний раз он был здесь несколько месяцев назад, и если тутошние порядки не изменились, стулья в регистратуре все разные, всех форм и размеров. Иногда удается занять хороший, но чаще получаешь такой, что даже удивляешься, как эта рухлядь не разваливается прямо под тобой. Тут есть пара здоровенных, старинных, бредовых сооружений с подлокотниками; а есть и обычные кухонные табуретки, все стоят вплотную, так что между твоим сиденьем и соседним не остается никакого зазора, и все время тюкаешься коленом о колено соседа; все равно как в подземке в часы давки, когда все обычные приличия побоку и даже смазливым девчонкам приходится терпеть и ерзать по тебе попками.
Да, посидеть, конечно, неплохо, но кто тут кого обманывает. Вся эта возня и волынка с чиновниками – за нее просто нужно основательно взяться, и все решится, было б терпение. Не то чтобы Сэмми терпелив по натуре, но он умеет быть практичным, да и привык уже заниматься всякой скукотиной. Иначе он давно бы, на хер, загнулся. Тот же автобус и все такое – охеренная трата времени. Пройтись пешком? Со всем моим удовольствием; и пошел, чего, на хер, бояться-то, Сэмми у нас храбрец, ну, далеко, ну, долбаная даль, а ты просто дотяни
Сэмми, улыбаясь, слегка встряхивает головой. Наконец, старуха касается его руки: Вот и твоя очередь, сынок. И подводит его к регистратуре.
Спасибо, миссис.
Да? Это регистраторша. У нее монотонный, такой, что рехнуться можно, выговор тетки из среднего класса Глазго – голос все время поднимается-опускается, все звуки растянуты. Э-э, мне просто направление, говорит Сэмми, на утро понедельника.
Направление? На оуутро понедельника!
Да, говорит Сэмми, мне надо повидаться с доктором, я, э-э, ослеп на прошлой неделе. Должен получить у него справку для УСО. Там сказали, чтобы я сходил к вам нынче утром, чтобы уж наверняка, потому что это очень важно.
Минутку, минутку, фамилия?
Сэмюэлс.
Первая буква имени?
С.
Вы у нас зарегистрированы?
Да.
Как давно вы зарегистрировались?
Э-э
Больше года или меньше?
Меньше.
Ага. А разве любой другой врач вам такой справки выдать не может?
Нет.
Почему вы так уверены?
Ну, мне же нужно сначала обследование пройти.
Обследование! Медицинское?
Э-э, да, наверное.
Угум. И в УСО вам велели обратиться сюда?
Да.
Ладно, можете сказать, на что вы жалуетесь?
Э-э, на утрату зрения.
Случившуюся на прошлой неделе?
Да, правильно.
Врач вас какой-нибудь осматривал?
Да нет пока, я потому и
И вы хотите посетить доктора в понедельник утром?
Да.
С целью обследования?
Ну да.
Вы понимаете, что до понедельника осталось совсем немного?
Да, извините.
Потому что я не уверена, сможем ли мы найти для вас место в списке, мне очень жаль, но неотложное обслуживание производится только в первые три дня.
Так я потому и не стал звонить вам, а пришел сам. До УСО я только вчера добрался, во второй половине дня, и они сказали, что крайне важно получить справку сразу.
Они так сказали?
Да, сказали, получить незамедлительно.
Незамедлительно? Интересно, как они себе это представляют?
Это потому, что в деле замешано полицейское управление.
Полицейское управление?
Ну, они там между собой разбираются. Если возникнут какие-то сложности, вы должны позвонить им.
Я должна позвонить? Куда позвонить?
В полицию, наверное.
Регистраторша вздыхает. Сейчас посмотрю в журнале. Так говорите, вам требуется врачебное обследование?
Ну да, то есть, а как же, потому мне и нужен настоящий специалист… Сэмми пожимает плечами.
М-м.
И тебя в то же самое место. Сэмми слышит, как она листает страницы. Ненавидит он этих людей. Да нет, не ненавидит, просто они ему кажутся охеренно тупыми. Он снимает очки, трет за ушами, особенно больно за правым, хотя шумит в левом; ну вот, налисталась наконец.
Десять тридцать пять, говорит она.
В понедельник утром?
Вы разве не этого хотели?
Да, да, отлично. Сэмми с минуту медлит у стола, потом поворачивается, отходит.
Направление-то возьмите, произносит она.
А где оно?
Ему суют в руку бумажку.
Выйдя во двор, он свернул сигарету. Он уже решил: пойдет и выпьет долбаного пива. Все-таки маленькие, но победы надо отпраздновать. А то и забудешь, что одержал их. Суббота, время обеденное, друг, валяй, если ты любишь пропустить пару кружек, это вовсе не значит, что ты ханыга задроченный. Ну ладно, ну тянет выпить. И что? подумаешь, великое дело, господи, уж если ты не можешь позволить себе хлебнуть пивка – в субботу-то, в обеденное время, – так лучше вообще выбросить белый флаг. Хлебаная жизнь, вот я о чем говорю.
Но только в «Глэнсиз» он не пойдет, а пойдет он в зачуханную местную блеваду, вот куда он направится. Молодняк и якобы крутые. Ну и ладно; неохота ему тащиться черт знает куда.
Если честно, в горле совсем пересохло. Вечная история, когда приходится таскаться по конторам и ты идешь, втолковываешь, что тебе требуется, все улаживаешь. Хотя обычно тебя там посылают. Вот и вчера, когда он вышел из УСО, ему хотелось завалиться в первый попавшийся шалман. Но не завалился. Прошел мимо, скрипя зубами и тяжко дыша. В общем-то, не так уж было и трудно; паб стоял прямо через дорогу от входа в УСО, но ты ж не можешь быть уверен, с кем там разговоришься, может, с каким-нибудь шизанутым шпиком, который ассимилируется, как ему велено, с местным населением. Представляешь, налижешься, распустишь язык, друг, а он тебя сдаст, и только ты, мудачок, свое пособие и видел, в гробу.
Неделя уж как без пива, но тут тебе жаловаться не на что. Плюс факт, что суббота – это вообще особый коленкор, ну то есть традиция; да по всей Англии все так и делают. Берешь пару кружек, по телику спорт показывают; бега, футбольные обзоры, бильярд; всегда есть о чем потрепаться.
А после, по дороге домой, можно будет перехватить кой-чего в местном мини-маркете.
Ладно.
Солнышко. Сэмми почувствовал его, как только вышел на улицу. Хорошее это время года, весна, особенно поздняя; если она вообще наступает. В эту пору и на стройке неплохо. При условии, что никакие зудилы к тебе не лезут. Что они, как правило, делают. Разве что в десятники достанется совсем уж идиот, тогда они вас обоих стороной обходят. Самое милое дело, Сэмми так больше всего нравилось. Старая добрая стройка. Он остановился свернуть сигарету, но зря, тут везде ветер.
Вот чего тебе не хватает, слепому, – как ты, на хер, гулять теперь будешь? Потому как ты из дому-то выходишь, только чтобы пойти куда-нибудь, в какое-то особое место. Плюс что толку гулять, если ни хрена не видишь, а Сэмми любил поглазеть по сторонам, на девчонок из офисов, на продавщиц, на парикмахерш; обалденно красивые, друг, без шуток, господи, да сам увидишь, как лето наступит! каждый год все то же, сплошные телки вокруг, куда ни глянь, все ноги да буфера. То, что ты называешь прекрасной мукой! Прекрасная мука. Вроде как было такое кино? А не было, так должно было, на хер, быть.
Он доплелся до конца пешеходной дорожки и теперь шел, стуча палкой, между домом, соседним с его собственным, и чередой магазинов на площади. Отлить бы. Вот тебе еще причина, чтобы в паб зайти. Правда, тут не без сложностей. Народу там будет битком, а сортир, сколько он помнит, в конце зала, слева. А может, и не слева. Ну ничего, найдешь, не боись. Как это звали того слепошарого, исторического такого деятеля? Мать твою, да в истории слепых целый миллион. Да, но тот был особенный. Офицер какой-то там армии, что ли? Сэмми, помнится, читал про него в одном романе. Может, французском. Или русском. Как он сидел на большом белом коне и направлял войска. Да нет, ни хера он никакие войска не направлял, просто сидел, как вождь Неистовый Конь, посылавший свою шарагу ловить полковника Кастера, – неудивительно, что они оскальпировали мудака, при его-то золотистой шевелюре.
Кто-то тут разговаривал, а потом вдруг замолк. Вроде бы двое или трое мужиков шли за ним. Сэмми замедлил шаг, подождал, пока они его обгонят. Как только они ушли вперед, разговор возобновился, а один даже рассмеялся. Чё ж тут дивиться, что тебя паранойя давит!
Нет, ну ты же слышишь, как мудаки смеются, а над чем они смеются, ни кия не понимаешь. Все, что ты знаешь, это то, что ты знаешь; что на тебе дурацкие темные очки, что ты тащишь дурацкую долбаную палку, что от тебя, на хер, воняет, а на ногах у тебя долбаные дурацкие кроссовки, мать их, на десять размеров меньше, чем тебе нужно!
Он врезается в стену, слева, обстукивает вокруг палкой, потом бросает это занятие. Это что еще за долбаная стена? Куда он к черту попал? Площадь он пересек минут пять назад, господи-боже, и до сих пор никуда не пришел, может, он вообще, на хер, кругами ходит. Ты и ходить-то толком не можешь, мать твою, понимаешь, даже ходить, на хер.
Ладно ладно ладно угомонись угомонись. Еще и запястье гребаное ободрал. А все потому, что у палки нет ручки. Это ж опасно.
Так. Ну, и чего теперь делать? А дальше идти, чего же еще. Куда? Исусе-христе. Изумительно. Жизнь.
Хорошо. Блевада далеко отсюда быть никак не может, потому что по ступенькам-то он поднялся и ни с чем таким уж необычным не сталкивался – не считая стены, хотя и в ней ни хрена необычного нет. Стало быть, он на правильном пути.
Ну его в жопу, друг, не пойдет он ни в какой паб, а пойдет он домой. Вот и все. К черту. В мини-маркет за табаком плюс батон и пинта молока, ну и пара банок пива. Ничего сверхъестественного. А после в лифт и домой.
Ну и угораздило же тебя, даже смешно. Ты лучше не думай об этом. Иди лучше в долбаный
Он поворачивает назад. И правильно, это самое верное. Переносит палку в левую руку, чтобы правая отдохнула, но только левой он все еще нормально орудовать не научился, и через несколько шагов палка возвращается в правую. Плюс тот факт, что правой ему проще обстукивать стену. Где-то совсем рядом залаяла собака. Представляешь, если бы ты был слепым от рождения, ты бы даже не знал, что это, на хер, за собака такая, только бы и слышал, как кто-то брешет, друг, и приходил бы в охренительный ужас, думал бы небось, что это какой-то рехнутый мудак! А так ты по крайности знаешь где кто, знаешь где кто. Кошмар! Да ладно, не дуньди, никакой не кошмар.
Не так уж все и плохо, а просто, исус всемогущий, поосторожнее надо быть, вот и все. Осторожнее прочих дрочил. Тут ничего особенного нету. Возьми любого, с какой ни есть дисфункцией, то же самое и будет. Даже если ты обе ноги потерял, тебе все едино необходимо быть крайне осторожным. Все правильно. Просто берешь и подкручиваешь гайки. И не волнуешься, не паникуешь, паниковать-то легче всего, а ты, как почувствуешь, что на тебя паника накатывает, защищайся от нее, ничего и не будет, просто следи за собой – и будь осторожен. Он добирается до пустого места, обстукивает его, подходит к стене, ладушки-ладушки; это угол, вот что это такое; Сэмми сворачивает за него – все та же стена, а должна быть витрина аптеки. Ну что же, чего-то подобного он и ждал, так что ладно, ну то есть он же знал, что где-то повернул не туда, так что ладно, друг, все путем. А стена-то не каменная; металл какой-то, и когда хлопаешь по нему, слышен пустой звук. Машина где-то газует. Может, это гаражи. Если он свернул не в ту сторону еще в конце пешеходной дорожки, тогда, скорее всего, произошло вот что – он прошел наискось и забрел в проем между домами.
Стало быть, он сейчас во дворе дома, который напротив его. Напротив-то напротив, да только в какой стороне? Господи, он даже не уверен, какой это дом! Нет, серьезно, откуда ему знать? он и не знает, просто догадки строит. Ну ладно, либо тот, либо другой, их всего-то два; есть еще третий, но до него добрая четверть мили, не мог же он, на хер, столько протопать. Машина по-прежнему газует. Он идет на звук. И, подойдя поближе, окликает: Але! Але!
Кто бы это ни был, радио у него орет вовсю; спортивная программа. Сэмми кричит: Але!
Отвечает мужчина: Да, в чем дело?
Двигатель смолкает, но Сэмми не понижает голоса: Я это… я ничего не вижу, ну и… я слепой; заблудился. Дорогу потерял.
…
Вы не покажете мне, как к магазинам пройти?
Нет проблем, друг, нет проблем.
Сэмми слышит, как мужик перебирает инструменты, потом кричит: Ты постой там пока… Наконец он оказывается рядом: Порядок? спрашивает.
Да.
Ну, лады… Он берет Сэмми за руку и ведет его, медленным шагом. Ничего денек, а?
Да, неплохой, говорит Сэмми, лишь бы дождя не было. Я думал пивка выпить, но пошел куда-то не туда.
А, так тебе в паб нужно?
Нет, нет, не сейчас, нет, передумал: мне бы до магазинов добраться, а там уж я сам.
Потому что, если хочешь, я бы тебя отвел, мне не трудно.
Нет-нет, спасибо, обойдусь.
Может, и правильно, говорит мужик, херовое это занятие, пьянство!
Да, с ним шутки плохи. Вы не против, если не вы меня будете за руку держать, а я вас?
Да ради бога, валяй.
Спасибо, мне так почему-то легче.
Нет проблем, друг, нет проблем. Да, говорит он, а я вот все пытаюсь свой драндулет на колеса поставить.
А, понятно.
Если честно тебе сказать, так это просто груда, епть, металлолома. Девчонка моя через две недели замуж выходит. В Ливерпуле. Ну и мы с женой собираемся туда. Епть, вот геморрой, без шуток. Даже если я смогу поставить его на колеса, понимаешь, туда же ехать-то сколько! это ж убийство, епть, – да и гаражи эти вдоль магистрали, обдерут нас там как липку. Лучше б мы автобусом ехали, оно в конечном счете и дешевле. Это все, епть, свадебные подарки – в доме из-за них не повернешься; от родных, от соседей и все такое – вот и приходится ехать машиной. Что твой «Уэллс-Фарго».[17] Сам-то женат?
Да, говорит Сэмми: ответишь «нет», так начнет с вопросами приставать.
Мужик, продолжая болтать, довел Сэмми до дверей мини-маркета. Если бы мужик не открыл их перед ним, Сэмми, может, отправился бы прямо домой. А так сразу все и купил. Вообще-то у них тут самообслуживание, но парень ему попался вчерашний, хороший такой парень, услужливый, мигом крикнул кому-то, чтобы принесли молоко и хлеб.
После этого осталось только произвести последний забег и через стеклянную дверь войти в дом. Дверь качнулась, захлопнулась, но потом вроде как спохватилась и открылась опять, как будто кто-то ее придержал и протиснулся следом за ним. Сэмми прошел к лифту, отыскал кнопку. В голове вертелись дурацкие мысли. Он старательно вслушивался, но ничего не услышал, да и неудивительно, что не услышал, тут и слышать-то было нечего. Хорошо, что добрался до дому. Сейчас прямиком в постель. Возьмет с собой приемник, футбол послушает. Хоть почувствует, что убрался с проезжей дороги и лежит себе в стороне, на травке. Вне опасности. А то ты, похоже, паникуешь по всякому пустяку, вроде как координация у тебя расстроилась – видеть не можешь, так начинаешь слышать незнамо что. А дальше включается долбаное воображение.
Озяб он чего-то, странно, как он, на хер, умудрился озябнуть? Надо согреться, осторожность не повредит, Христос всемогущий затраханный, может, он того и гляди загриппует, может, в этом все дело. Вот и объяснение, почему он так дергается, обычно-то он не такой, друг, не такой офигенно нервный. Да где же лифт, господи-боже! годами его приходится ждать. Скорее всего, гребаный молодняк в прятки играет. Эти сопливые ублюдки, друг, бывает, заедут на самый верх и дверь заблокируют. Ну все, идет. Сэмми снял очки, засунул в карман, отступил в сторонку и постарался, как мог, спрятать палку за спину. Вышли двое. Хорошо, он нащупал кнопку, нажал. Лифт тронулся. Отлично. Для того лифты и делают, – чтоб они ездили, возили всяких мудозвонов вверх. Или вниз – зависит от того, в какую пимпочку ткнуть, как сказал епископ актрисе. Сказал епископ актрисе, друг, интересно, существовал ли он вообще, этот, мать его в лоб, епископ.
Господи, говоришь совсем как папаша, прямо его словами!
Нервы, долбаные нервы, почему он такой, на хер, нервный! того и гляди завизжишь, друг! такой ты нервный, исусе-христе. Но ты должен с ними справиться, должен справиться, просто справиться, на хер, и все, справиться. Лифт остановился. Двери открылись. Прошел коридором, нащупал на двери табличку с именем. Слава богу, сказал он себе, когда вставил в замок ключ, и тот подошел. Однако, мать моя женщина, ключ-то и не понадобился. Лихо. Только он вставил его, только начал поворачивать, как дверь сама собой и открылась. Сэмми толкнул ее, вошел, захлопнул. И позвал Элен: Это ты? Элен!
Никакого ответа.
Элен!.. На этот раз громким шепотом: Элен! Ты здесь?
…
Все в порядке, друг, все в порядке; он снял куртку, повесил ее на крючок; ну, допустим, забрались в дом какие-то люди, но ты же этого выяснить не можешь, как ты это выяснишь, вот и начинаешь бродить по квартире, прислушиваться к звукам, не дышит ли кто. Кончай. Он положил хлеб и молоко на кухонный стол и пошел в уборную. Не в первый раз забыл он запереть дверь на два оборота. Да вряд ли и в последний. Нет, серьезно, господи, да однажды он даже захлопнуть ее забыл, просто забыл захлопнуть! Чертова хреновина так и стояла настежь, друг, долбаная дверь то есть, я о ней говорю. И тогда тоже Элен еще не вернулась с работы. Дичь.
Как бы там ни было. Начнешь придавать значение всякой ерунде, так кончится тем, что будешь из любой мухи слона делать. И обратишься, на хер, в буйно помешанного, друг, вот чем ты закончишь. Следи за собой. Это и в крытке было самое главное. Сколько мудаков докатилось там до паранойи.
Здорово тебя придавило. Такое чувство, что лезешь в гору с тяжелым грузом и все стараешься сбросить его, на хер, с плеч. Снова почувствовать себя так, словно ты стоишь на краю обрыва, смотришь в море, ветер дует, танкер уходит за горизонт, и ты всем нутром чуешь, что вот он, настоящий долбаный простор, христос всемогущий, полная противоположность ощущению, что тебя обложили со всех сторон, полная…
Ну, так вот, то, что ощущает Сэмми, это полная противоположность той противоположности, иными словами, он ощущает, что его, на хер, как раз со всех сторон и обложили, понимаешь, друг, обложили; и будет ему только хуже – пока не станет лучше; это уж точно, будет только хуже. Надо как-то справляться, ей-богу, надо как-то справляться. Изменить весь подход к жизни. Всю систему. Все. Он должен все изменить. Есть куча вещей, которые следует сделать, и сделать их должен он. Больше некому. Если он их не сделает, они так несделанными и останутся. Останутся несделанными, если он не сделает их. Очень просто. Жизнь его переменилась. Он должен это признать. А он словно бы не признает. Ведет себя так, точно вовсе и не ослеп, как будто не считает себя слепым, а просто сталкивается со всякими препятствиями, с этими долбаными препонами, все время, на хер, врезается в них. Жизнь переменилась, да, переменилась. Чем раньше он это признает, тем лучше. Но он же так и так хотел изменить свою жизнь, чего же херню-то пороть.
А, лучше всего завалиться в постель. Есть, правда, хочется, ну да ладно, жратва, которую он не смолотит сейчас, это жратва, которую он смолотит позже. И хрен с ней, с Элен. Хрен с ней.
Сэмми зашел в гостиную, намереваясь взять приемник и отнести его в спальню, но не взял. Включил и присел. Может, долбаную палку покрасить? Неделя уже, как ее нет. Чего ж удивляться, что он переживает. Да нет, не переживает. Пусть ее делает, что хочет. Ей, на хер, решать. Ты так давно уже обходишься без родни, что это уже ни хрена и не важно, не важно, как-нибудь проживешь. Опять же, он собирался изменить свою жизнь; еще до этого дерьма, вот что самое главное. Так ей и говорил. Вернее, пытался сказать, ни хрена из этого не вышло. Она разозлилась на что-то, он не знает, потому как она ему не сказала, просто перестала с ним разговаривать. Иногда на этих баб просто диву даешься, друг, точно тебе говорю. Это было за пару дней до свары, ну, той, которая вышла у них в пятницу утром. Потому что это она и была: долбаная свара; так что сам виноват, храбрец Сэмми, это твоя роковая ошибка, сам ей все разболтал. Ну, не все, но достаточно, чтобы все изгадить. Он уж привык, что с ним вообще не разговаривают. В этом-то и проблема, обычно он ничего никаким мудакам не рассказывает, ни хера, друг, совсем ничего. И правильно делает. Такое у него обыкновение. И у тебя это здорово получается, охрененно здорово.
И ведь Элен даже не спрашивала ни о чем. Насчет его прошлого и всего такого, ее оно вроде не волновало. Знала, что Сэмми отсидел, ну и все, прошедшее время. Так что об этом и говорить-то не приходилось. Вот же дурь. Он мог до конца своей жизни ничего ей не говорить, и все было б отлично, она бы считала, что так и надо, нет проблем, ничего страшного, валяй в том же духе. А ему непременно нужно было все растрепать. Да ведь он хотел только одного – показать ей, что это и
Да успокойся же ты, ублюдок
А то он не пытался успокоиться, на хер. С этого все и началось.
В том-то и дело, что он
А ведь как хорошо он себя чувствовал! как, на хер, хорошо! Исусе-христе.
Нет, правда, чувствовал он себя зашибись.
А! Он просто хотел объяснить ей, до чего все это было глупо. Каким он был дураком.
Был когда-то! Потому как все это в прошлом, все в прошлом, со всем покончено, на хер. Он лежал с ней и
Что и делало тебя.
Сердце, сам понимаешь, как же хреново ты себя чувствуешь, – плюс живот; если не будешь за ними следить…
Ладно, на хер.
Сэмми был человек по женской части неопытный. Если честно. Слышал он в крытке трепотню всяких дрочил. На главныйто вопрос никто никогда не отвечал, его даже и не задавали: откуда у тебя такой опыт, если ты, урод недоделанный, всю жизнь в тюряге просидел!
А-а.
Просто насчет Элен ты знаешь, что охеренно хотел, всегда охеренно хотел защитить ее. Вечно думал об этом, друг.
Исусе-христе. Куда, в жопу, подевался табак? как ни хватишься, его нету. Это всегда охеренно
Он скрутил сигарету. Неделя, как ее нет, срок не маленький. Ты тревожишься. Ты же слышал в тюрьме тех тупых ублюдков. Ну да, слышал. В одно ухо входило, из другого вываливалось. Долбаное бахвальство; сплошное долбаное бахвальство. Тебя от него тошнило. Байки-из-крытки, Уроки-которые-я-получил. Глупость, все глупость. Чарли был чертовски прав, я к тому, что, конечно, он был офигенно прав, как будто Сэмми этого не знал! Это Чарли не знал, Чарли и был тем самым мудаком, который не знал. Только думал, что знает.
Ты завелся, а это лишнее, это большая ошибка.
Люди рассказывают тебе всякий вздор. Им непременно нужно вкрутить тебе какую-нибудь ерунду. Ты ж лох. Долбаный лох. Так они с тобой разговаривают. Даже мужик вроде Чарли, и тот пытается втюхать тебе разную чушь, намерения-то у него самые добрые, но он не стал бы этого делать, если б не считал, что ты ничего не понимаешь, что ты несведущий ублюдок, лох долбаный; провел столько лет в тюряге, а о системе ни хрена не знаешь, понимаешь, о чем я, вот это самое они про тебя и думают, что ты просто долбаный…
А, хрен с ними, друг, пошли они все.
В жопу футбол, Сэмми тянет руку к кассетам. Некоторые из этих голосов, друг, с ума могут свести; взрослые же люди, ты меня понимаешь, а беснуются из-за какого-то футбола. Кассета вставлена, он нащупывает кнопку «воспр.».
Долбаный Вилли Нельсон,[18] друг, только его мне и не хватало. Первое, в чем я нуждался, и последнее, чего хотел.
Старый долбаный Вилли.
Ладно. Сэмми хотел было выключить магнитофон, но вместо этого убавил громкость почти до неслышимости. Хотя все равно слышно.
Все дело в том, что времена изменились. Изменились, знаешь ли; хотя некоторые тебе не поверят. Что ж, это их долбаная прерогатива.
В случае Сэмми это было вождение. В случае его гребаной глупости. О которой и идет речь во всех этих скорбных повестях из подлинной жизни. Каждый, кто их рассказывает, делает вид, будто во всем виновата злая судьба, но, по сути, рассказы ведутся о глупости; их собственной, ни больше и ни меньше. Олухи долбаные, нашли чем хвастаться, собственным сраным идиотизмом. Слушая их, понимаешь – очень им хочется убедить тебя, что во всем повинна злая судьба. Иногда они пытаются сделать рассказ посмешнее, да только весь смех к тому и сводится, что они остались в дураках. Сколько уж раз Сэмми выслушивал такие истории. И не только там, на воле тоже. Куда ни пойди, везде услышишь; непременно найдется мудак, которого так и подмывает рассказать тебе что-нибудь в этом роде. Начинают-то они с того, что вот-де хочется им с тобой поделиться, чтобы ты понял – сами же они на себя беду и накликали. Но только это вранье, потому как в конечном счете все сводится к хвастовству. Просто им позарез нужно втолковать тебе, будто случившееся с ними нисколько не похоже на случившееся с любым другим мудаком. Любой-то другой, ясное дело, как был дураком, так и останется, а они-то нет. Ну и начинают тебе заливать, как здорово было продумано их дельце; они все предусмотрели, друг, на этот счет не волнуйся, все про все, все основные моменты, и тут вдруг бах, трах, и они в жопе. Из-за какой-то гребаной мелочи, ерунды, которая ни одному мудаку на свете и в голову-то не пришла бы. Ни одному в целом свете.
Так что выходит: что козел, который тебе все это травит, просто-напросто гений, но только невезучий. Вот что он тебе на самом деле вкручивает, друг, – он, бедняжка, невезучий гений, которого поимела судьба. Кабы не она, он бы сидел сейчас в каком-нибудь клевом местечке да выставлял угощение голливудским кинозвездам. Обычная херня, друг, мутотень, полная мутотень и ничего больше, тебя от нее тошнит уже, слушаешь, слушаешь и чувствуешь, что сейчас с ума, на хер, соскочишь; ведь все уже наперед знаешь, все его основные моменты; а приходится слушать, блин, и до того это тебя достает, до того достает, что блевать охота, мутит и с души тянет; ты даже смотреть на них не можешь, друг, на тех, кто тебе это рассказывает, не можешь смотреть, не хочешь видеть их долбаные зенки.
Сэмми пытался втолковать это Элен, чтобы та поняла, на что она похожа, как она работает, глупость-то. Женщинам это следует знать, мужики обязаны им все объяснить, растолковать, что она собой представляет. Вся эта тряхомундия. В его случае это было вождение, он не смог получить права. Да какого хрена, друг, он и водить-то не умел, потому у него этих долбаных прав и не было: просто ни хера не умел водить. Так, блин, и не научился. Вот про это он Элен и рассказал. Про это и рассказал. А что такого? Вообще-то даже смешно. Если подумать. Ну то есть если тут есть над чем смеяться, так валяй, смейся. Штука не в том, что у него не было долбаных прав, он этих долбаных прав и получить-то не мог, потому как ни хрена не умел водить. Да еще и пивом налился
да не в пиве дело, а в тебе, только в тебе. Он отправился на улицу Семи Сестер, поговорить с одним знакомым, с ирландцем, насчет работы. Там тогда отель ремонтировали, вынимали из здания всю начинку, потом фасад переделывали, потому как он утратил историческую ценность или еще что. Платили хорошо, парень был надежный, он насчет Сэмми уже переговорил, так что все было на мази. Но так уж вышло, что в пивную он пришел раньше времени, ну и записался в очередь, в бильярд поиграть. И выиграл первую партию, просто подфартило. Я к тому, что просто выпал один из этих долбаных вечеров, потому как в бильярде он никогда особо не блистал. Хотя удар у него был неплохой и играть ему нравилось. А когда его, наконец, поимели, один мужик отозвал его в сторонку, на пару слов; ну и слово за слово, в общем, поговорили маленько за жизнь.
Так что, когда пришел тот ирландец, Сэмми в работе уже не нуждался, он ее уже получил. Короче говоря, взяли его на подмену одному малому, которого к тому времени замели. Чем они там занимались, не важно, а важно, что пять раз все прошло гладко. Пять удачных ходок. А на шестой их накрыли. Вот такие дела. Вождение его подвело, хотя при чем тут вождение, подвели его сцепление и передача. Ладно. Дурацкая, на хер, история, потому как могло вообще ничего не случиться, фараоны даже не знали, что Сэмми тоже там, его и видно-то не было, он в машине сидел. Всю остальную компанию уже повязали, и фараоны решили, что дело в шляпе. И тут он включил зажигание. У Стива-то Маккуина[19] это запросто получается. А Сэмми не смог даже долбаный руль повернуть; заклинило его, на хер, или еще что, не знаю. Семь лет. Ни хрена себе. Зашибись, на хер. Он рассказывал эту историю нескольким мужикам. Иногда она вызывала смех, иногда не вызывала, но каждый мудак понимал, о чем идет речь. О глупости, друг, о чем же еще.
Однако рассказать все Элен, это было еще и похуже глупости. Едва закончив, он понял: что-то не так. Потому что она просто лежала рядом, не шевелясь. Он что-то залепетал, пытаясь исправить положение. А она все равно ни слова, друг, ни слова не сказала. Охренеть можно. Я о чем, я о том, что он только потому ей все рассказал, что хотел показать, как все переменилось, показать, что вся эта мудистика уже в прошлом. Как сам он, на хер, переменился. Вот это прошлое, а вот это будущее. Но ведь, направляясь в будущее, ты же и в нем нуждаешься, друг, в прошлом, знаю, что говорю, ты должен вытащить его на свет божий, чтобы она все знала, ну то есть показать ей все, на хер, заставить ее понять. А как еще, блин, это сделать? Потом она повернулась, легла на спину. Исус всемогущий. Он как сейчас все помнит. Тебе хотелось схватить ее, встряхнуть. Но она тебя вроде ни хрена и не слушала, друг, не слушала, она уже приняла решение; уже ушла в собственные мысли; и то, о чем она думала, к нему ни хрена никакого отношения не имело, потому как она не поняла, но он не смог ей втолковать, не нашел нужных слов.
Ну а после молчанка. Молчать Элен умела; терапевтическое молчание, друг, оно у нее отлично получалось. Он подумал, что она, может, заснула. Но знал, что нет, по дыханию. Просто по тому, как она дышала. По тому, какой получался звук. Ты гадал, может, это она дает тебе понять, что не спит, дает шанс все поправить, пытается сказать тебе, что его еще можно устранить, это взаимонепонимание, – если это оно, на хер, тогда время еще есть, вот прямо сейчас, сейчас самое время; и если ты не воспользуешься этим шансом, все уйдет, все-все, на хер, все погибнет, выскользнет из твоих рук: ну вот, мать-перемать, тут он и начал трепаться снова, делая вид, будто между ними никакого разлада и нет, будто он всем доволен, тут ему и подвернулась на язык эта последняя история, в аккурат про…
Хрен его знает зачем, друг, но только он рассказал ей совсем давнюю, про себя и Джеки Миллигана. Сейчас как подумаешь, это уж был полный идиотизм; приходится признать, этой истории и вовсе рассказывать не стоило, потому что она просто-напросто не для женских ушей. Откуда ни взгляни, друг, не для них. А с другой стороны, он же просто рассказывал ей о себе, совсем еще зеленом. Это ведь тоже часть той истории. Причем не маленькая. Тогда ему это в голову не пришло, но какого же хрена, друг, я к тому, что либо он ей интересен, либо нет.
Вот же херня какая. Старина Джеки, печально, как хрен знает что. Он все еще мотает срок, если не помер, скорее всего, помер. Джеки был родом из Ливерпуля. Ну вот, и поехал он в Лондон, обделать одно дельце по поручению серьезных людей, а как обделал, пришлось ему залечь на дно. И один малый из Глазго, не помню, как его звали, подыскал ему крышу – из уважения к одному из тех, на кого работал Джеки. Так он попал в Глазго и несколько недель его не было ни видно и ни слышно. Но беда в том, что терпения у него не было вообще, а башлей в кармане – сколько угодно. Джеки был малый неплохой, но игрок, просто помешанный, если честно, такая у него была проблема. Плюс бабы, вечная история. А тут как раз в Эре скачки начинаются, с препятствиями. Под самый Новый год это было. Ну и вот.
Месяца два он на люди не показывался, только и позволял себе что время от времени заглядывать к букмекеру, ставку сделать. Но и это было долбаной морокой, потому что там ведь тоже приходилось осторожничать. В общем, надоело ему это все до смерти. И что он делает – на целый день удирает на скачки; денег в нажопнике вот такая пачка, тысячи две или три у него с собой было. Всего минут десять он там потолкался, и готово дело, познакомился с одной цыпочкой. Одевался-то Джеки с шиком, вообще видный такой был. Ну, может, треплив немного, ливерпулец все-таки и прочее. И вот, значит, он угадывает первых четырех победителей. Без шуток, друг, за первые же полтора часа он огребает десять-двенадцать штук. А это ж лет двадцать назад было, понимаешь, о чем я. А девчонка ему попалась правильная. Она и на бегах-то оказалась, потому что у нее отпуск был. И мудаков вроде Джеки еще отродясь не встречала, никогда. Ну, и что происходит потом, друг, после бегов, Джеки уже понесло, руки чешутся и все прочее. Хорошая игра в карты, вот что ему было нужно. Стало быть, прыгает он в такси и велит шоферу везти их в Абердин. А девчонка, между прочим, замужем. Не хочет она в Абердин, да и не может; ей надо домой вернуться, ну и так далее. Но Джеки ее уломал, у него, дескать, предчувствие, что непременно надо туда ехать, и вообще это не проблема, потому как они вернутся последним самолетом, не боись. Я к тому, что никакого долбаного самолета там не было, хоть Джеки об этом и не знал. Просто он думал, что это его единственный шанс, вот в чем вся штука. Сейчас или никогда, понимаешь, о чем я, на этот раз он вырвался, а другого случая не представится. Ну и потом, ему не хотелось, чтобы тот крутой из Глазго, не помню, как его, обо всем прознал. Так что нужно было вернуться с утра пораньше, при первых лучах зари. И тут такое дело – Эдинбург ему не годился; слишком близко, слишком рискованно; в Ньюкасл он тоже ехать не мог, там риску еще больше, так он, во всяком случае, думал, друг, – дескать, это уже Англия и все прочее. Он рассказывал Сэмми, что подумывал рвануть во Францию, в Довиль, да не рискнул, слишком хлопотно. Но куда ни рвать, делать это надо было сейчас, сию же минуту, на хер; башли в кармане, девка при нем. Стало быть, в Абердин, на такси, сколько бы это, блин, ни стоило. Взяли они номер в отеле, пять звезд, жратву и выпивку им прямо туда принесли, разные там сэндвичи с семгой, шампанское; перепихнулись на скорую руку, душ приняли и вперед. Джеки нашел казино; пришлось подмазать швейцара, потому как вход только для членов, а чтобы тебя членом заделали, надо двое суток дожидаться. Но он все уладил. Теперь можно и оттянуться. Так или иначе, друг, а дело было сделано, все путем; все, мать его, на мази, так что он пошел с девчонкой в классный ресторан, так, без особой причины, не думаю, что их голод замучил, просто часть долбаной процедуры, хотелось показать девчонке красивую жизнь; ну и они, значит, выпили, перекусили и так далее. А после в казино. Рулетка там или очко, вся эта хренотень Джеки ни фига не интересовали; ему нужен был покер, а кой-какие истории насчет игры на бешеные деньги до него доходили. Ну Джеки и надеялся выиграть с ходу. Потому он туда и поперся, в казино-то. Ладно, начал он принюхиваться. Тут еще надо помнить, что это Абердин, друг, ему приходилось осторожничать, его очень серьезные люди разыскивали, и я это не о фараонах говорю. Ну, в общем, туда-сюда иди сюда, нашел он нужного человека, здоровенного такого канадского ковбоя; играть тут играют, только за городом, несколько миль по берегу. Да ты не волнуйся, ковбой вас подбросит. Короче говоря, добрались они до того дома и Джеки там все просадил. Сэмми-то он рассказывал, что ему не подфартило, да кто его знает. Играли они в открытый покер и все такое, под конец у него была хорошая масть, но подвела последняя карта. Не знаю. Но все было, на хер, законно, так что жаловаться ему не приходилось. Вышел он из этого дома часов в семь утра и потопал в город на своих двоих. В кармане фунта три, заначил на самый крайний случай. Ну вот, топает он по дороге и вдруг вспоминает про девчонку; она же в доме осталась, друг, так и ждет его, дрыхнет в кресле, в одной из комнат. Но, бубена масть, что он может сделать, он же без гроша, полностью, на хер, выбыл из игры; пусть уж сама выбирается, ей же будет лучше, при его-то везухе. Хуже всего, что пара штук, с которых он начал, принадлежала не ему, – ну то есть ему, но получил-то он их совсем на другие дела; на то да на се, стать невидимкой, друг, дело не дешевое, знаю, о чем говорю. Так что положение у него было аховое; половина долбаной Британии уже гонялась за ним, и иметь дело еще и с другой половиной ему никак уж не улыбалось. Так что в конце концов он стакнулся с Сэмми, и, должен сказать, тот был вне себя от радости – ему тогда всего девятнадцать было, только-только разменял. Так уж вышло, что он с корешами ошивался в одной из букмекерских контор, в которые захаживал Джеки. Ну и все, на хер, через пару дней их замели, в Озерном краю, в тех примерно местах, а дальше рассказывать неинтересно. Сэмми схлопотал четыре года и все их отсидел. А за стариной Джеки много чего было, лондонское дельце и прочее.
Безнадежно, на хер. Зачем ты все это рассказал. Помалкивать надо было. Да и рассказывать тут особенно не о чем, это же просто долбаная
ну хрен с ним, не важно, сам знаешь, ни хрена не важно, и хватит, блин, об этом.
Элен; она так и вцепилась в Джеки. Чем он тебя, на хер, взял! Чем взял, на хер. Большой же мальчик, девятнадцать лет.
Ну так и что, на хер, мужик был в отчаянном положении, о чем, на хер, говорить.
Впрочем, тут он малость приврал. Сказал Элен, будто Джеки сначала искал корешка Сэмми; искал его кореша, потому как знал, что тот хороший игрок. А на самом деле искал он Сэмми, потому что Сэмми-то и был игроком. Крупных ставок он не делал, но ставил все, что было в кармане, и Джеки это расчухал. Ну и пошло-поехало. Все мы в охеренно отчаянном положении, друг, понимаешь, о чем я.
Ну так вот. Долбаная Элен, друг. Можно было бы ждать, что она расстроится из-за девчонки, оставшейся с задроченными ковбоями, ан нет. Так, во всяком случае, казалось. Ладно, хрен с ним.
И она перестала с ним разговаривать.
А ведь все это случилось, когда он был мальчишкой, вот во что она, похоже, не въехала. Плюс ты рассказал о том, что двадцать лет назад было. Да и рассказал-то, на хер, только для того, чтобы она поняла – он изменился! Исусе-христе! Потому как увидел впереди путь. Для них обоих. И как раз собирался много чего предпринять, это была его задача, его и никакого другого мудака, – вот что он ей втолковывал. Это и есть вся долбаная суть его рассказа. Ладно, с первым он прокололся, а теперь и со вторым тоже, друг, со вторым тоже; да не просто прокололся, а еще хуже все испортил. Лучше бы он, блин, дал ей заснуть.
Да ни хера сама эта затраханная история и не важна. Даже если бы все в ней было сплошным враньем. Он только одного и хотел – объяснить ей, что изменился. Вот и все, на хер.
Ладно.
Так что впредь не трепись. Он же знал это еще перед тем, как начал, знал, на хер, что, исусе-христе. Ладно, в жопу. Оно, между прочим, тоже не всегда верно. Похоже, некоторым людям это необходимо. Конечно, что тебе нужно было сделать, друг, что тебе нужно было сделать, – обнять ее, поцеловать, тебе следовало поцеловать ее, объяснить, что со всем этим дерьмом покончено. Потому как ведь покончено же, кранты. Вот и сказал бы ей. Сам ты с собой дурацкую шутку сыграл, друг, вот в чем проблема. Тебе дали шанс, а ты его профукал.
Так ты тогда все и оставил. Так ведь пришлось оставить. Я к чему, раз уж так получилось, раз профукал, ну и оставь все как есть. Этот урок ты хорошо затвердил. Любой ценой оставаться в своем уме.
Ладно, хрен с ним, палку надо покрасить, сейчас самое время. Сэмми встает с кушетки. Не волнуйся. Ладно.
Вышел из пункта А, так уж топай до пункта Б, трудность только в том, что покамест ни единый мудак не знает, что с ним случилось. Не понимает, что ты нуждаешься в помощи. Белая палка, очки – это ж все едино, что паспорт.
Сэмми закрыл за собой дверь на два оборота. Отныне никакого гребаного риска. Отныне, друг, отныне.
Пройдя коридором, он постучал в дверь и, когда та отворилась, сказал: Привет.
А, привет, сынок… Это тот старикан, который одолжил ему пилу.
Опять я. Сэмми говорит, дело в том, э-э – что я на самом-то деле слепой. Глупо звучит…
…
Я для того вчера и брал у вас пилу, чтобы ручку у швабры отпилить – она у меня вместо палки, для прогулок.
А-а… понятно.
Тут вот еще что, я хочу выкрасить ее в белый цвет, чтобы вид у нее был, как надо. Вот я и подумал, понимаете, у меня в прихожей, в шкафу, есть немного белого лака, да только там не одна банка стоит, и я, ну, не могу сказать, в какой что, вы понимаете, такая вот дурь.
…
Подумал, может поможете мне ее отыскать? Вы не беспокойтесь, мне бы только банку найти… чтобы знать, что это та самая.
Ну да, сынок, да, я все понял, да.
Отлично.
О господи… не беспокойся. Погоди, я сейчас башмаки натяну. Слушай, кстати, как тебя звать-то?
Сэмми.
Сэмми, ну да, верно, ты уже говорил; а я Боб. Сейчас, надену башмаки. Зайди на минутку.
Э-э
Я просто скажу жене и все, она телик смотрит, с внучатами.
Понимаете, я дверь оставил открытой.
Так иди закрой.
Сэмми мнется. Понимаете, Боб, тут такое дело, не хочу показаться нахалом, но просто я, ну, собирался уйти и прочее, и э-э
Да ты хоть зайди, с женой поздоровайся. Давай, закрой свою дверь.
Сэмми вздыхает. Я просто палку хотел покрасить.
Так я ее тебе покрашу, сынок, не волнуйся.
Да, но я хотел сам, потому что…
Ладно, ладно, хорошо.
Понимаете, я потом выйти собирался, ну, знаете, это, э-э, если честно, Боб, тут дело в моей подружке, она скоро домой вернется. Ну я и хотел успеть до нее, покрасить и прочее.
Да не волнуйся ты, я ж тебе о том и твержу, сам покрашу. Разок краской пройтись, плевое дело, ты только дай мне минутку.
…
Просто подожди немного, я башмаки отыщу.
Боб уходит в квартиру. Сэмми закрывает глаза. Просто не хочется ему ввязываться в разговоры. Если бы он вошел в квартиру, познакомился с женой Боба, то оказался бы в положении, в котором волей-неволей придется, на хер, объяснять свое положение. Возможно, она уже знакома с Элен, возможно, сталкивалась с ней, на лестнице или еще где, может, в лифте. Долбаные осложнения, вот что это такое; сплошные долбаные осложнения. А тут еще живот, друг, вот прямо сейчас и прихватило, нервы; нервы. Христос всемогущий. Он возвращается к своей двери, стоит, прислонясь к парапету. Сыро, похоже, дождь собирается.
Ну вот, Сэмми!
Он открывает дверь, впускает Боба. Чего, на хер, суетиться-то. Жизнь слишком коротка, времени мало. Все это не важно. Боб начинает чесать языком. Ну точно, как Сэмми и думал. Его жена уже знакома с Элен. Мать-перемать. Мог бы и сам сообразить. Сэмми открывает дверцу шкафа. Где-то здесь, говорит он.
Господи-боже, Сэмми, да у тебя тут чего только нет! Боб фыркает от удовольствия. Прямо свалка какая-то. Я свет включу, ладно?
Да, конечно. Сэмми отступает на шаг, слушая, как Боб переставляет там все с места на место. А вот это ему совсем ни к чему. Она на второй полке сверху, говорит он, у самой стены, видите ее? там должно быть несколько банок.
Вот она!
Хорошо.
Да, белая… вижу.
Охеренное спасибо, бормочет Сэмми.
А где у тебя кисти и прочее?
В гостиной.
Боб снимает жестянку с полки, выключает свет, закрывает дверцу. Да, говорит он, твоя подружка как-то разговорилась с женой.
Ну да.
Пару недель назад. Правда, она не сказала, что ты слепой.
Нет.
Хорошая девушка…
Да. Послушайте, Боб, я бы не против сам ее покрасить, ну, то есть, господи…
Да ладно, брось.
Сэмми шмыгает носом.
Это и займет-то всего минуту. Я понимаю, тебе хочется самому и все такое, но ведь у тебя же неровно получится, а зачем тебе это нужно? Плюс пропустишь какие-то места. И потом, ты не подумал насчет полов, заляпаешь их краской, потом отчищать придется. А ты и не заметишь, что заляпал. А тут вернется с работы твоя подружка и будут у тебя неприятности. Не пойми меня превратно, сынок, я не к тому, что ты у нее под каблуком, я просто о том, что если брызги подсохнут, их потом хрен отдерешь, понимаешь, они же затвердеют.
Сэмми открывает дверь в гостиную. Ничего не поделаешь, пусть повозится, раз ему охота – не то чтобы это имело какое-то, на хер, значение, несколько капель там, несколько здесь, Сэмми без разницы. Ладно, говорит он, спасибо, Боб.
Я тогда возьму эти старые газеты, хорошо?
Давай-давай… Сэмми нашаривает кисет, садится в кресло, сворачивает сигарету. Управлять происходящим ты все едино не можешь, пора к этой мысли привыкнуть; ну так и расслабься. Боб мужик хороший, но дело ни хрена не в этом. Просто ему вовсе не улыбается, чтобы какие бы то ни было мудаки шныряли по его дому. Последнее, что ему нужно, чтобы сюда заявилась супружница Боба, господь всемогущий, Боб вполне может описать ей, в каком состоянии находится квартира, и она захочет зайти, прибраться. Да нет, не станет она этого делать. Не станет, если только не узнает, что Элен запропала. А она этого не узнает. Другое дело, что в квартире бардак. И Боб ей об этом скажет. Это уж точно, охеренно точно. Какая глупость, друг, какая глупость; все, как обычно, долбаные мухи вырастают в слонов. Да, произносит он, я об этом не упоминал, но ее сейчас нет в городе, подружки-то, уехала, ребятишек своих повидать.
А, вот оно что.
Первый брак и все такое, дети живут с ее бывшим.
А-а.
Понимаете, они там в школе учатся, ну, и прочее, я насчет того, что ей не хочется, чтобы дети прерывали учебу, вот она их в Глазго и не перевозит.
Дерьма собачьего, друг, муж Элен – просто козел высшего ранга. И зачем он несет этот вздор, никакой же необходимости нет, глупость гребаная; лучше бы музыку включил. Сэмми, откашлявшись, так и делает – вставляет первую попавшуюся под руку кассету; Пэтси Клайн,[20] Сэмми убавляет громкость.
А где они живут? спрашивает Боб.
Сэмми делает вид, что не слышит.
А, Сэмми?
Что?
Где они живут? малыши-то.
В Дамфрисе.
О, в Дамфрисе!.. Здорово.
Знаете те места?
Да в общем, не очень, сынок, – вот много лет назад, когда дети еще были маленькие, я мог бы о них порассказать. Знаешь, мы с Мэри арендовали тогда у ее старой тетки жилой прицеп. Жили в деревне, южнее Странрара. Господи, память совсем никуда стала, какой-то клятый трейлерный парк из таких же прицепов, на самом мысу. Еще там посудина ходила в Ирландию, это я помню, ирландская посудина.
Сэмми берет пепельницу, стряхивает в нее пепел. Боб любит потрепаться, ну и спасибо, на хер. Говорит, говорит. Покончив с покраской, он предлагает еще и долбаную кисть отмыть, но Сэмми говорит: Нет, честно, с этим я сам справлюсь.
Уверен?
Ага.
Потому как мне же не трудно.
Нет, Боб, честно, мне пора привыкать управляться самому.
Ну, верно… да, я тебя понимаю.
Я ж не совсем калека! Сэмми улыбается. А за покраску спасибо.
Да брось, господи!
Нет, серьезно, ты мне здорово помог.
Да ты и сам сделал бы то же.
Конечно, но…
Брось!
Сэмми доходит с ним до двери. Нет, Бобу он доверяет, он ему доверяет. Просто…
Христос всемогущий. Вот же херня. Не важно, просто тебе нельзя рисковать, нельзя рисковать. Вот и все, и говорить не о чем. Сэмми возвращается в гостиную, выключает кассетник, потом открывает окно, чтобы выветрить запах краски, ветер чуть не вырывает створку из его руки, приходится поднатужиться, чтобы ее закрепить. Исусе. Он облокачивается о подоконник, чувствуя, как сквозняк овевает лицо. Сколько еще возни предстоит; нужно свыкнуться с мыслью, что
Господи, как он любил эту песню. Такая охеренно грустная. Старый долбаный Вилли.
Он уселся в кресло, нащупал кисет. Вообще-то кружка пива ему бы не помешала. Вот уж неделя прошла, целая неделя, как он ни в одном глазу. Что не так уж и плохо, хоть деньги в кармане водятся. Не помешало бы и поговорить с каким-нибудь мудаком, откровенно; с кем-то, кому можно верить. Просто разобраться во всем. В той же начисто выпавшей из памяти субботе. Ты все гадаешь, чего же тогда было. Смысла ноль, но ты все равно гадаешь. Вот и перемолвился бы с Ногой, разобрался бы что к чему. Беда только в том, что если у Сэмми она выпала, то и у Ноги, скорее всего, тоже. Хотя, если повезет. Если повезет.
Неохота ему никуда тащиться. Надо было сунуться в блеваду, взять полбутылки да пару банок, посидел бы здесь, музыку послушал – плюс попытался бы во всем разобраться, идея-то в чем состояла, во всем разобраться. А тащиться куда-нибудь неохота. Усилия делать. Жить. Вот потому-то и нужно тянуть лямку. Управлять тем, чем можешь управлять. Если можешь, чем бы оно ни было. А если не можешь, то и хрен с ним, друг, какой, в жопу, смысл, нет никакого, с таким же успехом можно просто-напросто плюнуть на все, попросту плюнуть. Понимаешь, о чем я, если не можешь чем-то управлять, так и плюнь на него, забудь, блин.
Долбаная песня, друг. Встречаются такие. Занятно все же, как… Опять живот подвело. Сраный живот, друг, он то и дело, на хер, то и дело… Вот прихватило, так прихватило.
Спустя какое-то время Сэмми решает принять ванну. Когда-то ж надо. Потому как он небось весь провонял, на хер, ты шутишь, – десять дней вообще не мылся! Это ж охереть можно.
Плюс все болит. А от горячей воды организму одна только польза. Да и губкой по телу пройтись тоже невредно, кожа, небось, уже шелушиться начала. Так и прыщами зарасти недолго. Природа берет свое – если ей позволяешь.
Он оставляет приемник включенным, чтобы следить за временем. С десяти до полуночи передают хорошую программу, вот он и решил полежать, помокнуть, послушать радио. Долбаная борода, друг, щетина, если за ней не следить, она скоро в волос пойдет, тогда с ней возни не оберешься. В прежние времена кожа на шее у него была нежная. Мальчишкой он и побриться-то не мог без того, чтобы всему не изрезаться, не покрыться сыпью. А тут еще старик его долдонил, чтобы Сэмми пользовался этими древними хреновинами с вставными лезвиями, а их если не закрепишь как следует, то и ходишь потом, будто какой-нибудь козел из убойного отдела, точно тебе говорю, друг, вся харя в кровище. Братцу-то Сэмми с ними возиться не пришлось, потому как это Сэмми сражался в битвах, а братец только плоды его побед подбирал, да и к тому времени, как он начал бриться, старик уже и бороться устал, так что братец мог спокойно пользоваться одноразовыми лезвиями.
Сколько же он собачился со стариком. Позорище, если подумать.
А как еще детей-то подымешь. Взять хоть сынишку Сэмми. Да, мать твою, жизнь – сложная штука. А время идет. Глядь, а уже для всего и поздно.
Самое поганое, что было у первой жены Сэмми, это ее папочка с мамочкой. Мамочка говорит то, мамочка говорит это, а папочка вообще только и делает, что говорит. Верно, красивая была девчонка, если не обращать внимание на ее выпяченную губу. Такая нижняя губа, друг, кажется хрен знает какой сексуальной, а потом ты обнаруживаешь, что она означает: забалованную сучку.
Да ладно, просто она была молодой, на хер, что уж теперь, человеку и молодым побыть нельзя, мать-перемать, и я был молод, все мы были охеренно молодыми.
Ну его к черту, это бритье, лучше он бороду отрастит. Сколько уж лет бороды не носил. Плюс ему вовсе не хочется нос себе отчекрыжить. Пока наполняется ванна, Сэмми делает себе чашку кофе, сворачивает две сигареты, затаскивает в ванную комнату стул и пристраивает на него все это плюс чистую одежду. Вода чересчур горячая. Придется малость обождать.
Да ни хрена не придется, друг, можно же холодную пустить! И снова долбаный старик, исусе-христе, почему он то и дело вдруг вспоминает старика? эти его способы экономии, среди которых был и такой – не лить холодную воду в горячую, мы же платим за тепло. Сэммина мама просто на стену лезла. Полчаса сидишь и ждешь, пока вода остынет. Какая тут экономия! Просто старик терпеть не мог хоть что-то отдавать неведомым мудакам, особенно долбаным капиталистам. Платишь за горячую воду, говорил он, вот и получай горячую, и не хер из нее холодную делать. Нечего их баловать-то, гребаных жирных ублюдков.
Хотя нет, так он не говорил, он вообще не сквернословил. То есть сквернословил, конечно, но не при детях, разве когда совсем уж из себя выходил.
Сэмми включает холодную воду, раздевается. Забирается в ванну, держась обеими руками за край, представляя, как он сейчас зацепится за что-нибудь ногой и рюхнется. По радио передают десятичасовые новости. Обычное дерьмо. Плюс вода все еще обалденно горячая, приходится добавить еще холодной, прежде чем опуститься на колени. Яйца окунаются в воду. Первыми. Чего ж удивляться, что у человека в конце концов вены лопаются.
Сэмми понемногу погружается в воду, пока не принимает, наконец, положения, в котором, даже если кто-нибудь начнет ломиться в долбаную дверь, он этого все равно ни хера не услышит. Да если бы и услышал, отвечать все равно бы не стал. Хотя может, конечно, и Элен появиться. Так у нее же свои долбаные ключи есть. Ну, а если она их где-то забыла, подождет, ничего страшного. Разве что ей захотелось бы раздеться и поплескаться с ним вместе. Тогда можно было бы и подумать. При условии, что она к его телу прикасаться не станет. Прекрати, Элен, хватит, на хер, щекотаться, малыш, мне нужно отмокнуть, блин, понимаешь, о чем я, о чистоте, дурында, о чистоте! Сэмми смеется. Скоро он весь уходит под воду, соскальзывая пониже, пока ступни не упираются в дальний край ванны. Наконец-то в безопасности. Он лежит в тепле и покое, мир отступил далеко, со всеми его злоключениями и невзгодами, оставив Сэмми посреди огромного, бескрайнего океана, – крошечный островок, который лежит себе здесь, а мимо медленно проплывает кит, музыка увлекает за собою сознание, вроде чего-то христианское, исусе-христе, вот в чем гребаная проблема с этой страной, друг, ты словно в армии спасения состоишь и тебе даже на треханые полчаса не дают позабыть о боге, – слушаешь классные скрипки и банджо, а потом выясняется, что это тебя грузили на тему исус-меня-любит.
Ничего, не обращай внимания; пусть играет, и брось ты, на хер, брось…
А-а-ах – единственная проблема в том, что ты сейчас такой беззащитный, такой расслабленный, самое время какому-нибудь мудаку достать тебя – нет ничего проще, идеальное время, идеальное место, а у тебя и оружия никакого нет под рукой; ну никакого. Ты даже дверь в ванную не запер. Больше того, и входную на задвижку не закрыл. Да и хрен с ней, друг, нашел о чем волноваться. Хотя ты, бывало, совершал в жизни неверные шаги. Этого отрицать невозможно. А с другой стороны, никто тут не виноват, временами ты ощущал в себе силу, бросался в бой, делал то да се. И оно тебе же боком и выходило. Ты оказывался вовсе не таким сильным, как думал. Сколько раз это случалось. Так что будь настороже. Потому что иначе размякнешь; в апатию впадешь, понимаешь, станешь все принимать на веру. А это гребаная глупость. Во всей истории с потерей зрения есть хотя бы одна хорошая сторона – это урок, охеренный жестокий урок. Когда зрение восстановится, все будет иначе. Вот этим ему и следует заняться. Она была не права в их споре. Ну, том, в пятницу утром: не стоило ей говорить, что он не способен ничего заработать. Ладно, была у нее работа, приносившая несколько фунтов. А у него никакой не было. Все охеренно просто, друг, понимаешь, о чем я, основы экономики. Она была в дурном настроении. Не стоило ей затевать этот спор. Жалкое пособие раз в две недели. Разве на него проживешь, ни хрена. Она-то говорила, что это нормально, потому как у нее свои доходы имеются, но какого хрена, друг, нельзя же спать с женщиной и позволять ей, на хер, платить за все; он же не шмаровоз какой-нибудь, и не был им никогда, да, друг, это во-первых, он не из этих ублюдков.
Англия, ну да. Вот о чем он подумывает. Когда и если. Если и когда.
Если и когда. В том-то и вся разница. Не важно, что ты то и дело возвращаешься к этому, это ты, твоя задача, только твоя. Да та же ванна, правильная вещь, шаг в правильном направлении. Может, все же побриться. Ногти постричь на ногах. Те же гребаные глаза, друг, чем больше ты о них думаешь, существуют же шансы, что все это временно. Может, нерв какой в позвоночнике перекрутился; тогда требуется только раскрутить его обратно. А когда он раскрутится. Сэмми об этом и раньше с Элен говорил; Англия, Элен не возражала; вот только малыши, она не хотела уезжать от них слишком далеко. Пока они не подрастут. Нет, представляешь, потерять детей! Я о том, что это значит для женщины. Конечно, Сэмми тоже своего потерял, но тут дело другое. Плюс он все-таки с Питером время от времени видится. А она нет. Старушка Элен, друг, просто позор. Чего ж удивляться, что она подавлена. Хотя всякое даяние – благо. То есть если как следует вдуматься. Опять же, мальчишка сейчас в таком возрасте; сплошные неприятности; главное дело – к дури не пристрастился бы; Сэмми видел слишком много таких мудаков. Мальчишка вроде в порядке, но ведь ты ж наверняка-то не знаешь. Вообще-то, если б он знал, что Сэмми ослеп, то пришел бы его проведать. Это уж точно. Только Сэмми не хочет, чтобы он приходил. Не хочет, чтобы он даже, на хер, прознал об этом. Не сейчас. Вот когда он со всем разберется. Когда он со всем разберется, тогда другое дело.
Он уходит под воду с головой, вслушиваясь в ревущий гул, который нарастает под черепушкой. Что-то он начал задумываться о вещах, о которых ему думать совсем не хочется. Жизнь у него была трудная. Более чем трудная. Приходилось идти на риск. Еще как приходилось. Так уж сложилась жизнь. Даже мальчишкой, когда в карты играл; чего он только не вытворял. Неудивительно, что старик психовал. Стоит задуматься об этом, и отлично его понимаешь. Если бы можно было начать сначала. Правда, временами тебе только и оставалось, что улыбаться; ну так ты и улыбался. Не потому что тебе было весело. Фактически совсем, на хер, наоборот, веселого было мало. Просто у Сэмми нервы, похоже, устроены не так, как у прочих людей. Ну вроде как
херня, друг, херня. Он поднимает голову над водой. Музыка лупит вовсю. Одно из немногих кантри-шоу, какие можно поймать по радио, ты всегда с нетерпением ждал его, там нередко песни «изгоев»[21] крутят, он, бывало, записывал их, если находил долбаную пустую кассету, а когда Элен возвращалась домой, давал ей послушать. После работы она никогда не ложилась спать сразу, всегда была малость под кайфом, хотела сперва расслабиться, ну, может, рассказать о том, какие наглые засранцы поналезли в паб этой ночью, посидеть, сбросив туфли, у камина, и чтобы Сэмми помассировал ей плечи. А иногда он врубал музыку, негромко, и готовил омлет с тостами. Не то чтобы она так уж любила кантри, ей больше по душе был соул. Так ведь кое-что из кантри это и есть чистый долбаный соул. Теперь-то она начала это понимать, но на это ушло время. Плюс, если его не было дома, она никогда кантри не слушала. Только баб, распевающих соул. Все они, когда поют, то вроде как разговаривают. Вот чего Сэмми в них не любил. Ну пели бы свои сраные песни и пели, друг, так ведь нет же, все у них сводится к одному: Девочки, вы все знаете песню, которую я вам спою, и если сердце у вас разбито на части, услышьте меня, и будет вам счастье:
Гребаная говенная пропаганда, друг. Вот кантри, это для взрослых. Во всяком случае, частично. Потому его и по радио хрен поймаешь, не нравится им, гадам, что ты его слушаешь, этим вот, сильным-мира-сего, точно тебе говорю, взрослая музыка, оттого им и не нравится, что ты ее слушаешь. Да и в этой программе, на которую настроился Сэмми, у мудака, ихнего диджея, дурацкая привычка чесать языком во время вступления, я к тому, что когда они классику передают, то ни хера себе этого не позволяют, никакому хмырю и в голову бы не пришло трепаться под начальные такты или там первую тему, да если б они хоть раз попробовали, эти их задроченные члены парламента тут же подняли бы галдеж, в палате лордов или где там, они бы революцию, на хер, устроили, друг, заодно со своими избирателями.
Шампунь куда-то пропал.
Без всякой на то причины.
И вдруг это чувство, друг, в самом нутре, под хлебаной ложечкой. Он поднял голову, прислушался. Потом ухватился за края ванны, встал в воде. Прошла минута, прежде чем плеск ее стих. И в ухе все еще гудит, это тоже мешает, когда пытаешься вслушаться; плюс радио орет слишком громко – он оставил двери ванной и гостиной открытыми, чтобы слушать его без помех, а долбаная входная дверь-то, друг, он ее даже на задвижку ни хрена не запер, е-мое. Даже на задроченную задвижку! представляешь, так ни хера и не запер! гребаный идиот, друг, ни хрена себе, совсем, на хер, спятил.
Ладно.
Он дышит через нос, расправляет плечи. Конечно, надо было запереть ее на задвижку, чертова глупость, представляешь – забыл. Хотя какой от нее толк, ни хрена никакого, если они захотят войти, друг, если захотят, то и войдут, на хер. И конец истории. Фараоны или долбаные торчки, долбаные взломщики; им это проще простого. Ладно, черт с ним, Сэмми постоял в ванне, держась за край, потом распрямился, вылез наружу. Вытерся. Оделся, стараясь не шуметь, выскользнул в прихожую, пересек ее, вошел в гостиную, захлопнул за собой дверь и спиной припер ее поплотнее. Постоял, не двигаясь. Музыка орет, ничего не слышно. Пошарил рукой справа от себя, ухватился за спинку стула. Хорошо бы радио приглушить, да только не хочется гостиную переходить, еще набросятся, прямо посередке, вдалеке от двери. Ладно. Он облизал губы, думал сказать что-нибудь, погромче, но не стал; вместо этого нащупал за спиной ручку двери, вцепился в нее, повернул, открывая, выскочил наружу и плотно прикрыл дверь. Два достижения сразу: если в прихожей кто есть, он взял их врасплох, а любому долдону, оставшемуся в гостиной, придется либо открыть дверь, либо проползти по стене вниз шесть долбаных этажей. Он закрыл и кухонную дверь. Оружия у него никакого нет, необходимо оружие. Шкаф в прихожей. Сэмми немедля направился к нему, пошарил на полках, где молоток? не нашел, может, Боб куда переложил, поискал еще немного, и тут кто-то громко заколошматил по входной двери, и Сэмми повернулся так резко, что впоролся лобешником в косяк, ну ты и ублюдок, он покачнулся, однако на ногах устоял и бросился в кухню, за лежавшим в буфете хлебным ножом; сунул лезвие в правый карман штанов, обхватил ладонью рукоять, прикрывая ее. Так, хорошо. Вот он и у входной двери. А здорово треснулся, лоб так и гудит, может, на нем и долбаная вмятина осталась; такие штуки, друг, понимаешь, о чем я.
Ладно. Ничего не слыхать. Клятое радио, друг. Он старательно вслушался. Ничего. Глазка на двери нет, да он все едино ни черта бы сквозь него не углядел.
За ушами вода стекает. И спина вся влажная; он пощупал под майкой, мокрая даже, забыл вытереть. Да он ее и потереть ни хера не успел, просто…
Христос всемогущий; ладно; он вздохнул, разжал правую ладонь, расслабил запястье. Может, просто причудилось. Есть тут кто? спросил он, и еще раз, погромче: Есть тут кто?
Одно, на хер, можно сказать наверняка, никому он, друг, долбаную дверь открывать не станет, это уж хрен вам. Либо они уже здесь, либо нет. Скоро узнает. Ладно. Он защелкнул задвижку. Снял с гвоздика ключ, запер на два оборота замок. Постоял, вслушиваясь, потом отвернулся от двери. В общем, один хрен. Сэмми тряхнул головой, прошел, не выпуская нож из руки, в гостиную, нашел приемник, убавил громкость: вот тут кто-то и пошевелился, на другом конце комнаты.
Если звучит, как кантри, значит, кантри и есть… так что ли, Сэмми?
…
Может, отложишь ножик-то? Или как? А?
Я думаю, вам лучше последовать этому совету, произнес кто-то еще.
Сэмми облизал губы, пошмыгал носом, пожал плечами и положил нож на кофейный столик. Самооборона, сказал он, не преступление.
Ему дали минуту на сборы, потом завели руки за спину и защелкнули браслеты. Еще двое дожидались в коридоре. Доведя Сэмми до воронка, они затиснули его между двумя мужиками, продолжившими поверх его головы дурацкий разговор. Жутко гудело в ухе, и левый глаз, казалось, слипался, ячмень на нем, что ли, вырос. А что же еще, мать твою, почесать бы его да не выйдет. Это не по правилам, сказал он, эти ваши блядские браслеты. Я же все равно не сбегу.
Кто-то хмыкнул.
И как насчет покурить?
Сэмми, ты такой мачо, знакомство с тобой просто честь для всех нас.
Слушай, ты, злейший враг людей, я всего лишь попросил сигарету, ты понял? Такой вот безрассудный поступок.
Заткнись.
Сэмми поводит плечами, стараясь расслабить руки и запястья. Что толку схлестываться с засранцами. Что толку заводиться, ни хера никакого толку нет. Никуда это тебя не приведет, так что просто расслабься. Будешь сидеть здесь, пока они еще чего не придумают, это все не твоя забота. Лучше за пульсом следи. Только эта чернота, друг, и дает тебе шанс, сосредоточься, даром что никакие зрительные помехи тебе не грозят. Малый один когда-то научил его этому. Тут главное – дыхательные упражнения. Особенно полезны для курильщиков, потому как еще и легкие помогают прочистить: значит, так, выдыхаешь, покуда мочи хватает, потом небольшая задержка и еще резкий выдох; а после медленный вдох, через нос; просто вдыхаешь вполовину обычного, потом опять пара таких же выдохов, потом опять, ну и продолжаешь, пока вообще обо всем не забудешь. Полезная в сложных ситуациях штука. И малый-то был даже не из крытки, Сэмми с ним на стройке работал. Кругом пылища. Гребаные тучи пыли; асбест, друг, и прочее. В нос набивается, в горло. Утром проснешься, сплюнешь, изо рта как будто хлебаный шлак вылетает. Упражнения были нужны, чтобы успокоиться, потому ты их и делал, чтобы не выходить из себя. Беда в том, что ты не всегда о них вспоминаешь, еще и начать не успеешь, а уж того, вышел. Ну уж это последнее, что ему нужно, – выйти из себя, в его-то положении, друг, это было бы долбаной дичью. Ни очков у него нет, ни палки. Ни чертова табака. Если б очки были на нем, он мог бы закрыть глаза, вздремнуть, самое разумное дело. А сейчас у него такой возможности нет; слишком он, на хер, весь на виду. Сэмми втягивает носом воздух, потом выдыхает, выдыхает, пока хватает мочи.
Перед началом допроса браслеты сняли и тут же защелкнули снова, но уже спереди. В комнате, похоже, находилось несколько человек; их интересовала пятница, как он начался, этот выветрившийся из памяти уикенд. Голоса доносились с разных сторон, звучали так, словно люди, говоря, расхаживают по комнате. И все время работает компьютер. Сэмми начал рассказывать все по порядку. Размолвка с Элен и все такое, началась с полной глупости, о ней и говорить-то не стоит, собственно, он толком не помнит, в чем было дело, какая-то долбаная мелочь. Вообще-то, он думает, что на работу она ушла рано, что-то в этом роде. Его это всегда донимало – что ей приходилось работать по ночам – особенно под конец недели, и особенно если у него в кармане заводилось немного деньжат. Для людей вроде Сэмми это большое искушение. Он ведь не домосед. Ну, просто не привык сидеть дома. Он любит выйти на люди, заглянуть в паб, не только ради выпивки, ему и потрепаться нравится, разговоры послушать. Даже если ты уже года три, как на свободе, все равно тебе это в кайф.
Нет, без шуток, сказал он, даже вот выйдешь с утра пораньше на улицу и вроде забываешь, где ты, и вдруг слышишь первый голос, ну, точно, Глазго; и сразу разулыбаешься, понимаете, о чем я, потому как это и вправду сюрприз.
И так хорошо себя чувствуешь, знаете, так хорошо, радостно. Ну а в пабе, господи, ты ж и не думаешь напиваться. Просто берешь кувшинчик, а итоге оказывается, что перестарался. Старая история, но правдивая. Встречаешь разных ребят, сидишь с ними, болтаешь. Обычное дело в Глазго, друг, какой-нибудь дрочила покупает тебе выпивку, и ты волей-неволей покупаешь ему, в ответ.
Не пользуйтесь больше словом «дрочила», компьютер его не принимает.
…
Ладно, значит, говоришь, сожительница твоя домой не вернулась. Поэтому ты вышел, заглянул к букмекеру, сделал несколько ставок, все оказались удачными, а после этого ты забрел в пивную, и на этом все, конец истории.
Ну да, а в воскресенье утром очнулся.
То есть ты нарезался вдрызг.
Я вообще пару недель в рот не брал, может, потому и выпитое подействовало на меня сильнее обычного.
Или ты выпил больше обычного?
Да, потому что у нас с ней, как правило, крупных скандалов не было, я это и говорю.
К тому же ты был подавлен.
Ну конечно, подавлен, работу найти не могу и все такое, обычное дело.
А почему ты думаешь, что это был крупный скандал? Ты говорил «размолвка», а теперь говоришь – крупный скандал. Как это так?
Да просто мы редко с ней ссорились, мы, в общем-то, ладили, а когда такое случается, ты называешь это скандалом, потому как сильно расстраиваешься. Я расстроился, оттого и напился.
И все, что ты помнишь с того времени и до самого воскресного утра, это какие-то разрозненные обрывки?
Верно.
Что за обрывки?
А?
Ты говоришь, обрывки, что это, собственно, значит?
Ну как… Сэмми умолкает. Малый, который стучал по клавишам, тоже останавливается. Все ждут. Молчание истолковывается против тебя. Сэмми поерзывает на стуле, поправляет браслеты. Черт, руки режут, бормочет он.
Обрывки, Сэмми, о чем ты говоришь?
Это вы о том, что я помню?
Именно об этом.
Да я не уверен, я просто, ну это
…
Ты говоришь, что повстречался тогда с собутыльником.
Да, точно, с Ногой, я же говорил.
Хорошо, и ты провел с ним всю ночь?
И субботу тоже.
Так что этот обрывок у нас проясняется?
Ну… Сэмми оборачивается; обычно вопросы задают двое-трое из них, а вот этот только что влез, последний вопрос был его; и выговор у него, похоже, английский.
Вы говорили о прояснившихся обрывках.
Нет, я просто о том, что какие-то кусочки вдруг проясняются сами собой.
Хорошо, давай ими и займемся, прояснившимися кусочками.
Кто-то фыркает.
Можно мне покурить?
Ты сказал, что в тот день встретился с парой типов.
А, ну так, если пьешь в тех местах, понимаете, так уж кого-нибудь да обязательно встретишь.
Кого?
Кого?
Кого?
Вам что, имена нужны?
…
Сэмми пожимает плечами. Билли, как его там.
Билли как-его-там?
Да.
Ты встретился с Билли как-его-там?
Фамилии я не помню. Потом еще Робертс – Тэм, Тэм Робертс, с ним я тоже столкнулся.
Ты встретился с Тэмом Робертсом?
Да, он на рынке работает.
И кем же?
Торгует с лотка.
Чем торгует?
Не знаю. То да се…
То да се. Так ты с ним по этому поводу и встречался? чтобы купить то да се?
Мы переходили из паба в паб, ну, в одном я его и встретил.
И он тебе что-то толкнул или наоборот – ты ему?
…
В ответ молчание.
Я не понимаю вопроса. Сэмми шмыгает носом. Может, все же найдется сигаретка?
Стало быть, эти двое, прославленный Билли как-его-там и продавец с рынка: кто еще?
Нет, честно, приятель, ничего не могу сказать; я уже говорил, я быстро напился.
Это закаленный-то малый вроде тебя?
Ну, вы же знаете, как это бывает, чем больше пьешь, тем быстрей надираешься.
Вот, значит, как это бывает.
Полезная информация.
А сегодня ты с ними встречался?
Что?
Сегодня, ты с этими двумя сегодня встречался?
О чем это вы?
Похоже, вопрос его заинтересовал.
Ни с кем я сегодня не встречался.
Вот в это поверить трудно. А?
Мистер Сэмюэлс…
Что?
Отвечайте, когда вас спрашивают.
Так я же не всегда понимаю, со мной вы говорите или еще с кем, вот в чем проблема.
Что еще за проблема?
Моя проблема.
Ваша?
Я же только слышу голоса, с разных сторон.
Вы считаете, что мы пользуемся нечестным преимуществом?
Сэмми улыбается.
Вы обратили внимание, мистера Сэмюэлса так просто не объедешь.
Продувной парень.
Это да, продувной, так что давайте держаться за прояснившиеся кусочки. Так вот, насчет Билли, знаменитого Билли, что ты о нем можешь сказать?
Он малый не так чтобы крупный.
Ага.
Ну то есть ниже меня. И по-моему, шатен.
Это он тебе так сказал?
Нет, я сам запомнил.
Глаза голубые?
Может быть, не заметил, а вот насчет шатена, тут я уверен, и он точно ниже меня.
Так он тебе сказал?
Нет, я запомнил.
Я думал, ты незрячий.
Сэмми вздыхает.
Я к тому, что именно это ты и рассказываешь направо-налево. Плюс всякие инсинуации, если начистоту, ты попросту сплетни распускаешь. Мы читали твое заявление по поводу наших коллег, выглядит оно препаскудно.
Я уже взял его назад.
Ротвейлеры, вот как ты назвал наших коллег.
Я в то время был зол, понимаете, ну и наговорил сгоряча; возможно, кое-что преувеличил.
Возможно, преувеличил?
Да.
В общем и целом ты утверждал, что это наши коллеги лишили тебя зрения.
…
В ответ молчание.
Это не так, говорит Сэмми, просто я всех подробностей не помню. У вас же есть заявление, а у меня его нет; а если б и было, я все равно не смог бы его прочитать.
Такой сообразительный малый, как ты! Поверить не могу.
…
Вообще-то он не так уж и точен. И забирает свои слова назад. Вы заметили? забирает с такой же легкостью, с какой произносит их. Верно, мистер Сэмюэлс?
Что?
Что?
…
Я поясню, что меня заинтересовало, причем исключительно с позиций человека, играющего у букмекера, – меня заинтересовали победители, на которых ставил этот тип. Сэмми говорит, что все его ставки оказались удачными. Я хотел бы услышать имена тех, на кого он ставил.
Э-э…
Э-э?
Я пытаюсь сосредоточиться.
Видите ли, если я делаю ставку и выигрываю, я победителя запоминаю. Имена лошадей забывают лишь те, кто проигрывает. Это немного похоже на встречу с товарищем, которого какое-то время не видел, ты можешь забыть его имя, но то, что ты с ним встретился, уж никак не забудешь. Я говорю сейчас о времени более позднем, о холодном свете утра, плюс-минус потере памяти – одно забылось, другое забылось. Вот я и спрашиваю у Сэмми, на кого он ставил?
На фаворитов, имен не помню.
Ага.
Я просто взял расписание забегов и пометил их крестиками.
Это потому что ты слеп?
Нет.
Неграмотен?
Нет.
В какой это было конторе?
Э-э, вроде в той, что на Квин-стрит.
На Квин-стрит их две.
По-моему, в той, что побольше.
По-твоему, в той, что побольше.
Да.
Ты зашел в большую букмекерскую контору на Квин-стрит, поставил на фаворитов, все они победили, и ты не помнишь ни одного имени?
Сдается, одного из них звали Принц и еще как-то там, Принц Регент; что-то в этом роде.
Нога был с тобой?
Нет, с ним я встретился позже, когда вышел оттуда.
И ты сказал ему, что выиграл?
Наверное, не припомню; зависит…
От чего?
Сэмми пожимает плечами.
Ладно, а как насчет Билла, как его там, и Тэма, как-его-там, им ты сказал?
Нет, не думаю.
То есть для тебя это было не важно?
В общем, нет.
А эти Билл, как-его-там, и Тэм, как-его-там, они были вместе или ты встретил их по одному?
Что?
Когда ты их встретил, они были вместе?
Да я и не помню.
Кого ты повстречал первым?
Думаю, что Билли, но, может, и Тэма.
В каком пабе?
А, исусе, о чем вы говорите, мы просто забредали то в один, то в другой.
И какой был первым?
По-моему, «Кэмпбеллз».
«Кэмпбеллз»! Это не на Квин-стрит. От нее до «Кэмпбеллз» хрен знает сколько топать, я хочу сказать, если тебе хочется пива и ты находишься на Квин-стрит, ты в такую даль не попрешься. А ты все же поперся?
Просто мне нравится этот паб.
Почему?
Ну, просто нравится.
Да, но если бы я был таким пивососом, как ты, я предпочел бы глотнуть на скорую руку, чем скорее, тем лучше, и заскочил бы в первый попавшийся паб, ну, может быть, во второй. Особенно с такими хрустами в кармане.
…
Задержанный отказывается отвечать.
Нет, почему же.
Что «нет, почему же»?
Тут ведь все зависит от настроения.
И ты полагаешь, что там и повстречался с этими двумя?
Возможно, но я не уверен.
Ты не уверен?
Не целиком и полностью.
А сколько ты выиграл?
Достаточно.
Сколько?
Сто двадцать.
Сто двадцать. Для малого, который сидит на городском пособии, не так уж и плохо, дружок Сэмми, а тебе это, похоже, по барабану. Хотя, конечно, я и забыл, ты у нас малый тертый.
Да, этот парень отбыл срок, его не стоит недооценивать, у него есть репутация. Я хотел сказать, в тюрьме.
Ага, знаменитость. Но вот что интересно – для рядового человека вроде меня, – он заходит в букмекерскую контору, делает ставки, на всех выигрывает, а после просто уходит. Это означает, что он не какой-нибудь лопоухий новичок.
Ну да, я не азартный игрок, сержант.
Зато я, видишь ли, азартный, и потому понимаю – это означает, что ты умеешь остановиться. Итак, отметим для себя: перед нами человек, обладающий определенным опытом в том, что касается игры на скачках, он не новичок; и вот он заходит в букмекерскую контору, огребает приличные деньги, ставя на нескольких лошадей, имена которых, он, по его утверждению, забыл; затем, около трех часов дня, а именно пятницы, когда остается еще куча заездов, он с этим делом завязывает. Плюс к тому ставки он делает в одной из двух контор, расположенных на Квин-стрит, а там должны вести учет всех операций, если, конечно, они не мухлюют, чтобы уклониться от уплаты налогов, и наш человек, поскольку он парень неглупый, должен об этом знать, должен знать, что там могут лежать все его квитки, на случай, если кому-то захочется прийти и проверить их… Затем он, испытывая желание выпить, проходит полмили, хотя по пути ему на каждом углу попадаются пабы. Так, Сэмми? Все верно? из сказанного мной? Ну.
«Ну»! Что это значит? «Ну»!
Значит, да.
Значит, да, угум. Ты, стало быть, все еще держишься за историю насчет букмекерской конторы?
Я иногда захожу туда, скоротать время. Особенно в плохую погоду.
Ага, это что-то новенькое, так и запишем. А затем, ну, затем, он встречает мистера Донахью, известного также под кличкой Нога, и тут начинаются странности, потому что мистер Донахью ну никак не может припомнить никаких Билли и никаких торговцев с рынка.
…
Вы это слышали, мистер Сэмюэлс?
Я не знал, что это он мне.
Фырканье, хмыканье.
Зато мистер Донахью знает, что ты встретился с человеком, с которым был знаком прежде. Не странно ли?
Не знаю.
Не знаешь?
Я ведь уже говорил вам, как все было, ну, как я это помню, все же есть в компьютере.
Да в компьютере все есть – и рассказанное тобой, и рассказанное твоим собутыльником. Вот, правда, Билли, как-его-там, он не помнит. Да и вообще никакого Билли. Так он нам сказал. То есть рассказывал-то он нам совсем о другом, однако Билли в этом никак не участвовал. Равно как и рыночный торговец – как ты его назвал?
Тэм Робертс.
Верно, Тэм Робертс, человек, замешанный в политике.
…
А?
Сержант все это вам говорил, мистер Сэмюэлс.
Извините.
…
Ну?
Что?
Тэм Робертс, он как-то связан с политикой?
О чем вы?
Ты сказал, что он замешан в политике.
Сэмми улыбается.
Так как же?
Я этого не говорил.
Да? Ну, может, другой кто сказал.
…
А ты что скажешь?
Я не говорил, что он замешан в политике.
Мы спрашиваем не о том, чего ты не говорил, а о том, что ты
…
Задержанный отказывается комментировать сказанное.
Да ничего я комментировать не отказываюсь, просто пытаюсь припомнить, что я сказал, по-моему, я сказал, что он торговец. Я знаю, что он работает на рынке.
И кем же?
Сэмми пожимает плечами. Купля-продажа.
Купля-продажа чего?
Ну, всякой всячины.
Всякой всячины.
И ты просто столкнулся с ним, имея в кармане кучу денег?
Правильно.
Ты в этом уверен?
Да… хотя, ну, в общем, кроме всего прочего, я же был под мухой, могу и ошибиться, но, правда, не думаю то есть насчет него.
Стало быть, это Нога ошибается?
Насчет чего?
Не надо умничать, Сэмми.
Послушайте, я и не пытаюсь умничать, я просто пытаюсь во всем разобраться, хотя бы для себя, я к тому, что, господи, как будто мне нравятся эти провалы в памяти. Я о чем вам толкую-то, я же был полупьяный, не мог ни на чем сосредоточиться, потому что беспокоился, расстроен был из-за ссоры с подружкой, из-за размолвки, даже больше чем размолвки. Может, я с кучей народу встречался, не знаю, не могу вспомнить. Я же не говорю, что Нога ошибается. Но, может, и ошибается. А может, мы оба правы, просто говорим о разном времени или еще чего. Мы оба были под парами, понимаете, надрались из-за этих шальных денег, господи, да я выпивку просто стаканами глушил, друг, вот что я делал, так что как знать, как знать, если честно, я не могу сказать, кого я видел, кого не видел. Вот и все, что я говорю, провал в памяти. А потом меня взяли ваши ребята.
В воскресенье утром.
В воскресенье утром, правильно, у вас там все записано. Сэмми вздыхает; поводит плечами, уж больно они затекли; сгибает и разгибает запястья. Вздыхает еще раз.
Больше тебе добавить нечего?
Да в общем-то нет.
Совсем нечего?
Ну, э-э, я вроде помню, как врезался башкой в фонарный столб, и Ногу прямо скрючило от смеха. Понимаете, он подумал, что это шутка – я вмазался лбом в столб, потому как меня качало; а он же прихрамывает, Нога-то, а тут, пожалуйста, качнуло меня, вот это я вроде помню. Плюс, еще девчонка какая-то пела песенку Пэтси Клайн, под караоке, что ли, – а может, и не под караоке, может, группа какая играла, не помню, помню только, здорово у нее получалось, такое редко услышишь. По-моему, она «Одержимый»[22] пела, а может, и нет. Некоторые так здорово поют под караоке, что и не поймешь, может, они профессионалы, просто попрактиковаться решили.
Ну и наглец же ты, Сэмми.
Да нет, я чего, я просто рассказываю, что в памяти всплывает. Сэмми шмыгает носом, поднимает руки в браслетах, утирает нос костяшкой левой руки.
Что-нибудь еще?
Мне кажется, где-то ночью в субботу попадался мне такой Стюарт, Стюарт Мьюр, он иногда выпивает в «Глэнсиз». Вроде я видел его с женой. Тоже хороший певец, «Битлз» поет, Отиса Реддинга,[23] в общем, шестидесятые. Нет, правда, хороший.
Что-нибудь еще?
Сэмми нахмуривается. Качает головой, расправляет плечи. Извини, приятель, затекли, слишком долго просидел на одном месте. Вообще все болит. Не только глаза, уши тоже и ребра. Я потому и иду нынче утром к врачу
да, долбаные хвастливые ублюдки, вам хотелось наглеца увидать, так я вам, казена вошь, покажу наглеца
Сэмми шмыгает. Чтобы он меня осмотрел. Просто хочется знать, что я в порядке, медицинское заключение и все такое.
…
Вот от сигаретки я бы не отказался, сигаретка это неплохо.
И тяжелый же ты человек, Сэмми.
Так я чего. Просто вы же мне табачок прихватить не дали; сграбастали прямо из ванны.
Сэмми лежит, сна ни в одном глазу. В камере с ним еще один малый. Заговорить не пытается. И слава богу. Не то у него настроение, чтобы выслушивать россказни про полицейский суд. Ё-моё, каким же он себя чувствует старым. Слишком старым для таких игр. Только этого ему и не хватало – еще одного срока. Он его не потянет. Это точно.
Да нет, ни хера не точно; сходил на скок, мотаешь срок. Он уже отмотал за все про все одиннадцать лет. Так и просятся с языка. Интересно услышать, как это звучит.
Такова жизнь. Все становится частью тебя. А как же иначе, и с Элен было то же самое. У нее это лихо получалось – взять твои проблемы и обратить их в свои. Твой срок был ее сроком. Хотя ни хера он ее сроком не был; не имела она права так поступать. В депрессию впадать. Впрочем, чего удивляться, ну и впадала. Кто ж в эту долбаную депрессию не впадает. А он, друг, он ее ни хера не держал, понимаешь, о чем я, хочешь уйти, угребывай.
Ладно, опять ты заводишься. А заводиться не с чего. Просто иногда тебе хочется
Хочется тебе!
Нет, ты подумай, до чего ты дошел. Какой-то ночной кошмар. Каждый раз, просыпаешься – здрасьте вам, новый этап жизни.
Хуже, чем теперь, уже не будет. Теперь ему точно кранты. Самое дно, вот где он оказался. Достиг, на хер, самого долбаного дна, друг, самой, учена мать, распродолбанной преисподней, чистилища; в котором только и дел, что думать. Думать. Вот все, что тебе осталось. Просто думай, блин, о том, что ты сделал, а чего ни хера не делал; смотреть тебе не на что, все равно ничего не увидишь, это просто район бедствия – твой мозг, твоя память, район долбаного бедствия. Есть чему удивляться. Почему это случилось с тобой, а не с каким другим мудаком? Нет, все ж не обычный он малый, Сэмми, вот в чем вся штука, не обычный, друг, потому как будь он, в жопу, обычным, ни хера бы с ним и не случилось. Вот как тебе надо рассматривать твою жизнь, надо понять, что ты такого натворил, чтобы отличаться от все прочих. А все остальное, блин, херня, гребаные неудачи, совпадения. Даже то, что ты ослеп. Хотя это не просто СЛУЧИЛОСЬ, я к тому, что это ж не просто СЛУЧИЛОСЬ; ни с того, в фалду, ни с сего, вдруг; это все сучары-фараоны, все они, тупые, долбаные-распродолбаные позорники.
Нет, ты только подумай! Все пошло наперекосяк! Вся твоя хлебаная жизнь! С самого первого шага! Все, блин, наперекосяк! Даже самая что ни на есть глупость, и она туда же! Чувствуешь себя так, будто спрашиваешь у какого-то мудака. Почему все вот так? Почему это случилось со мной, а не с ним! вон он, валяется рядышком, почему с ним-то ничего не случилось, с дрочилой на соседней шконке.
Ты просто
Единственная, кого он любил, это она. Она. Единственная. Она, друг. Понимаешь, если подумать, так оно и есть, она, на хер. Больше у него ничего и не было. Ни хера вообще! Исусе-христе. Вот что хреново-то. Он был никем. Хрен без палочки. Он все ждал и ждал, слишком долго. И ей все это надоело, на хер. Если б она не ушла на прошлой неделе, так ушла бы на следующей. И ни хера ее в этом винить ты не можешь, друг, понимаешь, потому как, господь всемогущий, скорее всего она познакомилась с каким-нибудь молодым мудаком, который в паб завалился, с клиентом, елейным ублюдком, и все у них сладилось. Вместе и умотали. И вся, блядь, история. Точно так же могла бы и раньше уйти. Еще до того, как этот ебаный говнюк, друг, это ебаное слепое говно, друг, это слепое, на хер, говно, ебаный слепой слепой слепой ебаный слепой хмырь слепой блядь ебаный слепошарый ублюдок, который и ходит-то, на хер
и ходит-то на хер
ну то есть хрен знает что.
Сосед опять перднул. Вот и все его занятия. Пердеть во сне.
Сэмми надо подумать, надо подумать. Во что впутался этот мудак Чарли? Ад задроченный! Только и остается, что дивиться, друг, – в его-то возрасте все еще с бомбами возиться, охренеть можно. Сорок же лет, господи прости. А они вроде большего-то и не просили, просто, чтобы Сэмми сказал, что виделся с ним. Подтвердил какую-то их долбаную тряхомундию.
Нога небось проболтался.
Необязательно. Он и Чарли-то ни хера не знал. Он вообще по этой части был полным лохом; по части политики. Думал, что чего-то там понимает, а не понимал. Про Чарли он вообще ничего толком не знал. Как и Сэмми, но это уже другая проблема.
Да нет. Не было тут никакой проблемы. Не было проблемы-то. Никакой тут проблемы не было.
Значит, вот в чем состояла вся долбаная проблема! Понимаешь, о чем я! Вот в чем, едрена вошь, вся долбаная проблема и состоит. Исусе-христе.
Сэмми улыбается.
Мать их так, до чего ж он устал, просто дьявольски; измотан и выжат; измотан и выжат; никакой энергии; ни хера; только одного и хочется – спать и спать, а после проснуться; освеженным и остолбененно, ну да, энерхергичным. По правде сказать, чего ж тут непонятного – ты ж слепой, потому все время так и изматываешься, на все же приходится тратить хрен знает сколько мускульной энергии, процесс компенсации, ты же все время шаришь вокруг, на хер, обстукиваешь ебзднутые шкафы, двери и фонарные столбы, друг, как тут не замудохаться, неудивительно, что тебе все время спать охота.
Элен вызволила бы его из беды. Но куда же она, блин, подевалась, я к тому, что придется же что-то отвечать на такие вопросы, потому как они их точно начнут задавать, можешь быть уверен, это как если случается что-то плохое, друг, ты начинаешь спрашивать себя, приходится начинать, ну и начинаешь, друг, никуда не денешься, задаешь себе вопросы, должен задавать, должен их ставить, может, она умерла или еще чего, может, кто ее укокошил, друг, тебе приходится думать об этом. Приходится: если кто-то, если какой-нибудь малый, какой-нибудь малый, друг, если какой-нибудь гребаный малый, какой-нибудь ублюдок тронул хотя бы волос на ее голове, друг, хотя бы долбаный волос на ее голове, друг, тогда все, все, на хер, пусть он попробует хотя бы волос тронуть на голове этой девочки, друг.
Хотя если с их стороны посмотреть, с полицейской, Христос всемогущий, ты должен помочь им разобраться, должен, казена мать, это ж…
Когда происходит что-то подобное, друг, исчезновение при подозрительных обстоятельствах, что ты тогда делаешь? ах, мать…
Вот же сучьи одеяла, все от них зудит, шея, подбородок, дурацкая борода; надо будет побриться, долбаная борода, как у какого-нибудь задроченного хиппаря, вот чем надо будет заняться сразу; первым делом; как только.
Так вот, если с их стороны посмотреть. Плюс твое прошлое. Сожительствовал с ней и все такое, потом поругались.
Чертовы ублюдки. Они ж к чему угодно прицепиться способны. Ясно же, если подумать. Даже к тому, что он вообще оказался в квартире; какое право имел, а никакого вообще; могут, если захотят, пришить ему это их незаконное вторжение. Да любую херню.
О господи, до чего ж он устал. И как он, черт подери, до сих пор не загнулся, просто-напросто не загнулся, в жопу. Спина так и ноет, а на животе из-за браслетов не больно-то полежишь, как тут устроишься поудобнее, никак, на хер, понимаешь, о чем я, о том, чтобы поудобнее, на хер, устроиться, поудобнее, блин, на хер, он же замудохался в жопу, друг, ну совсем, вот именно так, замудохался, долбаный ублюдок, спокойной ночи, спокойной распродолбанной ночи, да вот хрен тебе, если б он мог поспать, просто поспать; но как тут, в жопу, заснешь, если не можешь устроиться поудобнее? Такой вот прямой вопрос. Да еще и вонища, мать-размать, клепаный призрачный пердун, друг, опять он за свое.
Сосед расхаживал по камере. Чрезвычайно раздражающее поведение. Звуки шагов приближались, удалялись, опять приближались, заполняя собой голову Сэмми, так что мозги работали им в такт, так что чуть не каждое его воспоминание соотносилось с ними, с этими долбаными шагами, искажаясь, и в голове от этого, друг, в твоей гребаной голове от этого
На что это вообще похоже! Может, если б он мог видеть. Но он же просто лежит здесь, на хер, в долбаном ослеплении, в долбаной кромешной тьме, мать ее… хрен знает где, в долбаной преисподней.
Эй, посидел бы ты, блин, на заднице…
Чего?
Я говорю, посидел бы ты на заднице, я заснуть пытаюсь.
Мужик подчиняется. А может, он и подсадной, кто его, мудака, знает. Сэмми поворачивается набок, с головой накрывается одеялом. Однако проходит, кажется, всего минут десять, и какой-то козел начинает трясти его за плечо, приходится подниматься, а потом еще и топать куда-то, придерживая чертовы штаны, оставив кроссовки под дурацкой долбаной шконкой.
У тебя полон шкаф белых выходных сорочек. Так и не вынутых из целлофана.
Я их купил.
Ах ты их купил!
Они же все разных размеров.
Мы знаем, что все они разных размеров, Сэмми.
Кого-то в комнате берет смех.
Так я их по дешевке купил.
Как интересно.
Думал потом толкнуть.
И где же ты их купил?
Пару недель назад.
…
У малого в пабе; он ими разжился на аукционе в пользу погорельцев; во всяком случае, так он мне говорил.
И ты ему поверил?
Ну, у меня не было причин сомневаться в его словах.
На каких основаниях?
А?..
Если вы не имели причин сомневаться в его словах, мистер Сэмюэлс, какие у вас были основания ему доверять.
У него такой говор был.
Ах, говор?
Вроде как у классного иностранного бизнесмена.
Так-так.
Не, честно, это у меня в памяти крепко засело; я сначала решил, что он англичанин из высшего общества, а после думаю, нет, кто-то еще, может, из Европы приехал, на какой-нибудь съезд иностранных бизнесменов.
Ну и херня.
…
Сэмми, ведь ты же их где-то стырил.
Нет.
Значит, у вора перекупил.
Может, и так, я к тому, что не упускать же вещь, если она сама в руки плывет, но только я думал, что парень чист; вид у него был такой, будто он проигрался, вот и пытается сшибить немного деньжат. Ну, я и рад был избавить его от лишних хлопот. Я так понял, что ему нужны были бабки на обратный билет, чтобы вернуться – домой то есть, в свою страну. Это была просто сделка между двумя людьми, повстречавшимися в пабе.
Не сходятся у вас концы с концами, мистер Сэмюэлс, и чем дальше, тем больше.
…
Вы меня поняли?
Что?
Судя по звуку, кто-то сморкается, потом открывается и закрывается дверь, потом чья-то рука сжимает ему плечо; мужик стоит так близко, что Сэмми ощущает его дыхание, отдающее спиртным, водкой, что ли, или еще чем.
Я хочу, чтобы вы поняли, насколько все серьезно… Это снова тот тихоголосый англичанин. Сэмми не может толком понять, какой у него акцент, но акцент провинциальный, это точно… Поэтому просто выслушайте то, что скажет вам мой коллега, и постарайтесь отнестись к услышанному как можно серьезнее; если у вас возникнут вопросы, дайте нам знать; мы здесь, чтобы помочь вам.
Так вот, Сэмми, видишь ли, нам казалось, что ты малость выше всего этого. Я лично считал тебя парнем, которому не везет, но который борется с этим; три года ты вел честную жизнь, изо всех сил старался исправиться, программа трудоустройства, связь с порядочной женщиной; не знаю, были ли у тебя проблемы с алкоголем, наши коллеги утверждают, что были, что касается меня, я их не замечаю, – но если были, видимо, ты с ними справился, а если так, честь тебе и хвала. И вот теперь мы обнаруживаем, что ты занялся скупкой краденого – невысокий, кстати сказать, полет для человека твоего размаха, но это не наше дело, наше дело – поиски фактов, и если обнаруженные нами факты таковы, нам остается их только принять. Ладно, пусть даже скупка, птичка по зернышку клюет, все это понимают, и я это понимаю, на одно пособие не проживешь и все такое, я хочу сказать, никто бы не стал поднимать столько шума из-за каких-то трех кожаных курток. Но дело в том, что теперь ты влип в нечто куда более серьезное; и скажу тебе честно, я не вижу, какой тебе смысл покрывать мудака, которого ты покрываешь. Я понимаю, доносчиков никто не любит, но этот малый – совсем другая история.
Какой малый?
Да какой хочешь – Билли, Тэм, – не это важно. Ты просто уясни себе, идет серьезное расследование, именно поэтому я и здесь, я и мои коллеги. Да ведь ты это и так уже понял?
Сэмми кивает.
О чем он с тобой разговаривал?
Да так, на общие темы.
А именно?
Футбол, то да се.
Ну что же, возможно, мы на самом-то деле говорим о разных людях, понимаешь, потому что я этих козлов повидал, они не разговаривают о футболе, не разговаривают о бегах, ни о чем подобном, исключительно о политике; вот тут они заводятся, заводятся и озлобляются; ты и сам это знаешь, Сэмми, они заводятся, злятся и начинают говорить совсем о другом, о насилии, о террористических актах, да что я тебе объясняю, ты же наверняка встречался с такими, когда срок отбывал. Так?
Ну да, раз или два.
Хорошо, отлично. Да, кстати, вот еще что, ты, может быть, и не заметил – или заметил?
Чего?
Человек из канцелярии ушел выпить чаю, у него перерыв. За компьютером никто не сидит. Так что наш разговор в протокол не заносится.
Сэмми кивает. Я понимаю, вы хотите, чтобы я вам что-то рассказал, и видит бог, я бы со всем моим удовольствием; может, я был пьянее, чем думал, но, честное слово, я попросту ничего не могу припомнить; эти ребята, о которых я говорил, я помню только их разговоры о футболе и так далее, ну то есть самые обычные.
Видишь ли, Сэмми, нам известно, что это не так.
…
Понимаешь, мы знаем – то, что ты нам здесь заливаешь, это вранье.
Да нет.
Да, да, боюсь, что да; я вынужден сказать тебе, что ты говенный врун, понимаешь, вот кто ты такой, Сэмми, говенный врун.
Прости, приятель, но не я же выбираю людей, с которыми встречаюсь.
О чем это ты?
Я говорю, не я же выбираю людей, с которыми встречаюсь.
А, ну да, но тут-то у тебя и возникает проблема, поскольку для меня и моего коллеги даже это звучит сомнительно. Ты понимаешь, о чем я?
…
Тут тебе есть над чем задуматься, не правда ли?
Возможно, до него не дошла суть сказанного вами.
Да нет, думаю, дошла: а, Сэмми?
…
В ответ молчание. Может быть, если он снимет носки, это ему поможет. Сними носки, Сэмми.
Сэмми с минуту медлит, потом делает, что ему велели; он уже почти засовывает носки в карман, но тут их вырывают из его руки.
Вот и правильно, сынок, убери их от греха подальше.
Сэмми слышит шаги, потом другие, какой-то приглушенный говор. Затем кто-то подходит к нему и сержант говорит: Ладно, сынок, проверь его ступни, может там улики какие отыщутся или спрятанное оружие; что-нибудь в этом роде.
Волдыри на пятках, наросты либо шишки на больших пальцах и на мизинцах обеих ног. Ноги чистые. Маленькие катышки шерсти.
Господи, а из этого парня выйдет детектив. Дай-ка глянуть…
Да, так я и думал: занесите в протокол, что ступни у него не просто чистые, но на редкость чистые; а также, что пальцы красные. Занятно, не правда ли, красные пальцы. Все сходится, уверяю вас.
Про эти пальцы можно сказать, что у них разгневанный вид.
Разгневанный вид. Да.
А с другой стороны, что мы подразумеваем, когда говорим о пальцах, будто у них разгневанный вид?
Что они красны и лиловаты.
Это уж скорее на пенис похоже.
Сэмми сидит неподвижно, ладони покоятся на коленях; он вслушивается в их смех. Один из них, похоже, стоит прямо за ним, и Сэмми прилагает усилия, чтобы не пригнуть голову, это их только раззадорит. Они продолжают пороть всякую чушь, и внимание Сэмми переключается с того, что они говорят, на то, как они говорят, потому что он ждет удара, в любую минуту. Это нормально. Он понимает; это в порядке вещей, это его не тревожит; просто важно быть готовым; сделать-то ты все равно ничего не сможешь, а если не можешь ничего сделать, так какого же хера об этом тревожиться.
Снова смех.
Носки бросают ему на колени.
Полагаю, джентльмены, вы отметили наличие дырок на носках задержанного! Я не хочу, чтобы на управление была подана жалоба относительно неправомерного обращения с его собственностью. На утро понедельника у этого парня назначена встреча с квалифицированным врачом.
…
Сэмми, это ведь к тебе обращаются, что, черт возьми, за дурные манеры.
Нет, правда?
Ха-ха
А он смелеет с каждой минутой, даром, что мы все время ловим его на увиливании и вранье. Он сказал, что вчера утром виделся с доктором, а ни с каким доктором не виделся, только с регистраторшей.
Это так, Сэмми?
Я получил направление к врачу на утро понедельника.
Кто-то вздыхает. Теперь они подходят к нему. Палец касается его скулы, и Сэмми отдергивает голову.
Чшш. Чшш, расслабься. Сержант, взгляните-ка…
Палец снова на скуле, нажимает.
Что?..
Странно, знаете ли, но я не вижу в его глазах никаких повреждений. А вы?
Я тоже.
Конечно, он держит их закрытыми, увидеть что-либо трудно. Однако я нисколько не удивлюсь, если выяснится, что его утверждения решительно ни на чем не основаны. Подозреваю, что с его чертовыми глазами все в полном порядке, нужно лишь потратить время и обследовать их, чтобы это установить. Разумеется, мы всего только слуги закона, а не квалифицированные профессиональные врачи. Мистер Сэмюэлс, вы не могли бы открыть на минутку глаза?
Сэмми моргает.
Так вы уверены, что страдаете утратой зрения?
…
Задержанный отказывается отвечать.
Знаешь, Сэмми, я согласен с коллегой, думаю, тебе не повезет, думаю, доктор глянет на тебя один-единственный раз и пошлет тебя на хер. Даст тебе от ворот поворот. А после напишет о тебе очень плохой отзыв, поднимет вопрос о том, что ты, зарегистрировавшись как человек с дисфункцией трудоспособности, зазря потратил время его конторы, потому что с его точки зрения ты здоров, как бык, а глаза у тебя, точно у долбаного Робин Гуда, ты способен со ста шагов в яблочко попасть, вот что он о тебе напишет. Что ты даже наркотиками не балуешься!
И прости прощай городское пособие, мистер Сэмюэлс, поскольку вас поймают на бессовестной лжи относительно вашей нетрудоспособности. А потом, разумеется, вами займутся наши коллеги, ведь это их долг перед обществом, бороться с воровством, когда они его обнаруживают. Особенно им не нравятся мошеннические покушения на деньги налогоплательщиков.
Сэмми поводит запястьями и плечами. Смотрите-ка, а он не спит!
Запах табачного дыма. Сэмми откашливается: Можно мне покурить?
В этой комнате не курят, Сэмми, я думал, тебе это известно, при твоей-то умудренности, но ты не горюй, у нас есть чем тебя порадовать, и не говори потом, что мы тебя обижали, у нас есть письмо. И знаешь, к кому?
…
А?
Не знаю.
Так мы тебе скажем, оно адресовано миссис Макгилвари. Но ты ведь не мистер Макгилвари, ты мистер Сэмюэлс. Тут у нас с самого начала небольшое несоответствие. И кстати, знаешь, будь я обвинителем, я бы при таком случае от подсудимого рожки да ножки оставил, без шуток, так бы и сделал. Но справедливость есть справедливость, вот мы и решили, что тебе захочется узнать содержание этого письма.
Оно же не ко мне.
Да, но ведь тебе хочется узнать, что в нем написано, верно?
Вообще-то нет.
Я его все-таки прочитаю. Дорогая Элен, сколько я понимаю, вы самовольно ушли в отпуск и как раз тогда, когда у нас дел по горло. Сейчас не время заниматься установкой телефона в вашей квартире. У нас и на письма времени не хватает. Мы слишком заняты тем, что делаем свое дело. Дайте нам знать, намереваетесь ли вы вернуться, если нет, мы начнем искать кого-то еще. Не хочется, да придется. С наилучшими пожеланиями, Джон Г. P.S. надеюсь, я был не слишком запальчив.
Это письмо от управляющего бара «Куиннс», мистер Сэмюэлс, удивленного тем, что его подчиненная не является на работу. Возможно, вам будет интересно узнать, что она там так и не появилась, до самого вчерашнего вечера. Вот мы и гадаем, не хотите ли вы заявить что-либо в связи с услышанным.
Э-э…
В связи с тем, что прочитал вам сержант.
Я знал, что пришло письмо, наверное, это оно и есть, его принесли дня два назад.
Это все, что вы можете сказать?
Там была еще пара писем… Сэмми вздыхает; во рту пересохло. Он наклоняется вперед, кладет на колени руки.
Все?
Сэмми шмыгает носом. Нет, говорит он, я беспокоился.
Вы беспокоились?
Ну да.
Я и не сомневался, что вы беспокоились; причин для беспокойства у вас было достаточно.
Господи-боже, друг, да бросьте вы!
Бросьте! Что значит «бросьте»? Мы тут возимся с тобой хрен знает сколько времени и тебе еще хватает наглости орать на нас! «Бросьте»! Кем ты себя, на хер, вообразил, сучий ты потрох!
При последних словах он производит какое-то движение, быстрое, неожиданное, и Сэмми втягивает голову в плечи.
Наступает молчание.
В конце концов этот мужик произносит: На прошлой неделе, в пятницу, ты встречался в «Кэмпбеллзе» с Чарльзом Барром. Так или не так?
Может, так, может, не так, не знаю, я был пьян.
Сэмми, ты сознаешь, что твоя сожительница исчезла при чрезвычайно подозрительных обстоятельствах?
Да.
Да?
Да, да, да, я признаю, признаю, признаю, на хер! И охеренно беспокоюсь! БЕСПОКОЮСЬ. Последнее слово Сэмми произносит сквозь зубы, наполовину привстав.
Вот как?
Сэмми садится. Да.
Сержант, я думаю, этот человек далеко не умен.
Я только говорю, что беспокоюсь.
…
Снова шаги. Звук такой, будто они уходят. И дверь закрывается.
Прождав какое-то время, Сэмми произносит: У нее семья в Дамфрисе. Адреса точно не знаю, но где-то в тех местах.
Не знаешь?
Голос новый; вроде бы молодой. Сэмми вертится на стуле, не понимая, откуда он исходит. Дома где-то есть адрес, говорит он, но я не стал его искать, потому как ничего не вижу.
А раньше она так делала?
…
А?
Да.
Ты им сказал?
Кому?
Ну, этим, которые тебя допрашивают.
По-моему, сказал.
Где ты с ней познакомился?
Э-э… в «Глэнсиз», да, в баре «Глэнсиз». Сэмми вслушивается, пытаясь понять, есть тут еще кто-нибудь? Не могли же они оставить всего одного человека. Этот-то, судя по голосу, новичок, но рисковать все же не следует. Сэмми улыбается: А те двое тоже, что ли, чайку пошли попить!
Да наверное.
Сэмми поворачивается, вроде как оглядывая комнату.
А ты действительно слепой?
Да, ничего не вижу.
Во кошмар-то.
Жуть. Хотя если привыкнуть, то ничего. Свалилось на меня ни с того, ни с сего, и все теперь как-то – странно, понимаешь, по-настоящему странно. Вот если б подружка моя вернулась… она хорошая, ты знаешь, хорошая. Сэмми пожимает плечами. Когда они ее найдут; ей стоит только сказать про меня, она сразу и вернется, быстро-быстро. Просто как только услышит, понимаешь? Как только ей кто-нибудь скажет. Как думаешь, скажут они ей, если найдут?
А как по-твоему?
Ну, я просто надеюсь, что вы ее отыщете и расскажете что к чему, насчет меня, что я ослеп.
…
Они ее уже ищут?
Кто?
Ваши.
Да не знаю, друг, мы ведь тут просто вроде охранников.
Ты не пойми меня неправильно, я не пытаюсь что-нибудь выведать, я только и говорю – надеюсь, вы ее найдете… Сэмми шмыгает носом, потом вздыхает.
И тут полицейский шепчет: Послушай, одно я тебе сказать могу, понимаешь, эти двое, которые тебя допрашивают, они не из нашей конторы.
Да что ты…
Да. Слушай, ты только не обижайся, но вот этот малый из паба, который письмо написал, он твою подружку не трахал?
Сэмми сцепляет ладони. Потом пожимает плечами: Кто знает.
Его подмывает улыбнуться, но он себе этого не позволяет. Все идет как надо. Как надо. Главное, сохраняй хладнокровие, просто сохраняй хладнокровие.
Как-нибудь он возьмет да и напишет собственную песню, утрет ублюдкам нос.
Кто-то опять курит. И кто-то из этих дрочил пьет не то чай, не то кофе, да еще и похлюпывает. Показывает, значит, как ему вкусно. Хотя, может, это настоящая долбаная выпивка; пара банок пива, полбутылки. С таких мудаков станется. И бурчат, бурчат – один из них рассказывает чего-то про гольф. В Америке прошел какой-то там чемпионат, и его показывали по ящику. Скучная, друг, это игра, гольф; жирные ублюдки разгуливают по полю, а какой-нибудь несчастный хмырь таскает за ними всю амуницию. То ли дело футбол. Если бы все пошло путем, Сэмми стал бы футболистом. Голова у него была забита дерьмом, в молодые то есть годы, а то бы
до сих пор по нему скучаю, можешь себе такое представить, бежишь по полю, кто-то тебе пасует, делаешь финт, прорываешься
Движение. Сэмми напрягается, потом укладывает руки на колени, старается сесть поудобнее, но при этом крепко упирается ступнями в пол.
Начинает сержант, Сэмми, страшный ты человек, честное слово. Между нами двумя, до тебя, по-моему, так и не дошло, во что ты вляпался. Серьезно. Ты же понимаешь, дело не в скупке краденого. И что бы ты там себе ни думал, держать тебя здесь нам никакого интереса нет. Нам всего лишь нужно кое-что выяснить. Понимаешь, у тебя концы с концами не сходятся. По какой-то причине, только тебе и известной, ты препятствуешь нашему расследованию. Так вот, я не понимаю, зачем ты это делаешь, потому что малый ты с понятием и знаешь, что добровольное предоставление тобой информации, способной оказать нам конкретную помощь или содействие, тебе же, как задержанному, до крайности выгодно. А ты нам никакой информации не предоставляешь, не предоставляешь ты нам информации. Поэтому у нас появляются прямые основания – твердые основания – полагать, что ты, возможно, утаиваешь от нас улики. Ты же понимаешь, что в итоге оказываешься по уши в дерьме?
Да, если бы это было правдой, но только я ничего не утаиваю. Он вздыхает.
А мы считаем, что утаиваешь. И если мы сможем обосновать это наше мнение, то нам, я о себе говорю, и доказывать-то ничего не придется.
Ты понимаешь, Сэмми, мы только одно и говорим – мы же не дураки; ты свое прошлое знаешь, и мы твое прошлое знаем, и не только прошлое, мы вообще все знаем. Э-э… дайте ему сигарету.
Нет, спасибо, не хочется.
Тебе не хочется. Что ж, я думаю, ты прав, поскольку мы этого делать не вправе. Так вот, ты сам видишь, нам известно, что ты виделся с мистером Барром. Известно по двум причинам: во-первых, мы за ним следили; во-вторых, нам сообщил об этом мистер Донахью, он нам об этом рассказал.
Так я же не говорю, что не видел Чарли Барра, я говорю, что не помню, видел я его или не видел, потому как пьян был. Может, и видел, я просто не знаю. Слушайте, вы же должны знать, что я с ним не связан, я к тому, что почему бы я не стал вам о нем говорить? если бы я чего и знал, это все равно ни хрена бы не стоило, так мне бы и смысла не было молчать.
То есть ты говоришь, что мог увидеться с ним?
Да, господи…
Он же твой старый приятель, Сэмми, ты бы это запомнил.
Сэмми качает головой.
И еще одно, не для протокола: твоя сожительница нас ни с какой стороны не интересует. Мы знаем достаточно, чтобы понимать – если с ней и случилось что-то плохое, это не твоих рук дело. Хотя даже если бы и твоих… Постарайся усвоить, что я тебе сейчас говорю. Не все наши коллеги держатся тех же взглядов, некоторые занимают шаблонную, я бы сказал, позицию в отношении того, что они считают тяжким преступлением, и тех, кого они считают закоренелыми преступниками. Исчезновение Элен Макгилвари дело очень и очень серьезное, а ты, увы, человек, уже получавший срок за очень серьезное преступление. Однако здесь ты оказался по нашему распоряжению, не по их; и позволь мне повторить: сам ты нас не интересуешь, ни в малой мере.
…
Хочешь что-нибудь сказать?
Э-э, нет.
Ну правильно, тебе нужно как следует все обдумать. Вместе с тем, боюсь, нам придется оставить тебя в наручниках. Не обижайся.
…
Главное – устроиться поудобнее; психологически ты в порядке, у тебя такое чувство, что ты кое-чего достиг. Когда Сэмми был мальчишкой.
Когда Сэмми был мальчишкой.
И грезил во снах о тебе.
Играет музыка. Помнишь того парня, у которого остановилось сердце.
Ну так лучше не вспоминай.
Да нет, вспоминай, такие вещи надо помнить. Ты думаешь, что не надо, но они все равно как световые указатели; Сэмми однажды летел на самолете, там в проходе были такие. Грезы грезами, но и о других вещах забывать не стоит. Плюс это помогает тебе не спятить. Потому что ты еще не на долбаном дне. В крытке ты видел смерть, ничего в ней интересного нет. Она просто случается. И ей случается тоже брать людей врасплох. А иногда ее можно предвидеть; ты даже и не говоришь себе этого, но вот услышишь, что какого-нибудь мудака пришили, и – да, потому как ты этого ждал, хоть и не думал об этом.
Вот и с тем парнем, у которого стереоплеер был, то же самое, ты знал, что его ожидает; знал, что он скоро испустит дух; а он сидел с закрытыми глазами, прислонясь спиной к стене, подобрав колени и положив на них подбородок, в наушничках, смотрел свои долбаные сны. Хотел вернуться в свою страну, но так сразу не мог, хоть его там и дожидались жена с детишками. А эти только и ждали случая убить его, на хер, вся их свора. Трудно поверить, такого щуплого паренька, но так оно и бывает, друг, я к тому, что, какого хрена, что тут можно поделать, да ни хрена, кроме того, что делал Сэмми – на долбаной шконке лежал. Прислушивался, может, парнишка скажет чего, но не всегда. Как-то раз предложил ему травки курнуть, так он не стал, он был мусульманин, не пил, не курил, такого только могила исправит. Я хороший человек. Так он всегда говорил, я хороший человек. Я ничего не прошу. В чем и состояла его долбаная проблема, ничего он не просил, ну и получил, на хер, все сразу, а вот Сэмми
Правда, не на этот раз. Если его зачалят на этот раз, он точно спятит. Слепой, не слепой, без разницы.
Сэмми поерзал по шконке, пошевелил сначала задницей, потом плечами, потом ногами. Спина болит. А на животе не полежишь, из-за браслетов. Какое-то время удается пролежать на боку, на руке и плече. Сучий матрас. Жуть гребаная.
Все скулишь, скулишь, скулишь, а! Конечно, ты же только и думаешь о своем дурацком предчувствии.
А это без толку.
Еще и потому, что ты же знаешь, к чему все сводится. Это ж дает им еще одно преимущество, слепота, она означает, что ты и вовсе у них в руках. Чем смешны эти ублюдки, они ведь думают, что вколотили тебе в башку мысль об участи, которая будет похуже смерти. Слишком они часто в телик пялятся, мудилы, вот им и кажется, будто они по главной улице Нью-Йорка разгуливают или еще по какому сраному городу, по Чикаго, и каждый из них – трепаный Аль Пачино или Хэмфри Богарт,[24] друг, точно тебе говорю.
Ты перебираешь всю свою жизнь, но это дело пустое; некоторые вещи попросту очевидны. Люди иногда дают друг другу второй шанс. Вот что поражает. Больше никто этого не делает. Только мы двое, только мы это и делали.
Спичка! Этот хмырь чиркнул спичкой! Ну и все, на хер, ясно – подсадной, они к нему лягаша подсадили. Сэмми улыбается. И, переждав с минуту, спрашивает, затянуться не дашь, приятель?
Не отвечает. Ну ладно.
Опять вышагивать начал. Охрененно на нервы действует, ты пытаешься с этим бороться, да не выходит. Сейчас бы чашечку кофе. Запустил бы ею в долбака! Сэмми фыркает, подавляет смешок; и фыркает снова. Дичь долбаная.
Нет, а попить бы неплохо. Во рту, блин, совсем пересохло. Стакан воды, ледяной воды
В жопу.
Ты сейчас думаешь про Элен, друг, и она, может, тоже думает вот про этого самого парня, про своего мужчину, лежащего, задрогнув, в пустой комнате, в темной пещере одинокой души. Ну уж это точно строка из песни, друг, нет вопросов.
Футбольные матчи, в которых я играл. Нет, вообще-то был один, на кубок
В ноздри ему вплывает табачный дымок. Ладно. Никто ж не мешает Сэмми получать от него удовольствие, как будто это его дымок, от его собственной сигареты, друг, ну то есть какого хрена, ладно, проехали, проехали
долбаный козел долбаный долбаный подсадной засранец.
Вот поэтому дергаться и не стоит. Не дергайся. Это ошибка, серьезный промах. Пусть они сами делают свое дело. Может, этот малый глухой. Шуточка в их духе. Слепой сидит с глухим. А то еще с глухонемым. Умора. Представляешь, как они там пялятся в свой сраный монитор.
Исус Христос всемогущий, нет, он просто обязан попробовать.
Эй, ты не глухой, на хер? Я же просил, кончай, в жопу, топать.
А тебе-то что?
Это не твое дело, просто следи за собой, на хер.
Ты о чем?
О том, что ты мне охренел, мужик, довел, на хер, понял, мне покой нужен.
Горло у Сэмми перехватывает, он заходится в кашле; комок какого-то дерьма вылетает из легких, Сэмми перекатывает его в гортани, потом глотает. Может, этого малого никогда не доставали браслетами. Может, ему попробовать охота, новые ощущения получить, узнать, каково человеку в этих говеных железках. Офигенно волнующее переживание, друг, почище любого перепиха
Они пытаются тебя достать. А ты постарайся им не позволить. Хотя они все едино достанут. Мимо них не проскочишь. Пустая трата энергии. Особенно когда ничего не контролируешь. Если бы мог хоть как-то, тогда ладно, тогда стоило бы все обмозговать, поразмыслить о входах да выходах и прочем. Главное, что
да ни хера тут главного нет.
Вот и дожидайся их теперь сто лет. Странное дело, никто за ним не пришел. Плюс ему удалось вздремнуть, и недурно. Может, они удалились на хороший большой воскресный обед, потому как это точно в самый раз для них, для долбаных сучьих фараонов, – большой воскресный обед, самые что ни на есть лучшие бифштексы и жареная картошка, яйца-пашот и всякие гребаные гарниры.
Сэмми спустил ноги на пол, встал. Какое-то шевеление на второй шконке. Бедный сучара, даже жалко его, кто бы он ни был. Вот и с Джеки Миллиганом то же самое, если валить всю вину на него, как Элен, далеко ли ты, на хер, уйдешь? Все не так просто, как кажется. Она относится к этому не так, как он, ну и ладно, правильно, но отсюда ж не следует, что она права. Исусе, ноги-то как болят. Он пошарил перед собой правой ступней и, подняв сжатые кулаки, пробуя пол пальцами ног, двинулся к дальней стене.
Ты слепой?
Ага.
А то я не был уверен.
Сэмми продвигается вперед. Достигнув стены, поворачивается, прислоняется к ней спиной, потом опускает ягодицы на пол и садится, вытянув ноги. Не знаешь, сколько сейчас времени?
Пять часов.
Пять! Откуда ты знаешь?
Просто догадываюсь.
Давно здесь?
Со вчерашнего дня. А ты?
То же самое.
Долго продержат?
Не знаю.
Вот и я не знаю. Ну и грязища тут у них!
Сэмми кивает. Слушай, э-э, я тут раньше, ну, это, когда ты расхаживал, я немного…
Ладно, не бери в голову. Они тебя в наручниках держат, да?
Да.
Больно?
Да. И невозможно, на хер… Сэмми покручивает запястьями.
Не самые удобные штуки.
Тебя за что задержали?
Сэмми отвечает не сразу. По недоразумению, говорит он, а тебя?
Твердят, будто я наркотой торговал.
А ты?
Нет.
Спутали с кем-то?
Да, более-менее. А что за недоразумение?
Да так, ерунда.
В наручниках за здорово живешь держать не станут.
Да кто их разберет, это они сами решают.
Тебя как звать-то?
Джо.
А меня Дэви. Слушай, а мы с тобой раньше не встречались?
Не знаю, а по-твоему как?
Ты где выпиваешь?
Ну. В разных местах; а ты где?
«Кастлмилк» знаешь?
Вообще-то нет.
Ну ладно… Кстати, а когда тут кормят?
Да хрен его знает, когда захотят.
Разве не по расписанию?
…
Я думал, у них распорядок есть.
Да?
Ну, ожидал этого.
Понятно.
А что, обычно не так?
У тебя покурить не осталось?
Нет.
Судя по звуку, он усаживается на своей шконке поудобнее. Сэмми подтягивает колени к груди, кладет на них голову. Поссать бы, да возиться неохота. Так он, глядишь, и обмочится, на хер. Может, тогда этот малый заткнется. Сэмми нужна тишина. В крытке с этим несложно. Обычно там гвалт стоит, зашибись, но не всегда. Иногда такая тишь настает, что даже не верится, как будто и не дышит никто, только одно и слышишь, собственный организм, гоняющий кровь по венам. А если тебя перед тем отметелили, то кажется, будто ты слышишь, как мышцы и кости встают по местам, как организм приводит себя в рабочее состояние. Иногда самое лучшее это позволить воцариться молчанию; а иногда нет. Малый все еще ерзает на шконке.
У тебя проблемы, что ли? спрашивает Сэмми.
Он произносит это обычным своим голосом, но тот почему-то звучит, как раскаты грома, и малый вроде как ждет, когда раскаты стихнут, и только потом отвечает: Проблемы? переспрашивает он.
Они тебя уделали?
Нет.
Ну и ладно.
Один мужик как-то толковал с Сэмми насчет сложностей – спросил Сэмми, есть у того девчонка или нет. Сэмми был в то время женат. И как раз загремел по второму разу. Растабаривать ему с тем мужиком не хотелось, вот он и сказал, что все это слишком сложно и говорить об этом ему неохота. А мужик и отвечает: Слушай, друг, раз ты сюда попал, значит, ты человек сложный, и когда выйдешь, так сложным и останешься, правда, сложности у тебя будут другие. Все прежние исчезнут. Люди тебя забудут; и только бабы, насчет которых я спрашивал, только они и будут помнить, как ты их имел, и все еще будут хотеть потрахаться с тобой.
Сэмми мог бы запомнить это, как офигенную мудрость, которую следует хранить и лелеять. Да только это была обычная хренота.
Взвизгивают пружины, никак этот хмырь не устроится. Сэмми продолжает размышлять, но только все больше о том, о чем он думает обычно, а ему необходимо сменить тему. Матчи-в-которых-я-играл. Концерты-на-которых-бывал. Бабы-которых-я-крячил. Работы-на-которых-горбатился-на-хер. Подлости-которые-совершал. Слушай, говорит он, ты просто попал сюда, вот что важно, понимаешь, ты можешь тут спятить, а можешь выжить. Иногда это глупость, иногда нет. Главная суть в чем – копыта отбросить тут проще простого. Им только позволь, они тебя поимеют, на хер. Надо учиться держать себя в руках. И сейчас самое время начать.
Спустя минуту малый интересуется: Ты мне это зачем говоришь?
Да так, захотелось.
Я у тебя никаких советов не спрашивал.
Нет, конечно, это я сам вылез. Научись следить за собой. Сдается мне, проблемы у тебя еще будут.
Я не понимаю, о чем ты.
Ну, не понимаешь, и ладно.
Слушай, я тут вообще оказался ни за что ни про что.
А это не важно; так или этак, все равно выживать придется. Потому как эти сучары непременно тебя поимеют. Они это любят. Для того тут и сидят. Понял? Ты поступал по закону? Ну, молодец, правильно, а теперь мы тебя поимеем. И когда они тебя отымеют, они таки тебя отымеют, вот и все, что я говорю. Ты либо позволишь им это, либо нет. Лично я ни хера не позволяю, ни хера. Знаешь каким образом? просто я их ненавижу, на хер, засранцев. Ненавижу, потому и жив. Понял, о чем я?
Да.
А ненавижу я их так: пошли бы вы всем скопом к хлебаной матери. Побеждай, проигрывай или тяни резину. Такой штуки, как хороший малый в мундире, на свете не существует. То же относится и к стукачам. Ты меня слышишь?
Да.
…
А?
Я слышу, только не понимаю, зачем ты мне это говоришь.
Говорю, потому что мне хочется.
А зачем?
А вот ровно затем – хочется.
Херня какая-то… Пружины взвизгивают, малый поворачивается на другой бок.
Сэмми встает, добирается по стеночке до параши, опускается на колени, мочится. Потом доходит до шконки, накрывается одеялом, ложится на бок. Теперь ему хочется поспать. Отключить сознание. Он устал. Ему нужен отдых. Ну, он и начал отдыхать. И отдыхал себе, пока его не разбудили. Пока не разбудил этот мудак с его долбаной ходьбой, пердун, друг, кто бы он ни был.
Сэмми стискивает зубы, плотно сжимает веки. Я устал, говорит он, устал и не могу заснуть.
Жрать опять же охота.
Да и хрен с тобой. Он переворачивается на спину, хребет все еще болит и в ухе опять раздается гребаный гул, клятый тоненький писк, и сраные браслеты, что можно сделать в этих сраных браслетах, это ж убийство, на хер.
Исусе-христе.
Этому стишку его бабушка научила, молитва.
Вот так оно здесь и случается, говорит он, устаешь, а заснуть ни хера не можешь. Времени у тебя куча, а покоя нет, эти жопы тебе его не дают. Так это место и задумано, чтоб никакого покоя. Вообще ни хера. Даже сигарет. Ни хрена у тебя не остается, кроме твоих, блин, мозгов. О чем я тебе и толкую, самое лучшее – раскинуть мозгами. Не будешь следить за собой – крышка. Я видел парней, которые кончали с собой, так что ты лучше следи, на хер, за этим. Потому как им только того и нужно. Чтобы ты руки на себя наложил. Я те точно говорю, друг, им нужны факты и цифры, статистика, чтобы показать всем – они свое дело знают. Ты мне не веришь, но я тебе точно, на хер, говорю. Тебе нужен план выживания, и если у тебя есть башка на плечах, пользуйся ею, не позволяй ублюдкам все, в жопу, изгадить, друг, ты понимаешь, о чем я, – а? Ты слышишь?
Слышу.
Я тебе вопрос задал.
Я не расслышал.
Ну и ладно.
Я даже не знал, что это ты мне.
А кому же еще, мать твою хлоп?
Ну, ты ж говоришь то одно, то другое, а я не понимаю зачем.
Да что ты?
…
Это все браслеты, мудаки слишком туго их затянули, прямо врезаются в запястья. Кровь не идет? Сэмми поднимает руки над одеялом.
Нет.
Заснуть ни хрена невозможно, потому как повернуться никуда не могу, а на спине тоже не полежишь, вот и херачишься.
А ты не думай об этом.
Что, что ты сказал?
Ты ж все равно ничего сделать не можешь. Когда-нибудь да снимут.
Ха! Сэмми улыбается. Потом начинает приподниматься, но тут на него вдруг накатывает чувство, что он вот-вот грохнется в обморок, и он снова ложится, а после, хватаясь за нары, усаживается, скрестив ноги и выпрямив спину, шея вытянута, напряжена. Кружится. Голова кружится. Он ловит ртом воздух, горло перехватило, воздух ни хрена не проходит, Сэмми давится им, задыхается; снова гребаная грудная клетка, легкие. Малый что-то талдычит, но Сэмми не слышит его, ни хрена не может расслышать, что он там говорит, какая-то гребаная мешанина, друг, мешанина, вот это что, мешанина
с ним, это происходит с ним, о господи, друг, это с ним происходит, он начинает дышать глубоко, плечи трясутся, никак он их не остановит, он скребет ногтями подбородок, шею, рвет их, как будто под кожей кишат какие-то ползучие твари, вцепляется в лицо, в скулы, оттягивая плоть под глазницами, ладно, ладно, дыши, просто дыши, просто дыши, оставь в покое глаза и избавься от этого, от этого
голос малого
Да, я-то в порядке, в полном порядке.
На отличном концерте был две недели назад, в Эдинбурге, с подругой. Полный блеск…
Сэмми изгибается, чтобы вытянуть из-под себя подушку, потискав, запихивает ее за спину, под копчик. Сцепляет ладони и сидит, сгорбившись, сжавшись; сидит так какое-то время. Хотя мог бы и вмазать. Этому долбаному хмырю на соседней шконке, друг, вот кому, вот кому, на хер. И любому мудаку, который к нему сунется, тоже. Он перекашивается, чтобы вытереть левым запястьем нос, и обнаруживает, что подбородок у него мокрый; слюна, он обслюнявился, обслюнявился, как младенец. Ну ладно.
Ну, вы же сами говорили, извращенные представления о дружеской лояльности, но, может быть, на сей раз мы сумеем его уломать.
Вздох. Щелчок зажигалки.
Дайте ему тоже.
Вот… В губы Сэмми вставляют сигарету. Может, это и означает, что ему кранты, но Сэмми ее принимает. Да и какая разница, никакой, на хер. Он глубоко затягивается, медленно выдыхает дым. Голова сразу идет кругом.
Молчание продолжается. То есть они-то разговаривают, отойдя от него подальше, время от времени ему удается различить слово-другое. Да что проку; если они не хотят, чтобы их слышали, он ничего и не услышит. Сэмми стряхивает пепел в левую ладонь, затягивается еще разок, надолго, поглубже втягивая дым. Косячок бы сейчас; эй, джон, а коксануть у вас тут не найдется? а то я в камере целую ночь просидел, так голова у меня охеренно… Почти минуту Сэмми улыбается сам себе.
Что это у них там звякает. Кто-то подходит к нему. Вот; чашка чая. Ставлю рядом с твоей ногой.
Он нагибается. Неудобно. Вставляет сигарету в губы, делает еще попытку, стараясь, чтобы дым не попал в глаза. Чай еле теплый, и сахару в него навалили до хера. Он как-то читал про одного еврея и черного, как они встретились в нью-йоркском кафе, пили кофе, у обоих не было ни гроша, и оба знали, что у другого ни гроша нет, да и не было никогда, ну они и налегли на сливки и сахар. Мутотень сраная. Он выпивает половину чашки, возвращает ее на пол, прислоняется к спинке стула, откидывая назад голову, пока та почти не касается спинки, вся шея напоказ.
Чарли и сам о себе позаботится. Сэмми он считал бесполезным засранцем, так что тут никаких проблем, все дело в том
выбраться отсюда. А как ты отсюда выберешься? Сэмми забыл, как это делается. Да, похоже, и не знал никогда. Как тебе, на хер, разговаривать с этими мудаками? Может, если они станут тебя пытать по-всамделишному, тогда да, тогда у тебя просто не будет выбора. Тогда уж и неизвестно, как ты себя поведешь. В конечном итоге, если им чего-то очень захочется, они своего добьются. Чего бы они от него ни хотели, все зависит, зависит прежде всего от того, насколько сильно они хотят это получить – и насколько быстро.
Да я его сто лет не видел, бормочет он.
Что-что?
Сэмми наклоняется вперед, затягивается, выпускает дым. Если я с ним и виделся в пятницу, так это впервые за много лет.
Вот как?
Голос сержанта. Сэмми пожимает плечами, поворачивает голову туда, откуда он доносится, вставляет в рот сигарету и нагибается за чаем. Руки трясутся, ну ладно. Он держит голову склоненной. Потом хмурится: я вроде припоминаю какой-то разговор про джазовые оркестры…
Да ладно тебе, Сэмми, не выеживайся.
Нет, что вы, я просто…
Да-да. Только одно, в тот раз, когда ты встретился с Чарли, о чем у вас шла речь?
…
Десять лет назад, когда ты встречался с ним? Ты тогда длинные волосы носил.
Э-э…
Э-э!.. Малый фыркает. Все верно, Сэмми, речь идет о событиях десятилетней давности, о вашей встрече в Лондоне… О чем у вас шла речь?
Да ни о чем.
То есть ты просто столкнулся с ним на улице? Теобалдс-роуд, если я правильно помню, – или это была Холборн?
Подключается англичанин: Холборн, да. В шесть тридцать утра. Вы направлялись к Клапамскому узлу.[25] Вы ведь в тех краях жили? Так?
Я уж и не помню.
Северный Лондон, южный Лондон, восточный, западный – где? в каких местах?
Северный.
Да? Очень мило. Вы проживаете в северном Лондоне, направляетесь к Клапамскому узлу и совершенно случайно встречаете на Теобалдс-роуд мистера Барра! В шесть тридцать утра.
…
Сэмми, у нас по счастливой случайности просто-напросто есть фотография – ты и Чарли; ты вышел особенно четко, длинные волосы, как я уже говорил, жаль, что ты не можешь ее увидеть. Вот она, передо мной.
Сэмми улыбается.
Ты помнишь тот случай?
Тут у него как раз просвет, сержант, разумеется, помнит.
Я шел на работу, говорит Сэмми, мы встретились, чтобы позавтракать.
Рабочий завтрак, ну еще бы, деловые же люди.
И, ну, вы же знаете Чарли, все на бегу, я к тому, что если вы знаете про это, значит, знаете, а я-то чего могу добавить.
Стало быть, вы двое случайно столкнулись друг с другом, вы нам это хотите сказать? Он на время приехал из Глазго, вы проживали в Лондоне и просто столкнулись с ним на улице? Ничего себе совпадение.
Сэмми улыбается.
Сэмми, чем дольше мы с тобой общаемся, тем больший интерес ты у нас вызываешь.
Да ладно.
У тебя не просто концы с концами не сходятся, ты еще и создаешь нам дополнительные сложности.
Так я чего, я все-таки после этого семь лет просидел… Сэмми замолкает, нагибается, роняет окурок в чашку; окурок шипит.
Господи, так он нам всю посуду изгваздает!
Вы просидели семь лет… И что?
Нет, ничего.
Да уж какое там ничего, семь лет жизни, я бы сказал это очень даже что-то.
Слушайте, если вам все известно, значит, известно, а я ни хрена добавить не могу, вот в чем все дело.
Да ты не расстраивайся, Сэмми.
У вас есть повод для обиды, это понятно; человек вроде Чарли Барра остается на свободе, а вас сажают, да еще и на семь лет.
О чем это вы?
О парне вроде вас, которого сделали козлом отпущения.
Вам же известно, за что меня, на хер, посадили. Не собираетесь же вы открыть это долбаное дело заново!
Вы меня не слушаете.
…
Вы слышали, что я сказал, вы меня не слушаете.
Сэмми, помолчав, говорит: Чарли приезжал на совещание. Вы и сами знаете, он приезжал на совещание. Он тогда был профсоюзным организатором. Мы встретились за год до того, как я получил долбаный срок. Не десять сраных лет назад, а одиннадцать. Так?
Ну что же, это поможет нам разобраться с датами, Сэмми.
Вот и слава богу.
Понимаете, мы знаем, что вы в этих делах не замешаны, нас просто смущает обилие совпадений. Вот, возьмите…
Движение, совсем близко, что-то касается его губ.
Это сигарета, Сэмми.
Ему подносят огонь.
Ты же понимаешь, совершенно ясно, что это никакие не совпадения. Мы не утверждаем, будто имел место некий заговор; но это не совпадения, Сэмми, ты согласен? И то, что говорят мои коллеги, абсолютно справедливо – во все это стоит как следует вникнуть. Ты оказался в незавидном положении и, в общем и целом, не по своей вине, просто ты в неудачное время попал в неудачное место. Не повезло. Но и нашей вины тут нет. Для нас важно время – точно так же, как для тебя. Я к тому, что мы-то в конечном итоге в тюрьме не окажемся – мы всего лишь выполняем свою работу, – а вот ты оказаться можешь; именно к ней ты семимильными шагами и продвигаешься. Собственно, ты в ней уже оказался, ведь так?
…
Я что хочу сказать, мы можем, если захотим, держать тебя здесь целую вечность. И, оставив тебя здесь, мы будем точно знать, что ничего не случится, а между тем, если мы тебя выпустим, тогда… кто знает? мы не знаем. То есть, в общем и целом, нам куда как проще держать тебя под запором.
Сэмми вынимает сигарету изо рта.
Ты ведь понимаешь, о чем я. Теперь давай рассмотрим других наших коллег; они тоже хотят оставить тебя здесь, из-за твоей сожительницы – держать под рукой, пока она не объявится! И они это сделают. Можешь мне поверить. Все чертовски осложнилось, Сэмми, чертовски осложнилось. А что может случиться, когда ты попадешь в настоящую тюрьму, – помнишь того парня, который умер в твоей камере?
Ни хрена он не в камере умер, его притащили туда уже мертвым.
Это очень серьезное заявление.
Действительно, очень серьезное, подтверждает англичанин.
Сэмми отворачивается от них, с силой затягивается сигаретой, мало ли что, может, она последняя. За спиной у него ведутся вполголоса какие-то переговоры. Гребаные идиоты, считают себя ловкачами; думают, что они хрен знает какие умные. Ну так и пусть их думают. Не мешай им, и все. И не надо их злить, на хер, не надо их злить. Ваши же долбоебы его и убили, говорит он.
…
Не вы, говорит он, я же не говорю, что вы – тамошние. Ну, вы понимаете, о ком я.
Мы решительно не понимаем, о ком вы.
Я сожалею, что так сказал.
…
Просто я расстроился, мне этот парень нравился, он был совсем безвредный.
Безвредных людей не бывает, Сэмми.
Иногда встречаются.
А вот нам такие ни разу не попадались.
Сэмми выдыхает дым. Почесывает правое ухо. Люди, бывает, делают такое, говорит он, чего делать и не хотят, но все едино делают.
Это вы о непредумышленном убийстве?
Это я о том, что обратился в слепого, вот, черт дери, о чем.
Помолчав немного, сержант говорит: До меня только что начало доходить, Сэмми… ты, похоже, часто впадаешь в беспричинный страх, верно? А? Ты только не обижайся, но разве не так? Тут, кстати сказать, стыдиться нечего; может, мы сумеем тебе помочь.
…
Я бы не удивился, если бы выяснилось, что у тебя бывают приступы паники. Бывают? Что-нибудь вроде них, приступов паники? А? Знаешь, у одного моего школьного товарища была очень сильная астма, спортом он заниматься не мог, мы все его жалели. Так вот, он часто впадал в панику. Без шуток, все время паниковал. Я, бывало, говорил ему: Эй, успокойся, успокойся.
Это правильно, встревает англичанин; такое часто случается с людьми, страдающими от сенсорных дисфункций. И нередко врачи, которые их обследуют, обнаруживают у них патологическое состояние тревоги. Иногда проявляются и другие тенденции. Возьмем, к примеру, если вы не против того, что я касаюсь этой темы, ту недельной давности глупость, так называемую стычку, тогда многие отметили, что вы просто-напросто напрашивались на побои.
Сэмми улыбается, качает головой.
Но ведь так все и было, вы же не станете этого отрицать? Нет? Да бросьте, этого вы отрицать не можете, есть же свидетельские показания.
…
Вам захотелось подраться, потому что вы сознавали, что понесли утрату, очень тяжелую.
Сэмми, поерзав на стуле, весь скручивается – почесать себе снизу подбородок. Жаль, не может он увидеть ублюдка; обоих, они все время разгуливают вокруг него, и он не всегда понимает, откуда доносятся их голоса. Хотелось бы на них полюбоваться, просто посмотреть, на хер. Это было б приятно, друг, ему бы понравилось, точно тебе говорю, это было б неплохо, поглядеть на паршивых гребаных ублюдков, будущих долбаных шишек, на хер. Он напрягается, а это лишнее, напрягаться не следует; его подмывает, знаешь ли, скрестить на груди руки, да только он ни хрена их скрестить не может и расслабиться, на хер, тоже; ладно, эти ублюдки, знаю, о чем говорю, хотелось бы, блин, на них посмотреть, на долбаных шишек, на так называемых привыкших охотиться в стае; тебе хочется рассмеяться, так вот не надо, прекрати. Охота вскочить, на хер, со стула! и этого тоже не надо; это желание ты подави, расслабься; их здесь по крайности трое, если компьютерный педрило все еще не вернулся, с ним будет четверо самое малое; Христос всемогущий, это ж надо! Сэмми улыбается, гасит улыбку, чуть изменяет позу. Прогадиться бы, а пукать он не решается – мало ли что может выпукнуться; ну да ладно, ладно… Ты плечами займись, друг, плечами, он смыкает веки, расправляет плечи, заставляет себя расправить их. Тут чья-то ладонь ложится ему на плечо, он резко выпрямляется; левое плечо, ладонь стискивает его. Это сержант. Произносит спокойным таким голосом:
Я хочу, чтобы ты передал некое сообщение; передал пару слов твоему старому другу. Ты слушаешь, Сэмми? Я хочу, чтобы ты сказал ему: опасайся темноты. Скажи ему это.
По-моему, он вас не слышит, сержант.
Слышит. Так ведь? А? Просто скажи ему: темнота будет отныне опасной. Если сейчас он ее не боится, так у него появились все основания бояться ее впредь. Такое вот сообщение.
…
Ты передашь ему это, Сэмми? А? Это, видишь ли, важно. Ему же во благо. Люди думают, мы тут в игры играем. Меня это всегда поражало. Скажи ему, что игры закончились. Да он так и так староват, чтобы в них играть. Верно? передашь ему это? Если вдруг встретишь?
…
Просто если вдруг встретишь, Сэмми.
Затем они уходят, оставив его в одиночестве. Минут двадцать по меньшей мере он так и сидит на стуле. Потом какие-то другие хмыри отводят его назад в камеру, снимают браслеты. Как только дверь закрывается, он поспешно спускает штаны и плюхается на парашу. Кажется, все вывалил, вместе с потрохами, все гребаное.
В общем, много чего, все. Это лишило его последних сил, и он, полумертвый, повалился на нары; сейчас засну, какое облегчение, он понял это, едва закрыв глаза, так оно и будет, исусе.
Вторая шконка опустела. Куда подевался тот малый, шут его знает, должен быть где-то здесь, в воскресенье под вечер они бы его не выпустили.
Сэмми-то выпустят завтра утром. Скорее всего. Никто ж не знает, что у них на уме.
На этот раз ему кранты. Точно, он это знает. И нечего себя дурить. Ни хрена он тут сделать не может. Ничего.
Остается только принимать происходящее, по мере поступления. А сделать он ничего не может. На этот раз кранты. Ничего не придумаешь. Все в их руках. И они сделают то, что сделают. И конец истории.
А податься некуда. Ты же
Ты же ничего заранее не знаешь. А потом все и происходит. И ни хрена ты поделать не можешь; так что лучше лежи, и все.
Сэмми натянул одеяло налицо, подобрал колени, свернулся калачиком. Ты умираешь. Им хотелось, чтобы ты умер, вот ты и умираешь; сердце останавливается; какое это имеет значение; вся эта хренация, никакого. Жизнь продолжается – у других то есть людей, другие так и живут; ты думаешь о них, как о живых, наблюдаешь за ними, за муравьишками, жучками, они снуют взад-вперед; да и хрен с ними, с долбаными дерьмюками; тебе ни хера и не хочется, не хочется наблюдать за ними, ты просто
тебе хочется пуститься в путь; убраться куда подальше; кому это нужно, смотреть на них; подумай сам, будь ты слепым с самого начала, от рождения, ты даже не знал бы, как они выглядят, не видел бы их, ничего бы не знал, только свой собственный мир; ты просто хочешь уйти, если получится, выйти на дорогу и вперед
Сэмми ощущает удушье. И не может выпростать голову; нет сил. Воздух не поступает в нос, Сэмми не удается втянуть его. С трудом выпутывает голову из одеял, натужно дышит.
Попозже приносят ужин. Он, надо полагать, закемарил. Колбасный фарш, картофельное пюре, ломоть хлеба, чашка чая. Сэмми не так уж и голоден, но подъедает все подчистую и, допив чай, снова ложится. Поворачивается на живот. Может, и не стоило есть, теперь вон в брюхе какой-то твердый комок. Пожалуй, лучше всего встать и походить немного; да неохота, вообще неохота двигаться. Вот еще проблема – штаны, они так и валяются на полу, а это ж его лучшие. Глупо, напялил их вместо джинсов. Просто не подумал. Теперь небось все измялись, на хер. Но вставать, складывать их тоже желания нет.
По крайности, на животе полежать можно. Руки спрятаны под подушку, голова отвернута; совсем неплохо, удобно, и спина отдыхает. Ладно, просто-напросто в будущем придется быть поосторожнее, в обозримом будущем то есть; надо следить за собой, стараться по мере сил. Может, попозже он встанет, сделает пару упражнений. Даже походить туда-сюда по камере, и то лучше, чем ни хрена. Нет, упражнения это вещь, это главное. Усваиваешь ритм, и тот становится второй твоей натурой. Он будет их делать, пока не выдохнется, а после завалится спать. Ну, а если заснуть не удастся, другое упражнение сделает; подрочит, к примеру. А утром проснется, кукурузных хлопьев похавает и общий привет. То есть это если его выпустят. Да выпустят, куда они денутся; сами же так и сказали, более-менее. Вот как он до дому доберется. Вот это кошмар. Добираться до дому, друг, это будет полный кошмар. Потому как палки нет, никакой сраной собаки тоже, и в кармане ни хера, как обычно. Даже где он сейчас, и того не знает. Христос всемогущий. Скорее всего, на Харди-стрит, но, может, и еще где. Охереть можно.
Если он завтра до дому допрется, надо будет под вечер выйти, тяпнуть пару кружек. В «Глэнсиз». Да и поговорить нужно; потрепаться с каким-нибудь мудилой; с кем-то знакомым. А если он в итоге налижется, так и ладно, поедет домой на такси. Вот чем хороша кутузка, башли экономятся. Так что ладно, ничего.
Откуда-то издалека доносится голос. Сэмми прислушивается, но разобрать ничего не может. Голос вроде как ходит по кругу – вверх, потом вниз. Вот занятно, у каждого человека свой голос, у каждого на свете, у всех, кто когда-либо жил. Если бог существовал, он был мужчиной. Ну, на худой конец, женщиной. Сэмми смеется, недолго. Ты здесь? спрашивает – не у бога, просто на случай, если какой-нибудь вертухай услышал смех и решил, что он, может, свихнулся или еще чего; эти ублюдки шастают вдоль камер и на ходу донесения посылают. Господи, когда-то, прямо перед тем как заснуть, у него возникало жуткое чувство, что проснется он сумасшедшим. Это когда он первый срок мотал. Двадцатилетний сопляк, господи-боже, больше ни черта он собой и не представлял. Ты же не знаешь, с какой стороны тебя долбанет. Хлебаный ад, друг, это был полный кошмар. Ты об этом думать не любишь. А надо. Об этом рассказывать надо. Сэмми давно уже так решил, насчет своего мальчишки, надо будет ему рассказать; пусть только подрастет; пока-то рано, слишком молод еще. Ничего от него не утаивать. Все как есть разъяснить. Потому как сумасшедших ты повидал – будь здоровчик. Разговариваешь с ними, все вроде нормально, а потом понимаешь – ни фига. Впрочем, это надо самому испытать, тут тебе никакой мудак ничего объяснить не сможет. Хоть глаза их взять, видел, какие у них глаза, так и бегают туда-сюда, так и шныряют; а бывает, они на тебя и вовсе не смотрят или вдруг им скучно становится, скучно, на хер, и все тут, понимаешь, о чем я, они ни слова твоего не слышат, они, на хер, смотрят прямо тебе в мозги, чтобы понять, что ты на самом-то деле говоришь, как будто слова, которые ты произносишь, это так, прикрытие для чего-то другого. Как будто ты переодетый злой дух или еще кто, а твое тело это только внешняя оболочка. Ситуация – зашибись, точно тебе говорю, каждый второй дрочила, какого ты знаешь, хоть немного, на хер, а рехнутый; с ними и разговаривать-то невозможно, сразу начинают орать на тебя, горло драть, и смотрят на тебя, прямо глазами едят, так, будто отхарить хотят. Это, друг, похуже любого ночного кошмара, потому как это ж все наяву, и куда ни глянь, ничего другого ни хера и не видишь. Куда ни глянь. Исусе-христе, потому тебе и нужны планы выживания. Ты просто обязан их иметь.
Плюс ты же не можешь точно сказать, на что они нацелились, фараоны то есть. Значит, надо быть осмотрительным. Так что ну ее на хер, выпивку, времени на нее нет, нет времени, ему необходимо пребывать в здравом уме и твердой памяти. Какие бы там мозги ему ни достались, друг, придется ими пользоваться. И никакого раздолбайства. Есть вещи, над которыми ты властен, а есть, над которыми нет. Ты, главное, за деталями следи. Чтобы никакого больше грома-с-ясного-неба. Никаких этих случайных неудач, о которых ты вечно не успеваешь подумать. Полная концентрация. И даже не пытайся свидеться с Чарли. Он подумывал встретиться с ним, да только это бессмысленно. Чарли ему помочь не может: и он не может помочь Чарли. Сообщение-то свое сержант Сэмми просил передать. Так оно для Сэмми и предназначалось. Дело ясное. Это хорошо – знать, как себя вести. Если фараоны настолько добры, чтобы дать тебе совет, друг, ты понял?
Плюс ему вовсе не хочется, чтобы Чарли прознал обо всем. Чарли это не касается. Не его долбаное дело. Ну его на хрен. Ну их всех на хрен. И Элен тоже, на хрен и ее, если ей так хочется. Всех скопом, на хрен, идите в жопу.
Ты просто старайся сохранять голову ясной. Если тебе позволят. Этот дурацкий голос понемногу стихает, монотонный, как у комментатора на бегах, искаженный, постепенно замедляющийся, он почему-то заставляет Сэмми вспомнить о его старике; о странностях, которые проступили в том незадолго до смерти. Старик отправлялся по каким-нибудь делам и вдруг ни с того ни с сего возвращался домой. Входил и начинал разговаривать так, словно он снова молод, интересовался, куда подевалась одна из его сестер. А она была в Штатах, друг, вот где, уже тридцать долбаных лет. Бедный старый ублюдок, тебе хотелось быть рядом, чтобы помочь ему, но в то же самое время ты рад был, что тебя там нет. Мама со всем этим толком справиться не могла, так что младшему брату с сестрой пришлось здорово повертеться. А когда Сэмми приехал домой, на похороны, там все уже устаканилось. Это просто бросалось в глаза. И у него не было ни единой причины чувствовать себя лишним. Кроме той, что он таким себя и чувствовал. Там присутствовали и родители Чарли; старик Сэмми дружил с его отцом. Отпевания устраивать не стали, но похороны все равно получились хорошие. Приятно было послушать, как все говорили о нем, вспоминали, каким он был вне дома – среди людей, обычных людей, его друзей и так далее, товарищей. Хотя как-то странно ты себя чувствовал, сознавая, что люди, которые сидят сзади тебя, тоже слушают эти рассказы, почти интимные. Христос всемогущий, все-таки здорово было убраться оттуда. Помнишь, как тот автобус уезжал со станции на Бьюканан-стрит. Такое облегчение! Нехорошо, конечно, так говорить, но, господи ты боже мой. Плюс он еще и разозлился. Уже дома, на поминках. Пришлось кой-кому рот заткнуть. Одному козлу, тот решил, будто разбирается в вещах, в которых ни черта не смыслил. Из тех, у кого в одно ухо влетает, из другого вываливается. Как оно и положено. А ты иногда чересчур заводишься, слишком, на хер… ну и влезаешь в разговор. Вот и тогда – разозлился ни с того ни с сего, сердце заколотилось, захотелось врезать этому ублюдку, долбаному идиоту, разорявшемуся хрен знает о чем, навалившему целую гору долбаного дерьма – о политике так называемой, о чем же еще. Как такое случается? Даже в крытке, лежишь себе, никого не трогаешь; ни с каким мудаком не разговариваешь, да и нет рядом никаких мудаков, ты просто охеренно
и вдруг такая ярость! В твоей долбаной башке! Ты просто чувствуешь, как в ней что-то бухает. Потому они тебе и нужны, друг, эти твои скромные планы выживания, позарез, на хер, нужны; как дышать, как еще чего-нибудь, так что давай, успокойся. Ты должен быть неприметным, тупым, – в одно ухо влетело, из другого вывалилось. И голову держи в порядке, иначе они тебя поимеют. Это уж можешь не сомневаться.
Надо заснуть. Прямо сейчас. Хватит ходить кругами. Он постарался запомнить их, круги-то, чтобы, проснувшись, получить какое ни на есть представление о том, сколько прошло времени, пока он с них не соскочил. Ты эти фокусы уже пытался проделывать, и эти, и другие, всякие. Не работают они. Да ты и узнать-то не можешь, работают или нет, потому как, проснувшись поутру, неизменно о них забываешь. И опять начинаешь думать о всякой ерунде; о бывшей жене, о брате с сестрой, о том, где и когда работал, о ребятах, которых знал. Когда за ним пришли фараоны, ему показалось, что он вообще глаз не сомкнул, хоть и проспал на деле всю ночь напропалую. Они не дали ему времени приготовиться, хотели вытащить его из долбаной постели, голышом, на хер, давай-давай, мы тебя сами, на хер, оденем. Да ладно, приятель, справлюсь, уж как-нибудь, сам. Очень они спешили: пошел ты в жопу с твоим завтраком, нас машина ждет. Ты парень тертый, пробурчал один, так нам, во всяком случае, сказали. А потом говорит: Давай сюда руки.
Иди ты в жопу, отвечает Сэмми, опять эти сучьи браслеты: Что за херовые шутки, приятель.
Заткнись.
Я думал, меня выпускают.
Заткнись. Тебя уже выпускали, так ты опять вернулся.
Исусе-христе.
Да, дружок, ты тут разоспался, а у тебя встреча назначена, мы ж не хотим, чтобы ты ее пропустил.
Разоспался?
Что, не знаешь который час?
К этому времени он уже вышел из камеры и топал по коридору туда, куда они его вели; разговоры прекратились, фараоны, по одному с каждого бока, держали его за плечи и за руки; он спотыкался, старался замедлить шаг; но вот свернули за угол, прошли две двери, начали подниматься по ступенькам, ну, как он и думал, куда-то повезут. По одной за раз, сказал он, господи, помедленнее. Так, поднялись, пошли дальше. Охеренно смешно. Наконец, посадили в воронок. Фараон пихнул его на сиденье, садись. Как только влезли все остальные, мотор заработал, захлопнулась дверь. Все молчали. Он поднял перед собой руки, ткнул при этом локтем одного из них, и все равно ни слова, фараон даже не пикнул. Сэмми извернулся почесать горло, покопаться в щетине. Хотелось ему сказать кой-чего, но воздержался.
Когда воронок остановился, один из фараонов взялся за браслеты, расщелкнул их и снял. А тот, что слева, говорит: Теперь послушай, что я скажу: сейчас пойдешь туда, причем один. Лады? Ты меня слышишь?
Я тебя слышу.
И никакой херни не затевай, потому что мы тебя будем ждать, понял? А?
Я тебя слышу.
Ты меня слышишь. Хорошо. Тогда давай двигай.
Сэмми шмыгнул носом. Где вход-то?
Вон там.
…
Вылезаешь из машины, идешь прямо, потом налево.
Сэмми кивает.
И помни, что я тебе сказал.
Сэмми вылез, пошел, распялив, чтобы найти стену, руки; потом свернул налево и двинулся вдоль стены, так и добрался до входа во двор. Впереди слышались шаги, а когда он прошел половину двора, послышались и сзади; наверное, эти ублюдки тащатся следом. Гребаные грязные ублюдки. Козлы. Ну ладно. Сигаретка бы не помешала. Надо было выцыганить у них. Теперь-то уж поздно.
Та же самая баба за стойкой регистратуры; миссис Фу-ты-ну-ты; он сообщает ей необходимые сведения. Присядьте, пожалуйста, говорит она.
Сколько сейчас времени?
Четверть одиннадцатого.
Исусе-христе, бормочет он.
Пошел, отыскал стул. Пусть сами разбираются, это их долбаная проблема, друг, приволокли его сюда на полчаса раньше. Он-то чего на этот счет волноваться будет. Может, им ждать надоест, они и отвалят. Остается только надеяться. Ему спешить некуда. Сэмми скрестил на груди руки. О господи. Он вздыхает.
Слышно, как неподалеку у кого-то хрипит в груди; какой-то несчастный ублюдок пытается дышать: Ыхт-ыхт, ыхт; ыхт, ыхт-ыхт… Потом забитым горлом: ыхт, у него там здоровенный ком слизи, этакое серовато-белое желе.
Попить ему, что ли, дать, да все одно не поможет, но все-таки, и тут этот малый говорит: Ты уж, друг, извини меня.
Люди так вежливы; их сбивают машины, а они встают и извиняются, на хер; Извините, вот что они говорят; Извините, и ласково так похлопывают по капотам, и малость обмахивают их рукавами своих долбаных курток, чтобы кровь, значит, стереть: Ай, прости, приятель, я тебе тут напачкал. В общем, их можно понять, они пытаются приладиться к жизни, все мы занимаемся тем же, стараемся не расстраивать разных мудил, ну и чтобы они нас не расстраивали. Хрен с ними, с фараонами, у них своих дел по горло. Только одно и можно сказать со всей железобетонной, водонепроницаемой определенностью – они знают, что делают. А Сэмми не знает. Ну и ладно, это не проблема. Придет время, узнаешь. Только и всего. А на лучшее надеяться нечего. На это можно всю жизнь потратить; на надежды-то. Если тебе нравится сидеть и надеяться, так пожалуйста, валяй, но это и все, что тебе останется, точно говорю, вечно ждать. Залы ожидания. Заходишь туда и ждешь. То же самое и с надеждами. Рано или поздно эти дрочилы целый домину отгрохают, ровно для этого. Государственные залы ожидания, заходишь туда и сидишь, надеешься на ту херню, на какую тебе больше нравится. По одному человеку в каждом углу. Да они уже ведь существуют: забегаловки, самые они и есть. Заходишь туда – посидеть, понадеяться, тебе продают выпивку, чтобы он помогла скоротать время. Разглядываешь сидящих вокруг мудаков. Зачем они сюда приперлись-то? А они тут надеются. Каждый на что-то. От телика у них уже с души воротит. Вот они и выбираются на люди, надеясь увидеть что-нибудь поинтереснее. Я схожу хлебну пивка, цыпочка, через часок вернусь. Надеешься поспеть к футболу? Ага. Надеюсь, ты не очень надолго. Да нет, ну разве встречу какого-нибудь мудака – надеюсь, что нет!
Сэмми фыркает и, чтобы приглушить смешок, прикрывает ладонью рот. Вот на что похожа та блевада – ну, местная забегаловка, что за углом, та, до которой он не добрался в пятницу, – он называет ее блевадой, потому как от нее блевать тянет. Шутка такая. Но если без шуток, друг, ты можешь зайти туда в четверг вечером и увидеть, как один-единственный какой-нибудь хмырь корячится с «одноруким бандитом», а половина паба наблюдает за ним, вот и все их обалденные развлечения. Хотя бывает и наоборот: поножовщина. Стоишь себе тихо-мирно с кружечкой, и тут какой-нибудь мудак, которому ты проход загородил, говорит: Прошу прощения, старина, а после вытаскивает бритву и распарывает физиономию твоему соседу. Охренеть можно. И о чем они там все думают? Стоят, даже газет не читают, ящика не смотрят, ни с одним мудаком не разговаривают, просто стоят, на хер, и все. Да пьют! вот что они, блин, делают, друг, – пьют. Сэмми сейчас с удовольствием присоединился бы к ним. Может, если он вежливо попросит фараонов, те отведут его в паб, позавтракать, кружечку пропустить; рыбка с чипсами или еще чего, а то он малость проголодался. Одно Сэмми крепко усвоил, судьбу искушать не следует, хотя усвоил и еще кое-что – он может спокойно обходиться без выпивки; вот с куревом дело похуже. Раньше-то было как раз наоборот. Так что, выходит, он и вправду вступил в новую эру – по стопам замудоханной жизни. Может, потому его долбаные ноги и ноют. Он наклоняется, чтобы расшнуровать кроссовки; можно было бы их и снять, да ведь все равно придется обратно натягивать. Рядом скрипнул стул, кто-то уселся. Через минуту усевшийся шепчет: Тебя ведь Сэмюэлсом зовут? Да?
…
А меня Алли, рад знакомству. Рад знакомству. Я так понимаю, тебе нужен поверенный?
Сэмми настороженно вслушивается в другие голоса, в другие звуки; одни долетают от регистратуры, другие со стороны прочих посетителей…
А? поверенный?
Нет.
Ты уверен? Голос у мужика удивленный.
Конечно, уверен, приятель.
Просто я вроде бы видел тебя в пятницу в ОМПУПе. Ты был там?
Извини.
Ты сегодня к какому доктору? Не к Логану?
…
Я слышал, он халтурщик.
Доктор как доктор.
А по моим сведениям, не очень-то.
Сэмми шмыгает носом.
Насколько я знаю, он просто никчемный пидор.
Я был у него пару месяцев назад.
Да? Мм. Нет, я правда думал, что тебе нужен поверенный. Ты же слепой, так?
Кто тебе это сказал?
Птичка начирикала.
Какая еще, на хер, птичка?
И знаешь, твой случай, он с точки зрения медицины не так уж и прост, насколько я его понимаю.
А что ты в нем понимаешь?
Мужик хмыкает.
Ну так вот; поверенный мне не нужен, большое спасибо; и отвали.
Я понимаю твою реакцию, она вполне нормальна. Послушай, простой случай, сложный, мне все равно, если хочешь, я буду тебя представлять.
Ты что, глухой?
Нет, я не глухой, спасибо, что спросил. Поправь меня, если я ошибаюсь, ты ведь собирался потребовать от полицейского управления компенсации, а после передумал. Так?
Сэмми встает, поворачивается в сторону регистратуры и ощупью добирается до стойки.
Женщина спрашивает: Да?
Мистер Сэмюэлс, жду приема.
Да, у доктора Логана, но он сейчас занят с пациентом. Я вас позову.
А. Хорошо. Ладно. Я тогда постою здесь, подожду.
Боюсь, здесь нельзя стоять и ждать, здесь же люди все время ходят.
Сэмми отступает на пару шагов, потом сдвигается влево, отыскивает стену. Прислоняется к ней. Я вот тут постою, говорит он, если вы не против.
Прошу прощения?
Понимаете, тут такое дело, меня во дворе полицейские ждут.
Боюсь, это не заставит доктора завершить консультацию поскорее. Не так ли?
…
Я с мистером Сэмюэлсом… Все тот же козел; он уже опять подобрался к Сэмми.
Вы из полиции?
Нет.
Вы загораживаете проход. Будьте добры, отойдите в сторону.
Это она тебе, шепчет козел. Ты загораживаешь проход, мистер Сэмюэлс.
Давай-ка, говорит он, беря Сэмми за руку: Еще три шажка, и порядок.
Сэмми вырывает руку.
Так ты не хочешь, чтобы я с тобой к доктору сходил?
Нет.
Тебе от этого только польза будет.
Ты вроде говорил, что ты не глухой, приятель, понимаешь, на что я намекаю?
Ну еще бы не понять.
Он собирается что-то добавить, но Сэмми перебивает его: Слушай, друг, иди, постой где-нибудь еще.
Если ты настаиваешь.
Настаиваю.
Ты, выходит, уже обзавелся поверенным?
Я же тебе сказал, поверенный мне не нужен.
А. Ну ладно
И оставь меня в покое; всего хорошего. Сэмми покачивает головой, отворачивается. Мужик вроде бы отходит, но наверняка ведь не скажешь; Сэмми скрещивает руки на груди, приваливается плечом к стене. В конце концов, Фу-ты-ну-ты выкликает его: Доктор Логан готов принять вас, мистер Сэмюэлс. Пожалуйста, вот сюда.
Рука все того же хмыря хватает Сэмми за запястье, и хмырь, стискивая его, шепчет: Логан – каверзный ублюдок, он попытается тебя в порошок стереть; помни, ты слепой, не позволяй ему говорить, что это не так; это совершенно новое для тебя состояние, возникшее не по твоей вине, но в результате игры случайностей, приведенной в ход человеком или несколькими людьми, которые состоят на службе в полиции; постарайся настоять на своем.
Сэмми продвигается вперед. Теперь его берет за руку Фу-ты-ну-ты. Спасибо, миссис, говорит он, однако она не отвечает. Такое уж обыкновение у этих ублюдков из среднего класса. Они заговаривают с тобой и выслушивают твои ответы, однако тебе с ними заговорить не удастся, надо ждать, пока они сами к тебе не обратятся. Он останавливается, когда останавливается она, слышит, как Фу-ты-ну-ты стукает в дверь. Прислушивается, не увязался ли за ними поверенный. Дверь открывается, его вталкивают в комнату. Дверь закрывается. Он стоит, на месте.
Вот сюда…
Голос доносится ниоткуда. Невнятный. Следом слышится шелест бумаг. Кашель. Вот сюда, пожалуйста, э-э…
Сэмми остается стоять, где стоял. Этот мудак, скорее всего, сказал бы то же самое, даже если бы он был в темных очках и с белой палкой. Снова шелест. Так и видишь, как он разглядывает Сэмми поверх очков для чтения; морда недовольная, думает: Это еще, на хер, что за урод?
Сэмми улыбается. Непонятно почему, но он нервничает. Дело не в кретине снаружи, так называемом поверенном. Повидал он этих поверенных. И не хочет иметь с ними дела. Никакой поверенный ему не нужен, это его последнее слово.
Будьте добры, присядьте вон там.
Простите, доктор, я слепой, так что не знаю, где это – там.
Два шага вперед и пять вправо. Пока Сэмми ищет кресло, доктор продолжает говорить. Вы мистер Сэмюэлс, около шести месяцев назад вас зарегистрировали на предмет прохождения испытательного срока; сегодня вы пришли к нам с жалобой относительно утраты зрения на обоих глазах: все правильно?
Да… Сэмми отыскивает кресло, садится. Выдвигает вперед ногу, и та врезается в какой-то стол.
И как же, вы говорите, произошла потеря зрения – в течение определенного периода времени или внезапно; как?
Ну…
Доктор вздыхает. В отчете, который лежит передо мной, это сформулировано немного туманно.
Ну, я проснулся утром и все – ничего не вижу. Я уже говорил женщине в центральной клинике.
Угум. И когда это случилось?
Да я не уверен.
Не уверены?
Нет.
Согласно этому документу, начальная дата уже определена – позапрошлая суббота.
Э-э
А теперь вы хотите назвать другую?
Я не уверен.
Вы не уверены?
Я малость запутался со временем, доктор.
…
Я пытаюсь привыкнуть к этому, но как следует разобраться во всем у меня не получается.
Понятно. До названной даты вы замечали какие-нибудь ухудшения?
Нет.
Вы совершенно в этом уверены?
Да; я все хорошо видел, а после вдруг перестал.
То есть вы хотите сказать, что никогда у окулиста не были.
Нет.
Вы много читаете?
В общем, да.
Угум. И разбираете любой мелкий шрифт?
Нет.
Теперь насчет телевизора, с ним вы какие-нибудь затруднения испытывали?
Никаких.
А в вашей семье кто-нибудь страдал слепотой? Родители, братья, сестры. Дедушки и бабушки.
Отец с матерью носили очки.
Постоянно?
Ну…
Не снимая?
Я не уверен… э-э, вроде бы да. Да, не снимая. И сестра читает только в очках. Насчет брата не знаю, я с ним давно не виделся.
Несколько минут молчания. Снова шуршат бумаги, открывается и закрывается ящик стола. И Сэмми слышит, какое-то движение в той стороне, где доктор. Потом что-то свистит в воздухе, Сэмми вскидывает голову. Еще раз. Он снова вскидывает голову; вцепляется в подлокотники кресла. Опять свист, гораздо ближе. И еще один, прямо за левым ухом. Потом на лоб ему ложится холодная ладонь.
Сэмми прислушивается к дыханию доктора, мерному-мерному, ни единого сбоя.
Постарайтесь расслабиться, мистер э-э… Нет, глаза пока держите открытыми.
Еще какое-то движение. Что-то касается его щеки, что-то шершавое. Потом легкий удар в левый висок, от которого Сэмми взвизгивает. Он шмыгает носом. Ладонь снимается со лба. Доктор отходит.
Вы курильщик. Когда вы проходили у нас регистрацию, вы нас об этом известили?
Да.
Сколько вы выкуриваете в день? в среднем.
Ну, когда как.
Примерно, сколько?
Пол-унции. Ну то есть если я не совсем на нуле, если есть какие-то деньги… Сэмми пожимает плечами.
Вы понимаете, что лечение определенных расстройств и заболеваний может не дать результата, если вы сохраните эту привычку. Я настоятельно рекомендую вам отказаться от нее. Курение убивает; и не только вас, но и окружающих. Оно может также стать одной из причин разнообразных недугов и болезненных состояний. Вы когда-нибудь пробовали бросить курить?
Да, несколько раз.
Но не смогли?
Нет.
Угум. Ну что ж, мистер э-э Сэмюэлс… что касается примененной к вам визуальной стимуляции, вы, как мне представляется, на нее не отреагировали.
…
Вы хорошо спите по ночам?
Да.
Сколько подушек используете?
Э-э, одну.
А желания открыть окно не испытываете?
Ну, бывает.
Чтобы воздух был свежим?
Да.
Учащенные сердцебиения у вас случаются?
Нет.
Боли в лодыжке или в плече?
Никаких.
В груди?
Э-э… в общем-то, нет.
Вы вроде бы не уверены.
Ну, я, э-э, у меня бывает иногда несварение.
В груди?
Да.
Почему вы думаете, что это несварение?
Ну… это похоже на изжогу.
Угу. Головные боли?
Э-э, нет.
Никогда?
Нет.
У вас никогда не болела голова?
Нет, никогда.
Замечательно. Другие боли?
…
Сэмми скрещивает руки. Да, говорит он, в спине и в ребрах.
Тем не менее никаких проблем с грудной клеткой вы не испытываете. Угум.
Сэмми встает. Снимает куртку: Я подумал, вам, может, захочется взглянуть на это, доктор. Он вытягивает из штанов майку, задирает ее вместе со свитером. Поворачивается кругом.
Доктор подходит к нему: Стойте спокойно. Он касается ребер Сэмми, похлопывает его по спине, ближе к копчику. Потом говорит: Заправьте майку.
Сэмми заправляет, садится, слушая, как доктор что-то записывает. Э-э, я вот хотел спросить…
Да?
Как вы считаете, это только на время?
Что?
Глаза.
Глаза?
Я насчет слепоты, по-вашему, что это временно или как?
Боюсь, на этот вопрос я ответить не могу. Рекомендую вам набраться терпения. Вы склонны к психологическим или нервным расстройствам?
Нет.
К беспричинной тревоге?
Нет, никогда!
Приступам панического страха?
Э-э, нет.
Вы понимаете, что я подразумеваю под приступами панического страха?
Сэмми шмыгает. Что вы подразумеваете, я понимаю, я не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете.
Вы знакомы с доктором Крозье?
…
Лет примерно девять назад он обследовал вас и составил медицинское заключение. Он описал вас как человека, подверженного патологическому беспокойству и склонного к приступам панического страха.
…
Передо мной лежит копия этого заключения. Вы с его клинической оценкой не согласны?
Да.
Да?
Да. Ну, то есть дело не в том, что я не согласен, просто тогда такие обстоятельства были, я ему говорил – одного моего знакомого нашли мертвым.
И вы считаете, что это делает заключение доктора Крозье безосновательным?
Я не считаю. Я просто говорю, что ситуация была необычной.
Мистер Сэмюэлс, я посоветовал бы вам, для вашего же собственного блага, постараться поладить с физической реальностью. Вам не следует позволять тем или иным вещам угнетать ваше сознание. Следует избегать в вашем поведении маниакальных проявлений. Когда человека поражает сенсорная дисфункция, его тело пускает в ход собственные механизмы компенсации, и им лучше содействовать, нежели противиться. Все люди, в общем и целом, одинаковы. Мой опыт общения с людьми, лишенными зрения, говорит мне, что они обладают способностью различать материальные предметы с такой совершенной точностью, что у того, кто их наблюдает, возникает искушение предположить, будто они способны видеть с помощью рук или что их палки это некий орган шестого чувства; эти люди с легкостью различают, где камень, где дерево, а где вода. Вы, как я вижу, человек не религиозный, но есть ведь и религиозные люди, приверженцы разного рода верований; так вот, они утверждают – на мой взгляд, не без оснований, – что это весьма специфическое зрение есть принадлежность души. Очень часто приходится наблюдать, что, когда душа пребывает, вследствие исступления или углубленного созерцания, в смятении, тело человека, как целое, лишается чувствительности, несмотря даже на то, что оно сохраняет контакт с объектами материального мира. Суть здесь в том, что ощущение возникает не по причине присутствия души в тех частях тела, которые служат внешними органами чувств, но по причине ее реального присутствия в мозге, где она исполняет роль главнейшего органа всех чувств, своего рода центрального координатора – можно назвать ее и так, хотя, делая это, мы оставляем открытым путь для отрицания ее неотъемлемой сущности. Я рекомендую вам относиться к вашему состоянию как к полуперманентному и исходить именно из этого, быть может, стараясь при этом сдерживать свои эмоции. Вы, я полагаю, желали бы получать городское пособие?
…
И какую работу могли бы вы исполнять?
Да я теперь и не знаю.
Когда вы работали в последний раз?
Э-э, в октябре.
В октябре?
Да, в одном из проектов городского строительства.
Угум. Как по-вашему, когда бы вы могли снова начать работать?
Ну…
Предполагается ли в ближайшем будущем осуществление еще каких-либо проектов?
Думаю, да, но, понимаете, если все так и останется… Сэмми пожимает плечами.
То что?
Ну, мне придется перерегистрироваться. Чтобы работать на стройке, надо же все-таки глаза иметь.
…
Понимаете, э-э, доктор, там же много чего приходится делать на высоте… а там ни полов, ни стен, ни потолков. Ты вроде как и в середине здания… но их там еще нет. Сэмми пожимает плечами. Если ты незрячий, так ведь и свалиться можно.
Угум.
Я потому к вам и пришел.
Да, верно, но пока не будет составлено исчерпывающее заключение, мистер Сэмюэлс…
Сэмми шмыгает. Доктор пишет. Сэмми откашливается и говорит: Э-э, я вот хотел узнать насчет собаки-поводыря и белой палки… Ну, то есть как бы мне их получить?
…
Э-э, куда надо насчет этого обратиться?
Обратиться насчет чего?
Ну, если тебе нужна собака-поводырь или белая палка; куда насчет них обращаться?
Боюсь, я вас не понимаю.
Ну вот, э-э, если у тебя нет денег, я имею в виду, чтобы купить их, наверное, существует какое-нибудь благотворительное общество?
Что ж, я бы сказал так: если заключению относительно установленной дисфункции дается должный ход, то заявитель подает заявку касательно его нужд, проистекающих из установленной дисфункции, и соответствующее благотворительное общество таковую заявку удовлетворяет.
Так мне чего, в благотворительное общество, что ли, обратиться надо?
…
А?
Прошу прощения?
Куда обращаться-то? Это я насчет… ну, благотворительности.
А это уж целиком и полностью ваше дело.
Да, но…
В благотворительное общество, мистер Сэмюэлс, можно обращаться во всякое время.
Да, но я о чем говорю-то…
Доктор вздыхает. Сэмми сжимает и разжимает ладони. Снова шуршанье бумаг. Доктор говорит: я предписываю курс лечения, подобный тому, который предписал вам доктор Крозье; этот курс поможет вам снять стресс; кроме того, я выписываю мазь, которую вы сможете наносить на верхнюю половину тела. Вот, получите.
Сэмми протягивает руку и получает рецепт.
Всего хорошего.
Сэмми встает. Э-э, доктор, насчет зрения-то… Что мне теперь делать?
В каком смысле?
Ну, просто, э-э, куда мне теперь идти-то.
Я полагаю, мистер Сэмюэлс, что это вы должны решать сами.
Да нет, я же не об этом, я насчет того, что, ну…
…
Понимаете?
Не уверен. Медицинские служащие ОМ ПУП просили осмотреть вас. Это чистой воды формальность. Что касается центральной клиники УСО, то ее исполнительные органы потребуют, я полагаю, вынесения конкретного решения. Если предположительная дисфункция будет подтверждена, ваше прошение о перерегистрации вследствие утраты зрительной способности будет удовлетворено.
То есть прямо сейчас никто мое прошение удовлетворять не собирается?
Ну а как же иначе?
Нет, я просто вроде как интересуюсь, что вы-то им скажете. Я про ваше заключение или как там… Сэмми шмыгает носом.
Шуршат бумаги. Доктор опять чего-то пишет.
Понимаете, мне просто интересно, э-э, насчет будущего, э-э, и это, насчет глаз…
Я уже сказал, для вас было бы разумным исходить из предположения, что в случае, если предположительная дисфункция будет установлена
Простите, что перебиваю, доктор, но, понимаете, когда вы говорите «предположительная»…
Да?
Вы это к тому, что, в общем-то, не считаете меня слепым?
Виноват?
Вы говорите, что не считаете меня слепым?
Разумеется, нет.
Тогда чего же?
Я вам уже сказал это минуту назад.
А вы не могли бы повторить, пожалуйста?
Что касается примененной к вам визуальной стимуляции, вы, как мне представляется, на нее не отреагировали.
То есть, по-вашему, я слепой?
Об этом не мне судить.
Да, но вы же доктор.
Доктор.
Значит, у вас должно быть какое-то мнение.
Мнение может быть у кого угодно.
Да, но по медицинской-то части.
Мистер Сэмюэлс, меня ждут пациенты.
Господи-прости!
Я нахожу ваши выражения неуместными.
Да? Ну тогда и хрен с вами. Шел бы ты в жопу! Сэмми сминает рецепт и запускает им в доктора: Засунь его в свою затраханную задницу.
Ладно, всего хорошего.
Идиот гребаный! Сэмми так и стоит на месте. Улыбается, потом убирает улыбку. Долбаный ублюдок!
Да, да, спасибо вам большое.
И тебе охеренное спасибо, козел. Сэмми хватается за стол, там какие-то бумаги, он сметает их на пол; разворачивается и устремляется туда, где, по его мнению, находится дверь, однако сразу врезается во что-то, оно падает, Сэмми спотыкается, пытается устоять, но ни хера у него не получается, и он валится, с лязгом ударясь о какую-то острую, твердую штуку, вскрикивает. Дверь распахивается, кто-то вбегает, хватает его за руку. Сэмми бьет его, кто бы он ни был, кулаком, перекатывается, поднимается, собираясь удрать, на колени, потом на ноги. А это оказывается все тот же поверенный, и он говорит: Полегче, это я. Я представляю интересы этого человека, доктор Логан.
Вы…
Сэмми хочется убраться подальше от их голосов.
Я должен был присутствовать сегодня при вашей встрече, но меня задержали дела; простите за причиненное неудобство.
Доктор начинает что-то талдычить, но Сэмми уже отыскал дверную ручку; он выбирается из комнаты и уходит. Похлопывая ладонью по стене, он добирается до стойки регистратуры, отсюда уже выход найти нетрудно. Но когда Сэмми достигает его и начинает шарить в поисках двери, его опять перехватывает поверенный: Спокойно, говорит, это я.
Сэмми, не обращая на него внимания, выскакивает во двор. Поверенный увязывается за ним: Подожди, говорит он.
Нет.
Дай мне хоть слово сказать.
Меня люди ждут.
Это не займет и минуты.
Я же сказал, меня люди ждут. Сэмми не сбавляет ходу.
Если ты насчет полицейских, если ты их имеешь в виду, так они уехали.
…
Нет, честно. Сто лет назад умелись.
Да не могли они уехать.
И все же уехали.
Откуда ты знаешь?
Сам видел.
Ну, значит, вернутся. Сколько сейчас?
Двадцать минут двенадцатого. Они что, говорили, что будут ждать тебя?
Сэмми продолжает подвигаться к выходу из двора. Поверенный не отстает: Как оно, кстати, прошло-то? спрашивает.
Что прошло?
Ну, с лекарем.
Ну его на хер.
Я же тебе говорил, он каверзный ублюдок. Потому и хотел пойти с тобой. Беседуя с этими коновалами, лучше иметь при себе поверенного.
Сэмми выходит из двора, поворачивает налево.
На автобус собираешься?
Сэмми останавливается, поворачивается к нему. Слушай, приятель, спасибо тебе и прочее, но мне советчики не нужны; и поверенный не нужен; у тебя неверные сведения, я не собираюсь требовать компенсацию.
Нет, ты меня извини, я просто хочу напомнить тебе, со всем моим уважением, сейчас ты к компенсации не стремишься, но ты же пытаешься перерегистрироваться, значит, можешь потом и передумать. Обстоятельства могут заставить. Да и вообще, отчего бы не сшибить несколько фунтов, если есть такая возможность? Ты не согласен? А? Я к тому, что терять-то тебе нечего.
Знаешь, приятель, ты просто какой-то комик долбаный, вот кто ты такой.
Приятель хмыкает.
Послушай, э-э…
Алли; меня зовут Алли.
Ладно, хорошо; понимаешь, тебе кажется, что ты во всем разобрался, а это не так; ты не к тому человеку сунулся, вот и все, что я могу тебе сказать.
Ты позволяешь себя запугивать.
Сэмми качает головой.
Тому же Логану, потому ты и вышел из себя. Он хотел вывести тебя из терпения и вывел.
Всего хорошего.
Нет, ты скажи, диагноз ты от него получил? Готов поспорить, что нет.
Сэмми идет дальше.
Да это, кстати сказать, и не страшно, тут надо уметь творить чудеса, чтобы его получить! Но насколько близок к этому ты был? Что он сказал? какие слова, точно; ты их запомнил? Он сообщил тебе свое мнение? или хотя бы в общих чертах описал что с тобой?
Сэмми продолжает идти, через каждый второй шаг касаясь стены левой рукой. Неужели полицейские отвалили? Да нет, наверняка они где-то рядом, следят. Может, на другой стороне улицы.
И как ты до дому доберешься? А? Ты же не видишь ничего, у тебя палки и той нет.
Сэмми останавливается и рявкает: Слушай, друг, как я доберусь до дому, это мое, на хер, дело. И топает дальше.
А направление, направление ты от него получил? Потому что, если не получил, у тебя будут проблемы. Направление в благотворительное общество?
В жопу его.
Нет, но это же важно.
Да оставь ты меня в покое.
Но тот не отстает. Послушай, говорит, ты не предъявляешь претензий полиции, и это понятно, ты не хочешь выдвигать против них обвинений, все правильно. Хотя результат подачи заявления насчет пособия по утрате трудоспособности тебя тоже беспокоит, и это опять-таки понятно, потому что оно может навлечь на тебя все те же обвинения в клевете. Но я вот что хочу сказать, все это не так уж важно. Им все едино, выиграешь ты, проиграешь или будешь и дальше эту волынку тянуть. Ты их не волнуешь. Ну так и тебе по их поводу волноваться нечего. Ладно, отцыганишь ты у них несколько фунтов, им-то что. А вот ты, если решишь с ними не связываться, денежки потеряешь, потому что, если тебе удастся получить диагноз и перерегистрироваться как незрячему, тебе таки накапает пара фунтов как человеку, непригодному для полной занятости.
Сэмми останавливается.
Да ты это и сам уже понял, так?
Пошел ты!
Нет? я думал, понял. Это ты меня удивил. Удели мне пару минут, и я объясню тебе, как все это устроено. Ты как насчет чашки чая? тут за углом кафе есть. А? Это ж в твоих интересах.
Слушай, э-э…
Алли.
Алли… Сэмми останавливается. Полиция того и гляди вернется, и я хочу быть к этому времени здесь.
Думаешь, они за тобой приедут?
Да не желаю я это с тобой обсуждать, усек? у меня просто нет сил – ты понял? в другой раз, в другой; не сейчас.
Ну, я на тебя давить не буду. Держи.
Что?
Алли вкладывает ему в ладонь два листка бумаги. Один – это рецепт, говорит он, другой – направление, которое я заставил его выписать после твоего ухода.
Некоторое время Сэмми молча держит листки в руке, потом сует их в карман.
Видишь ли, ситуация, как я ее понимаю…
Послушай, э-э, Алли, я тебе благодарен за все, что ты сказал и так далее, но давай не сейчас, давай обсудим это в другой раз, не сейчас, вот и все, что я говорю, не сейчас. И спасибо, что добыл для меня эти бумажки.
Да чего там. Ты все же послушай меня хоть минуту…
Сэмми вздыхает.
Ну хоть до их появления. Понимаешь, ситуация, как я ее понимаю… ладно, тебя отколошматили в управлении, по заслугам там или нет; тут можно поспорить – полиция, когда мы заставим ее признать, что это имело место, будет твердить, что по заслугам. Но признают ли они, что побои имели место? Я думаю, признают, это может занять какое-то время, но в конечном итоге так оно и будет.
Ты в этом уверен?
Да ты ведь и сам это знаешь.
Да.
Хорошо. Потому что многих это удивило бы. Один вопрос: когда тебя избили и ты ослеп, произошло ли это сразу?
Нет.
А власти об этом знают, ну то есть записано это где-нибудь или не записано? если не записано, им известно только одно – что ты ослеп. И это тебе на руку. Понимаешь, если ты сохранял зрение еще два дня, тебе будет сложнее доказать, что причиной стали побои. А им ничего не известно, и тогда это вопрос несущественный. Каков, кстати, латентный период утраты зрения? Если выяснится, что процесс обычно идет дня два, то все в порядке, но если окажется, что слепота наступает сразу, как прямое следствие удара или ударов, у нас могут возникнуть сложности. Однако на этот счет ты не беспокойся, я все выясню. У меня лежит дома пара медицинских справочников; плюс есть и другие источники.
Какие?
Долго рассказывать.
Сэмми качает головой.
Ты мне не доверяешь, так?
Я вообще никому не доверяю.
Да, ну что же, позволь сказать тебе, что это может создать проблему.
Сэмми примирительно воздевает ладонь, улыбается. Ладно, приятель, не обижайся. Он протягивает руку, словно бы для рукопожатия. И когда Алли принимает ее, Сэмми стискивает его ладонь и не выпускает. Ладонь почти такая же большая, как у него. Сэмми давит не слишком сильно, он не хочет, чтобы мужику было больно. Ладно, говорит он, теперь послушай, что я тебе скажу: ты ничего не знаешь. Думаешь, что знаешь, но не знаешь. Тут происходит кое-что еще. Тебя оно не касается, и рассказывать тебе о нем я не собираюсь. Я говорю только одно, все не так, как тебе кажется. Поэтому брось ты это дело. Хорошо?
…
Хорошо?
Чего ж хорошего, когда тебя так вот хватают?
Я просто хочу, чтобы ты слушал, блин, что я говорю.
Так я и слушаю.
Ты поверенный, ладно, согласен. Раньше думал по-другому, теперь нет. Я тебя принял за шпика. Извини. Больше я так не думаю. Ладно. Просто тут происходят дела, которых ты не расчухал; и они тебя никак не касаются, понял? Они тебя не касаются.
А ты попробуй довериться мне.
Ты так и не слушаешь. Сэмми нажимает сильнее, и Алли пытается вырвать руку – хватает Сэмми за запястье, дергает. Сэмми отрывает его руку, приходится поднатужиться, но отрывает и держит, крепко.
Перестань, говорит Алли, это ж смешно.
Для меня – не очень.
На нас люди смотрят и смеются.
Да в гробу я их видал, люди, на хер, смотрят, ты шутишь, друг! Сэмми ухмыляется. Потом отпускает Алли. Потирает ладонь о ладонь и сует обе в карманы штанов, медленно отходит к стене, прислоняется. Он вслушивается. Движение тут не сильное. Немного погодя он спрашивает: Ты здесь?
Да.
Послушай, мне жаль и все такое, я извиняюсь. Просто мне сейчас туго приходится.
Да ладно, ничего.
Сэмми пожимает плечами. Понимаешь, если честно, я совсем измудохался.
Можешь мне не объяснять.
Я решил, что стоит.
Ну так не стоит.
Сэмми улыбается. Слушай, у тебя покурить не найдется?
Нет, извини.
Знаешь, а ты парень четкий, понимаешь, о чем я?
…
Ты, оказывается, четкий парень.
Я предпочитаю держать мои карты открытыми. Ты уверен, что полицейские вернутся?
Сэмми прикусывает краешек ногтя на правом большом пальце.
А?
Что?
Ты уверен, что полицейские вернутся?
Слушай, приятель, ты не мог бы посадить меня в автобус? есть у тебя такая возможность? Деньги я тебе верну. Понимаешь, я вышел из дому без палки.
Давай все же выпьем по чашке чая, а?
Времени нет.
Это на чашку-то чая? одну-единственную!
Может, тогда уж пивка? шучу.
Знаешь, сам я не пью, так уж сложилось, но против людей, которые пьют, ничего не имею; для меня это не вопрос морали, вернее, почти.
Сэмми вздыхает. Я всего-навсего пошутил, мне и пива-то не хочется.
Ты уверен?
Да. Вот если бы ты меня в автобус посадил…
Конечно. А чаю ты точно не хочешь?
Нет времени. Послушай, э-э… спасибо тебе. Деньги я тебе сразу отдам, знаешь, они у меня дома.
Да это не важно.
Просто я выскочил в жуткой спешке, ну и… Сэмми пожимает плечами. Потом говорит: И еще пара вещей, чтоб ты знал; все дело не в физических последствиях, я потому компенсации и не требую. Тут дело личное. Тебе, похоже, известно, что я не в ладах с фараонами – с полицией, – они меня измором берут, просто измором, на хер.
Ну так они и дальше так будут делать, я…
Нет, тут не то, что ты думаешь… Слушай, может, пойдем к автобусу?
Давай.
Надо улицу перейти. Дай мне руку… Сэмми продолжает говорить на ходу. Видишь ли, я не хочу во всем этом увязнуть, понимаешь, ты ничего про мою жизнь не знаешь, но я хочу выбраться из этого – что бы там ни делали фараоны, – выбраться, и все, жить, как все люди, друг, вот я о чем говорю, как мой сосед, у него внуки и прочее, он возится себе по дому, и все. Или хоть старика моего возьми
Прости, тут я тебя прерву.
Что?
Я не хочу быть бесцеремонным. Но давай лучше я буду задавать тебе вопросы, а ты на них отвечать. Многое из того, что ты собираешься мне рассказать, несущественно, и при всем моем уважении к тебе, мне об этом лучше не знать, по крайней мере, сейчас. Прежде всего у меня, как и у тебя, мало времени.
Послушай
Нет-нет, я говорю только о том, что к нашему делу как таковому все это отношения не имеет, а когда времени в обрез, с этим приходится считаться. Всякого рода сведения, ладно, быть может, в них и присутствует нечто ценное, но если мы собираемся работать вместе, они так или иначе всплывут на поверхность, так что в конечном итоге я все узнаю.
Эй, постой, приятель, насчет работать вместе я тебе ни слова не говорил.
Вот и давай поговорим об этом сейчас, ходить вокруг да около смысла нет, поэтому я тебе скажу сразу: я беру тридцать три и одну третью процента от общей суммы. Когда я говорю тридцать три и одну третью, я их и имею в виду, тридцать три и одну третью, – продавать мебель, чтобы оплатить мои телефонные счета и почтовые марки, тебе не придется, – тебе может показаться, что ставка чересчур высока, но это все, что тебе придется потратить. Я знаю людей, которые выставили бы тебе счет на восемьдесят пять процентов и ты бы еще радовался, что хоть пятнадцать получил. Эти ребята похуже любого адвоката. И еще, если я за это возьмусь, никакие сделки за твоей спиной заключаться не будут. С гарантией. Плюс нечего и говорить, что если ты проигрываешь, проигрываю и я.
Послушай, погоди, я проиграю, блин, как раз в том случае, если выиграю.
Позволю себе не согласиться. Полицейские про тебя уже забыли, они потому и дожидаться не стали. Со всем моим уважением, скажу тебе одно: ты должен привыкнуть к мысли, что мы работаем вместе.
Сэмми идет дальше.
Этим утром ты наделал ошибок, признай. Я не говорю, что добился бы для тебя диагноза, – Логан, конечно, человек опрометчивый, однако не до такой же степени, – но по крайней мере, он понял бы, что ты настроен серьезно. А на данной стадии это абсолютно необходимо, основа основ. Они должны понять, что не на дурака напали. Вот в чем все дело. Между тем, прости меня, но ты позволил ему вытереть о тебя ноги. Ты понимаешь, что он, с этими его приступами паники, норовит тебя в психопаты записать?
…
Ты прости, но он понимал, что ты вот-вот сорвешься. Или возьми тот же рецепт; ты вовсе не обязан покупать лекарство.
Да мне и не на что.
Вот и я о том же, только им об этом не говори, потому что на них это никакого впечатления не произведет; мы свяжем это с дисфункцией как таковой, скажем, что ты не способен выходить из дома, а помощника из патронажной службы, который мог бы бегать по твоим делам, городские власти тебе не предоставили. Что-нибудь в этом роде, не важно, во всяком случае, сейчас – сейчас главное быть последовательными. Затем тебе необходимо обратиться в благотворительное общество и официально зарегистрировать свои нужды. Это опять-таки только последовательно. Ты еще увидишь, что я часто произношу это слово. Тебе известно его значение? Я не хочу быть бесцеремонным, просто им нужно пользоваться с осторожностью. Человеку, потерявшему зрение, необходима палка, так? я о том, что, если ты слеп, это одна из твоих нужд. Затем темные очки, возможно, собака-поводырь. Таковы твои нужды, если ты ничего не видишь; они последовательно проистекают из твоего состояния. Что связано у людей с образом слепого? А? Я тебе скажу: белые палки и собаки-поводыри.
…
Я не хочу быть бесцеремонным.
Только не надо мне, на хер, лекции читать.
Последнее, чем я собираюсь заняться. Я ведь о чем говорю, утратить зрение это совсем не то, что лишиться ног, никто же не может запрыгнуть в твою голову, оглядеться там и после сказать: Все верно, парень ослеп, решено и подписано, спорить не о чем, стопроцентная определенность – ты понимаешь, никто на это не способен. Поэтому для тебя становятся необходимыми самые разные вещи, и последовательность – одна из них, главная.
Ладно, согласен, я тебя понял.
Ну вот, так что, если ты не зарегистрируешь свои нужды официально, они за это ухватятся и заявят, что у тебя их и вовсе нет. И станут использовать это против тебя. Я тебе так скажу, на твоем месте я бы сейчас же отправился в благотворительное общество, первым делом, сегодня же.
Ничего бы ты не отправился.
Уверяю тебя, отправился бы.
Хрена лысого.
Я бы…
Не отправился бы.
…
Ни хера бы не отправился.
Ладно, остаемся каждый при своем мнении. Ну вот… мы на остановке.
Сэмми слышит звон монет. Это стоит семьдесят пенсов…
Алли отдает ему деньги, продолжая балабонить: Теперь я должен задать тебе вопрос. Не сочти за обиду, приходится. Ты действительно ослеп? Я должен спросить об этом, не обижайся.
Действительно, да, следующий вопрос?
Понимаешь, я обязан спросить. Так положено.
Сэмми кивает. Кстати, пожалуй, стоит тебе и это сказать, я отсидел.
Что же, при всем моем уважении, это немаловажно, но пока несущественно. Если они основывают свои надежды на этом, так могут с равным успехом отдать тебе деньги прямо сейчас. Я не хочу сказать, что это не всплывет, разумеется, всплывет, они будут вставлять нам в колеса любые палки, какие найдут. Просто на пробу, но это несерьезно. Я попрошу тебя только об одном – о честности. Бессмысленно будет биться за тебя, если ты не расскажешь мне все по правде. Что ты станешь рассказывать им, мне все равно, лишь бы ты говорил и им, и мне одно и то же. Потому я тебе этот вопрос и задал. Ты будешь честен со мной, и я с тобой буду честен, поэтому, кстати, я рад, что ты в свое время хлебнул баланды. Я и сам ее нахлебался. Я к тому, что мы с тобой все ходы и выходы знаем, и ты, и я, знаем, о чем говорим и как работает система.
Только не надо мне, на хер, лекции читать.
Последнее, чем я собираюсь заняться.
Вот этого и держись.
Не беспокойся.
Сэмми кивает. Ладно, со многим из того, что ты сказал, я согласен.
Еще бы ты не был согласен!
Слушай…
Нет, извини, но лучше ты послушай и пойми меня правильно, видишь, какое дело, если ты со мной не согласен, то нам и разговаривать не о чем, это просто означает, что ты не понимаешь, как ведется эта игра. Ты одного никак не поймешь – я всего-навсего излагаю факты; а если мне захочется сообщить тебе всего-навсего мое личное мнение, я так и скажу.
Как ты узнал, что в пятницу я был в ОМПУП?
Да просто выяснил.
Где выяснил?
В мировом суде; тут ничего сложного нет, туда сходятся все извещения. Такие дела, как твое, вообще приходится быстро ловить – один день упустишь, его уже нет. Люди вроде меня приходят туда каждый вечер: куда же деваться, иначе просто не будешь знать, что происходит. Я, кстати, не только медицинскими делами занимаюсь, другими тоже.
И какими же?
Да всякими.
А поточнее?
Всякими; любыми; не важно.
Ты не ответил на вопрос.
При всем моем уважении, тут и отвечать-то особенно нечего, ну, сам подумай.
Эй, вроде автобус идет!
Ага.
Какой номер?
Э-э, частный, на нем написано «частный».
Частный?
Специальный, школьный; куча малышни внутри.
Сэмми вслушивается в пролетающий мимо рев.
А тебе какой номер нужен?
Когда придет, скажу.
Ты мне все еще не доверяешь!
Ты шутишь, мать-перемать…
А, ладно, дело твое! хорошо, давай говорить прямо, в этой игре тебе остается полагаться только на интуицию; а моя интуиция говорит мне, что мы договорились до того, что можем доверять друг другу. Возможно, я не прав. Но, по-моему, договорились. Насчет тебя не знаю, но я это так ощущаю.
Ощущаешь?
Да, ощущаю, однако если ты мне не доверяешь, я лучше уйду, сию же минуту.
Сэмми улыбается, качает головой.
Прости, что я тебе это говорю, но ты очень озлоблен.
Неужели?
Да, я бы именно так и сказал, страшно озлоблен.
Ну, не думаю…
Кто кого первым ударил?
Я их.
Они пытались тебя задержать?
Нет, ни хера.
И ты просто набросился на них?
Господи, да я и не знал, что они полицейские! Сначала не знал, я думал, они – нет, постой; так все и было; я знал, что это полицейские; но только потому, что знал, как полицейские выглядят. Какой-нибудь простодушный мудак ничего бы и не заметил.
Они себя не назвали?
Да ни хера.
Понятно… Слушай, ты меня извини, конечно, но вот еще что, тебе нужно следить за своими словами; прости, но у тебя что ни слово, то «хер». Если ты меня внимательно слушаешь, то заметил, наверное, что я стараюсь пользоваться общепринятыми оборотами речи.
…
Я-то ничего против не имею, просто это хорошая привычка, упрощает общение с властями. Ты обиделся? Зря.
Я и не обиделся.
Обиделся, а зря.
Не хера меня учить, чего я должен делать, а чего не должен, не хера мне лекции читать. Сэмми вслушивается, повернув голову туда, откуда должен появиться автобус.
При всем моем уважении…
При всем моем уважении, друг, ты разговариваешь, как долбаный легавый… Сэмми сплевывает. Что с тобой такое, ты стукач какой-нибудь гребаный или что?
Что же, согласен.
Согласен!
Согласен, ты вполне мог решить, что я легавый или стукач, тут я согласен.
Сэмми постукивает себя по груди. Меня уже, на хер, тошнит от этого, понял. Чем меня только не донимали самые разные мудаки, еще и ты мне для этого на хер не нужен. В другой раз, может быть, но не сейчас, друг, сейчас я не в настроении и голова у меня ни хера не… не готов я к этому. Сэмми снова сплевывает и отворачивается от него.
Согласен…
В другой раз.
Когда?
Когда захочешь, на хер.
Видишь ли, ты не понимаешь одного присущего поверенным свойства, я просто обязан думать так, как думают все они. Я должен выяснить все мелочи, крохотные детали, слова, которые никому больше не интересны, мелкий шрифт, так сказать. Как, по-твоему, я раздобыл тебе направление! Атак, что знал, какие слова нужно сказать, этакую абракадабру – и ровно через две секунды он уже все подписал. Надо понимать, как они думают и действуют, я о чиновниках говорю, как дышат; как держат вилку и нож, как водят машину; где живут – это, кстати, большая сложность, потому что они терпеть не могут давать кому бы то ни было свои адреса. И все это нужно знать еще до того, как доберешься до правил, установлений и всяческих процедур, протоколов, формальностей; а тут уже необходимо знать, когда следует кланяться, а когда ножкой шаркать, когда говорить, а когда молчать в тряпочку, – понимаешь, когда заткнуть хлебало; когда появляться в галстуке, а когда с расстегнутой верхней пуговицей. Ты должен знать что к чему, Сэмми, суд не то место, где можно разыгрывать шута горохового, там приходится играть по правилам. А правила устанавливают они.
Сэмми потирает подбородок.
Чего они совсем уж не знают, так это тебя и меня. Этого они знать не могут. То есть они думают, что знают нас, ан нет. Тут-то у них и возникает нужда в стукачах и легавых. Я к тому, что для них это большая проблема, им очень трудно в нас разобраться. Потому они нас и терпеть не могут. Им даже в одной с нами комнате находиться противно!
Мне тоже противно находиться в одной с ними гребаной комнате.
Да, но дело в том, что нам от этого никуда не деться, а им – сколько угодно, они-то туда заявляются только ради заработка, а мы по необходимости. У нас нет выбора, а у них есть. Я к чему тебе все это втолковываю, если я говорю что-то такое, что тебе не по душе, постарайся увидеть это с точки зрения картины в целом. Представь себе, что мы с тобой стоим перед судьей и все сказанное нами записывается и используется как наши показания. Я не говорю ничего такого, чего ты не знаешь, исусе, но и ты, войдя в суд, не начинай голосить и орать: долбал я то, долбал я это, и вас, ваша честь, тоже долбал.
Сэмми улыбается.
Ну? Ты понимаешь, о чем я? Видишь ли, я говорю так, потому что все время практикуюсь, готовлюсь к дню, когда придется выступать в суде; и просто не могу избавиться от этой дурацкой привычки. И не хочу, а все равно говорю именно так, понимаешь, не хочу, а говорю. Чем больше я таскаюсь по судам и трибуналам, тем больше у меня появляется общего с ними. Хоть жену мою спроси, она тебе то же самое скажет. Послушал бы ты меня и их, никакой бы разницы не заметил!
Уж как-нибудь, на хер, заметил бы.
Ну может быть, только я говорю о среднем гражданине, Сэмми, а не о Птичьем человеке из Алкатраса,[27] при всем моем уважении.
Автобус идет!
Да.
Какой номер?
Сто двенадцатый.
Не мой.
Нет, так вот, я говорю, есть вещи, которым ты должен уделять внимание, или, по крайней мере, должен я, твой поверенный; вещи, за которыми надо следить, такая у тебя задача. Вот скажи-ка мне, Элен тебе жена? Законная?
Сэмми шмыгает носом.
Ну хотя бы подруга?
Насколько я знаю.
Вы с ней просто поссорились?
…
Ладно, Сэмми, дело твое; с другой стороны, я ведь так или этак все выясню; я хочу сказать, что нам придется узнать друг друга получше, хотим мы этого или нет.
Мимо с шумом пролетает несколько машин, Сэмми делает вид, что они отвлекают его внимание.
Ты слышишь?
Что?
Я говорю, раз я тебя представляю, я волей-неволей обязан знать о твоих делах все. Не важно, можно о них говорить открыто или нельзя, я должен о них знать, иначе как я смогу выполнить мою работу? это же будет невозможно.
Что будет невозможно?
Я не смогу тебя представлять должным образом.
Я и не говорил, что ты будешь меня представлять.
Мне казалось, мы договорились.
Что-то не припоминаю.
Понятно, вот, значит, как.
Ни хрена не так, приятель, ты торопишься с выводами. Я должен подумать.
Что ж, твое право. Я вот что тебе скажу: если мне придется подготавливать твое дело, то подготовка должна быть всесторонней; а это потребует времени. Если ты скажешь мне, давай, действуй, за день до слушания, проку от меня не будет. Плюс другое: ты должен помнить, они узнают о тебе все. И какой мне будет смысл биться за тебя, если я буду знать меньше, чем они?
Всего они не узнают. Сэмми сплевывает на мостовую.
На твоем месте я бы исходил из того, что узнают.
Да, но ты же не на моем месте. Есть все-таки разница между поверенным и тем, на хер, кого он представляет; понимаешь, о чем я, им самим?
Это я понимаю.
Вот и хорошо.
Сколько времени тебе нужно на размышления?
По крайности сутки.
Видишь ли, какая штука, при всем моем уважении, совершенно неважно, сутки это займет или не сутки; тебе все равно придется сказать либо да, либо нет – когда придет время, понимаешь? В конечном итоге. Даже если ты будешь думать неделю, в последний ее день ты все равно должен будешь принять решение. Либо ты на это идешь, либо нет. Я на тебя давить не собираюсь, скажу тебе откровенно, особой нужды браться за твое дело у меня нет. Но время подпирает, а работа предстоит немалая; расследование, много чего. Опять-таки я веду и другие дела. И если честно, некоторые из них посложнее твоего. Мне сейчас надо будет повидать одну женщину, так она бьется об эту стенку уже много лет; в сравнении с ее делом твое – просто пустяк.
Да что ты?
…
Нет, я без всякого сарказма спросил; просто не люблю, когда меня загоняют в угол; а целая куча мудил, похоже, только этим и занимается, понимаешь, и это меня достает.
Я тебя в угол не загоняю, как раз наоборот.
Мне нужно подумать.
Как хочешь.
Тут дело не в тебе, не в тебе лично; если мне понадобится поверенный, я прямо к тебе и обращусь.
Ну ладно, только подумай еще и о том, что для таких дел установлен срок давности; протянешь слишком долго, потеряешь все шансы.
Тебе-то это без разницы.
Я заработаю что-то, только если ты получишь деньги, так что мне совсем не без разницы. Я же говорил тебе, главное – последовательность.
Ах да, последовательность, они меня отмудохают, друг, вот и вся последовательность, отмудохают.
Каким это образом? ты можешь потерпеть неудачу, и не более того. Преследовать тебя не за что; а так повернется дело или этак, им все едино. Деньги-то платить придется не им, а нам.
Да, но есть еще плохая статистика, отчеты; плохая с точки зрения политиков, так что, если они нахалтурят, им придется туго.
Если ты о тех, кто зависит от голосов избирателей, все верно, эти будут драться, как черти, чтобы нас одолеть. Им же приходится доказывать, что они со своим делом справляются. Если у них появляются соответствующие возможности и до них это доходит, то они и используют эти возможности соответствующим образом, такова их работа. Но мы построим дело на некомпетентности и неэффективности, на том, что их действия не отвечают тому, что они обязаны делать. В конечном счете все сводится к деньгам – можешь назвать это неписаным законом, – но вовсе не к тем деньгам, которые идут на компенсацию; эти деньги берутся из собственного бюджета управления. А когда это случается или хотя бы угроза такая возникает, кого-то вышибают с должности; вот этого они и боятся больше всего, что их вышибут. Ты следишь за моей мыслью?
Сэмми вздыхает. Как по-твоему, спрашивает он, дождь будет?
Вообще-то, похоже.
Тучи?
Да.
Я так и думал. Сэмми прочищает горло, еще раз сплевывает. Ты уверен, что мы не у какого-нибудь долбаного фонарного столба стоим?
Алли фыркает. Моя машина сейчас на техосмотре. Иначе бы я тебя подбросил.
Сэмми кивает. Ладно, говорит он, договорились.
…
Хорошо, ты мой поверенный, с этим ясно. Идет? Если ты еще не передумал.
Да, идет. Отлично Сэмми, хорошо, битва начинается – все равно ведь тебе терять нечего!
Ну, я бы так не сказал.
Уверен, что не хочешь все обдумать?
Уверен.
Они пожимают друг другу руки, скрепляя сделку.
На попятный-то не пойдешь, а? Я человек слова, Сэмми, надеюсь, ты тоже. Я только потому спрашиваю, что нам предстоит большая работа. Я против нее ничего не имею; просто не хотелось бы, чтобы ты потратил кучу времени и сил, а в последнюю минуту все отменил. Я хочу сказать, поражения я не боюсь, не как такового, а вот такого исхода – да; он чертовски разочаровывает. Страшно неприятно бывает, когда им удается выиграть дело, это означает, что они с ним управились лучше тебя. И это самое худшее. Так как ты насчет благотворительности?
Мне что, сразу туда идти?
Сразу.
Я предпочел бы завтрашнее утро.
Хорошо. Но уж наверняка, потому что это действительно важно.
Не волнуйся.
В какое время?
Э-э…
Может быть, я смогу пойти с тобой.
Не надо. Нет, честно; я должен сам; пора учиться.
Ладно, хорошо; значит, адрес указан на направлении, это на Сент-Винсент-стрит. Я попросил дать направление туда. Я знаю, ты человек не религиозный, стало быть, ты у них будешь проходить как не имеющий вероисповедания. Это протестантское общество. Идет?
Да, спасибо, ты молодец; если заблужусь, просто спрошу у кого-нибудь дорогу.
Ты у нас боец.
Только не надо мне, на хер, лекции читать. Сэмми улыбается.
Даже пробовать не стал бы.
Ладно. Слушай, тебе необязательно дожидаться со мной этого чертова автобуса, попрошу кого-нибудь, мне помогут.
Да мне не сложно.
Нет, Алли, ты же спешишь, честно, я справлюсь.
Ты уверен?..
Не беспокойся; деньжат ты мне дал, все отлично; я должен тебе семьдесят пенсов; при следующей встрече отдам.
Встретимся в среду, ближе к полудню.
Ладно, договорились.
Просто до этого никак не смогу. Я подъеду прямо к тебе, это лучше, чем встречаться где-то еще, мы сможем как следует все обсудить. Плюс я получу возможность кое-что проработать. Я тебе так скажу: мы продвинемся гораздо дальше, чем ты думаешь!
Отлично.
Да чего там, это моя работа; хотя, знаешь, должен тебя предупредить, не думай, что все будет просто. Когда связываешься с этой публикой, коротких путей не бывает. Занятие это тяжелое, иногда нудное. Ну, что поделаешь, остается только делать все, что в твоих силах. Значит, договорились?
Да.
Так не забудь насчет завтрашнего утра, это самое главное.
Не беспокойся.
Они желают друг другу всего хорошего, обмениваются рукопожатиями. Когда Алли уходит, Сэмми вытаскивает из кармана рецепт и направление, комкает их. Но не выбрасывает; совсем уж было собрался, да передумал и засунул обратно в карман. Может, Алли наблюдает за ним с другой стороны улицы. Оно не так уж и важно, потому как никуда он завтра утром идти не собирается. И прибегать к услугам поверенного у него тоже никакого желания нет. Не намерен он заниматься всякой херней – только тем, что считает нужным. А что ему нужно, так это сохранять хладнокровие. Никакой мудак его из этой заварухи не вытащит; нету таких, кроме него самого. Приближается тяжелая машина, грузовик; Сэмми стоит спиной к нему.
Кто тут кому лекции читал? Сэмми улыбается. Сходил на скок, мотаешь срок. Он сплевывает на тротуар.
Где-то рядом ведется негромкий разговор. Это либо фараоны, либо люди ждут долбаного автобуса.
Ну, значит, так. Такие, на хер, дела. Шоры носить, друг, он не собирается, сценарий ему известен. А чего он собирается? Брякнуться оземь и помереть, в жопу? Самое милое дело.
Ладно.
Надо все серьезно обдумать, охеренно серьезно, ладно, хорошо.
Правильно. Значит, ему предстоит поработать, составить план. К слепоте он уже привык. Первый кошмар позади. Теперь начался второй этап. И чтобы его пройти, необходимо соблюдать осторожность. По местам стоять, орудия к бою. Ладно. В этих делах он кой-чего смыслит. Расслабься. Расслабься. Вот прямо сейчас, на хер, и расслабься, друг, сию же минуту расслабься, идет.
Господи-исусе, опять обслюнявился! вокруг рта все мокро. Как только доберешься до дому, сразу за бритву.
И все же это охренительно злит, друг, крайне раздражающее поведение, понимаешь, о чем я, каждый и все до единого держат его за лоха. Ведь держат же! Фараоны, тупые ублюдки, решили, будто Сэмми что-то известно, а ему ни хера не известно, потому что Чарли не настолько ему доверял, чтобы хоть какую-нибудь херню рассказать. Вот и вся история. Ублюдки долбаные. Ладно-ладно; угомонись. Нет, но охеренно же злит, друг! Сама даже мысль об этом, ты понял? Ну какого же хера.
И если он этого не сделает. Если он этого не сделает, то кончит психушкой. Потому как одно можно сказать наверняка; если эти ублюдки захотят его упрятать, они его упрячут, это точно, двух мнений быть не может. А ему новой ходки не потянуть. Ну никак. Не сможет он, на хер…
Теперь все решает время. Потому он и стал таким дерганым. Время, время! Все решает оно. Все, до последнего. Единственное, чего у него нет. И знаешь, если подумать, они это самое и делают, грабят тебя, обирают. Точно тебе говорю, друг, именно это они, на хер, и делают. Ублюдки. Фараоны и УСО, Здравоохранение и Социальное обеспечение. Обдирают его, как липку.
Подходит автобус; он протягивает перед собой руку. Слишком поздно. Вот именно; долбаное время, опять, мать твою, опоздал. Если ты еще не понял, это судьба, маленькое такое предупрежденьице. Дескать, автобус ушел, и если ты не будешь за ней следить, то же случится и с твоей жизнью, с той херней, что от нее еще осталась, вот так, друг; конец истории. Так что пошевеливайся, пошевеливайся. Ладно, он старательно вслушивается. И в конце концов кое-что засекает. Тут еще ждут какие-то двое, теперь он старается не упускать их из виду. В автобусе он занимает переднее сиденье, для инвалидов; ну и что, все правильно.
Когда он вылезает наружу, уже моросит дождь. Сэмми скрежещет зубами. Вокруг никого. Придется добираться до дому самостоятельно. Ну, это ничего. Так оно и лучше. Все равно ведь надеяться, что хоть какой-то мудак вытащит его из этой заварухи, не приходится. Любой может подложить ему свинью, и далеко не всегда человека следует в этом винить. Никто ж не знает, на чем они ловят других людей. А уж способ поиметь человека они всегда найдут. И не важно, кто ты, если они захотят тебя сделать, они тебя сделают.
Каменная стенка намокла. Конечно, намокла, дождь же идет. Странное, однако же, ощущение – мокрая и шершавая. И пахнет от нее хорошо, свежестью; и еще чем-то, трудно сказать чем.
Какой-то человек стоит прямо на его пути. Ладонь Сэмми шваркает его по одежде. Сэмми извиняется. Никакого ответа. Он идет дальше, стараясь отыскать еще один выход на пешеходную дорожку. Черт, ступни опять жмет. Ну, ничего. По крайней мере, в такую погоду собаки к тебе не полезут. Видел когда-нибудь промокшую до костей собаку? Охрененно трогательное зрелище – голова опущена, плечи обвисли, нос уткнулся в землю. Но трусит себе дальше, трусит; не сдается. Сэмми однажды жил в меблированных комнатах, снимал там конурку, ну и пустил к себе бродячего пса на пару ночей. Вещей у него, у Сэмми то есть, почитай, и не было, ну, может, сумка-другая, и на следующее утро, когда он отправился побродить по улицам, то на всякий пожарный взял пса с собой. Он тогда работу искал, просто на свой страх и риск совался туда-сюда, на разные стройки и спрашивал, нельзя ли поговорить с десятником. В общем, работы он не нашел, но когда вернулся в свою каморку, там на дверном крючке висели шляпа и куртка. Куртка была вся, на хер, засаленная, а шляпа ничего, вполне приличная, темно-синяя, что ли, ну прямо как у Фрэнка Синатры. Охереть можно. Он когда на ночь укладывался, это барахло так и висело за его спиной; жуть – откуда оно взялось? и кому, в жопу, предназначались-то! тебя просто трясло с перепугу, особенно в утренние часы, когда понемногу светает и ты видишь уже не совсем черную пустоту, а начинаешь различать очертания вещей.
Главное дело, вот и с обувкой тоже. Никакой мудак его шузов не тибрил. Просто Сэмми был у кого-то дома. И по ошибке напялил кроссовки. Потому как пьян был. Или какой-нибудь мудила напялил его шузы – по той же самой причине; а Сэмми надел его, потому как не босиком же ходить. Тот же Нога вполне мог это проделать – долбаный идиот, друг, типичный, на хер, – правда, теперь это он разгуливает в новехоньких кожаных шузах, а мистер, мать его, Умненький Сэмми…
Дождь-то расходится.
Тебе надо подумать.
Ничего тебе не надо. Смысла нет. Что ты всю жизнь делал, друг, – вертелся, вертелся и ни хера не задумывался, чем ты занят, ну и довертелся, только и всего. И вообще, Сэмми собирается в Англию. Вот так.
Если напрячь долбаную фантазию и представить, что ему удастся добиться пенсии по болезни, тогда ему не только не придется работать там, где нужны глаза, он еще и получит прибавку к пособию, вроде как компенсацию. Да только никакой гребаной пенсии по дисфункхренациональности тебе не видать, друг, тебе еще повезет, Христос всемогущий, если ты вообще сумеешь пройти дребаную перерегистрацию, а насчет настоящей компенсации так только смеха ради думать и можно. Ни единого шанса. Он сам виноват, что зрение потерял; сам, сам. Это ж очевидно. Если им нужны аргументы, пожалуйста, он их представит. Ни хера Бог надеждой нас не благословил.[28] Алли пытался внушить ему надежду, но ведь никакой же нет. И чего тогда, в жопу, дергаться? Все равно останешься в проигрыше, тебя только поимеют еще раз, и все дела. Просто играй по-честному так долго и так часто, как это нужно тебе. По крайности, передышку получишь. Передышка, вот что получил от него Чарли. Может быть. Кто знает. Но только она и важна. Пусть даже на пару часов. Пара долбаных минут, друг, иногда это и все, что тебе нужно. Успеваешь выскочить в окно и свернуть за угол, а там ищи тебя свищи.
Ладно, кончай дуньдеть, сохраняй спокойствие. Тебе необходимо рассмотреть ситуацию – твою. А это требует времени и усилий; сосредоточенности, внимания к деталям. Вот чем хороша слепота: знаешь, теперь он спит по ночам, как долбаный солдат. Потративший все свои силы на повседневные дела, на поминутное исполнение разных там процедур. На реальную жизнь. Так ведь она-то тебя, на хер, и изматывает, реальная жизнь! Сэмми хмыкает. Вода на ушах; может, затечет вовнутрь, хоть всю серу смоет.
Он знает кое-каких ребят, готовых оказать ему услугу, если, конечно, он захочет ею воспользоваться. Это уж ему решать.
Куда он, черт подери, забрел! ни хрена не понятно. Сэмми останавливается. Нет, серьезно, друг, куда тебя, в фалду, занесло? Он снова хмыкает; какая, блин, разница. Дождь. Это хорошо. Кап-кап-кап. Почему-то малышей вспоминаешь. Маленького Питера, ковыляющего так старательно.
Исусе-христе, ему же хрусты нужны. Х-р-у. Вот тебе и хру, друг, хрю-хрю, на хер. Сэмми смеется – хотя это скорей подвывание, чем смех. Была минута, когда он чуть было не решился воспользоваться помощью Алли. И хорошо, что не решился. Несчастный дрочила. Таких только жалеть и остается. Ну, ничего.
К сожалению, сейчас, вот прямо сейчас, на хер, Сэмми сидит в полной жопе. Забыл, в какую сторону идти. Это его дождь с толку сбил. Он проходит еще немного, но шаги становятся все короче, короче. Потому как все это бессмысленно, все бессмысленно. Он останавливается. Ощупывает стену – стена-то на месте, хоть и не понятно почему, ей полагалось бы кончиться, давно уж. Ладно, не хера по этому поводу песни и пляски устраивать. Все едино проку не будет. Сэмми идет дальше, прикасаясь к стене, пока не добирается до подъезда. Заходит вовнутрь.
Берет. Приснилось это Сэмми или все слепые носят береты? Может, и да, потому как неба же они не видят и понять, тучи там, на хер, собираются или еще чего, все равно не могут; ну и носят, на всякий случай.
Вообще-то, если честно, воровать то да се в магазинах – это у него здорово получалось. Нет, он вовсе не хвастается. Тут весь фокус в психологии. А в психологии он разбирался. Был у него такой тест, сам для себя придумал, зайти в магазин и выйти с украденным беретом.
Итак:
что он намерен сделать и почему получается, что ему никак этой хреновины спланировать не удается? Объясняю – потому что его разозлил долбаный тупой лекаришка. Но при всем при том – хрен ли по этому поводу ерзать? На все есть своя тактика, а на этих, она уж, как говорится, сто лет существует, чего ж тогда ловиться на их приемчики. А, ладно, ну их в фалду, иногда с ними даже интересно бывает. Сэмми это так понимает: каждый раз, как ты с ними связываешься, ты сокращаешь их жизни, подпихиваешь их поближе к сердечному приступу, понимаешь, о чем я, ты их доводишь. Ну и прекрасно. Дождь все усиливается; он выходит из подъезда, и вода тут же начинает лупить его по переносице.
Ну, и чего ему теперь делать? Да ладно, чего теперь делать, он знает.
Что до стишков, тут Сэмми медведь ухо отдавил, никак ему не удается толком запомнить слова. Если честно, мозги у него так себе, мыслителем его навряд ли кто назовет. Нет, правда. Он опять останавливается. Надо было в подъезде остаться.
Ступеньки. Привет, говорит он. Никто ему не отвечает. Наверное, это привидение было, они ж разговаривать не умеют.
Сэмми чего собирался – он собирался добраться до аэропорта Глазго, протыриться зайцем на рейс до городка Лакенбах, штат Техас, там Вилли, Уэйлон,[29] другие ребята. Да, друг, без шуток, на хер, ну ее в жопу, Англию, в Лакенбахе лучше.[30]
А кстати, сейчас-то я где?
Где я, кстати сказать, сейчас. Вот и вся долбаная история его жизни. Стоишь и смотришь, как на голову тебе падает кирпич. Между прочим, чистая правда, в фоб ее мать, только валился на нее, как правило, не кирпич, а булыжник. И не сам собой он валился. Трое хмырей держали Сэмми, пригнув к земле, а четвертый стоял над ним, примеривался. Вроде как в кегли играл. А ты, задрав голову, смотрел на эту долбаную булыгу, зазубристую такую. Ну а потом тебе врезали. По переносице. С того дня ты был уж не тот, что прежде. Но это уже другая песня. В жизни песен много. Похоже, господь у нас любит попеть.
Пивом пахнет. Да ну, мерекается. Даже твой нос, и тот с тобой шутки шутит!
Ни одному мудаку доверять нельзя, кроме.
Единственный кому ты можешь верить
да, и кому же? Все только и знают, что языками чесать. Мир битком набит болтунами. Болтунами, шпиками и долбаными стукачами. Такова жизнь, друг, ни одному мудаку верить нельзя. И нет ни единого ублюдка, которому ты мог бы поведать свою скорбную повесть. Так вот и будешь теперь мотаться по городу, въебываясь в стены, фонарные столбы и мирных жителей, вышедших, в лоб иху мать, прогуляться. Старушка Элен, друг
Сэмми даже и не знал, что есть такая песня. Он знал только одно
ни хера он не знал вообще, и этого тоже.
Собственно говоря, выпадают времена, вот вроде этого, когда позарез нужен кореш. Он завязал с корешами лет этак сто назад, но, может, теперь самое время передумать. Друганы, с которыми надираешься, – это не то. У них языки длинные, так что они тебя запросто сдадут. А эти, вроде Ноги, их ведь тоже близкими друзьями не назовешь – нет, Нога вообще-то в порядке, но, по сути, кто он такой, все тот же собутыльник. В ту пятницу, утром, Сэмми в нем совсем не нуждался, он просто оказал парню услугу, дал ему подзаработать. Мудак-то он неплохой. Рисковый. Плюс внешность у него такая, что сразу привлекает внимание. Глянешь на него разок, и сразу захочется еще приглядеться. Вот тебе и дополнительные десять секунд; а с долбарями из охраны лишней ни одна не бывает. Бедный старичок Нога, он так и не понял, кто его сделал, я насчет того, что когда его фараоны сгребли, на хер, в «Глэнсиз», чего только про него не рассказывали. Ну, ничего не попишешь. Если как следует подумать, Сэмми и не помнит, когда он в последний раз с кем-нибудь корешился; вот, может, с Джо Шарки, когда последний раз был в Лондоне. Одно дело, если бы он опять за старое взялся, тогда можно было бы и гайки подтянуть, залечь где-нибудь на дно и лежать себе тихо; можно было бы двинуть на север или на восток. Собственно, и на долбаный юг тоже, и на запад. Да только вне этих мест он ни одного мудилы не знает. Долбаный дикий запад. Он не знает даже, как называются тамошние города – долбаный Дагенэм или как его. Хаунслоу, друг, Саутолл; у них даже имена у всех на особицу, всякие там – эмы, – лоу и – оллы. В Глазго уже тесновато, вот в чем проблема, городок слишком маленький, если правду сказать. Все на одних нарах парились, друг, ясное дело, уже невпродых.
Если бы удалось выручить пару фунтов за те рубашки. Потому как больше ему толкнуть нечего. Хоть какие-то хрусты ему вот так необходимы, для начала. А за рубашки их выручить можно. Если, конечно, фараоны, ублюдки немытые, их не потырили. Опять же и Тэму теперь лучше за своим носом следить. Фараоны наверняка его уже навестили. Хотя, возможно, Тэм так и так стукач. И Нога тоже. Собственно, все они сраные стукачи. Даже добрый старый Чарли, уж он-то, мать его, стукач очевидный.
Але, э-э, не скажете, далеко отсюда до жилого квартала?
…
Да нет, Чарли не стукачок, это было бы слишком уж глупо. Может, позвонить ему. Скорее всего, его прослушивают, но это не важно. Можно еще послать мальчишку Сэмми с запиской, пусть передаст ее супружнице Чарли. Правда, тогда он будет знать насчет Сэмми – мальчишка то есть будет знать, что Сэмми ослеп. Ну и что? Какого хрена, им все можно говорить, малышне-то, и нужно, все, всю правду.
Он поднял ворот куртки, прикрыл уши. Беда в том…
А, вот и добрый самаритянин. Нет, ни фига он не добрый. Обман воображения.
Опять же, рано или поздно из военного лагеря домохозяев явится тяжело вооруженный отряд, чтобы вытурить его из квартиры. Что ж, если явится, Сэмми возведет баррикаду.
Он подвигается вперед. Ветер вроде знакомый. Шотландский такой ветерок. Шотландские ветра, мать их. Только уши продувают. А тут еще твои несчастные клепаные копыта, друг, ноги твои, так и скользят; да и запястья почему-то ноют и ноют. Это все гребаные браслеты, друг, сучары сраные, кретины; главное, зачем они, на хер, их надевали-то. Сэмми срывается с тротуара, так, тут у нас скрещенье дорог. И при этом тихо, как в могиле. Мимо пролетают, разбрызгивая ногами воду, детишки. Сэмми пережидает минуту; все спокойно. Идет дальше, прижав руки к бокам, как на параде. Парад и есть; только неторопливый. На последних нескольких шагах он совсем замедляет ход, пытается нащупать ногой бордюр; поднимается на тротуар, какой прекрасный запах. Еда какая-то. Похоже на булочную. Все теплое, вкуснятина. Бобы и булки. Хлеб с маслом, а к ним еще чайник с чаем. Стало быть, это не пешеходная дорожка, потому как на ней никаких булочных нет.
Выходит, еще куда-то забрел. Нога вступает во что-то мягкое. Собачье дерьмо. Или человеческое. И, похоже, какой-то подъем начинается, господи-боже, подъем-то откуда взялся. Какого хрена, это что, холм? Хлебаный холм, бляха-муха! Тут еще и рука промахивает по чему-то мягкому, мокрому, вроде листвы. Изгородь.
Сэмми свешивает голову, горбится. Такая ходьба способна испортить осанку. Ссутулить человека. Ему тридцать восемь. А когда он до дому доберется, будет уже сорок один, с половиной. И что произойдет после того, как ты влезешь на этот долбаный холм и спустишься с другой его стороны! В кого ты, на хер, превратился, в гребаного шалтая-болтая.
Вот чего он никогда больше сделать не сможет, пробежаться. Долбаный ад, даже если за ним сразу все мудаки погонятся. Придется от них палкой отбиваться. Вертеть ею над головой, со страшной силой. Чтобы они и близко не подошли. Видишь палку! Больше он без нее из дому не выйдет. Да никогда. Даже если его гребаные фараоны загребут; он им просто-напросто скажет, друг, ни хера не выйдет, без палки не пойду, ни в какую вашу сраную крытку, только с палкой. Палка это его продолжение. То же и лекаришка сказал. Вот вам доказательство, на хер, представлено настоящим врачом, настоящим, стопроцентным гребаным сучьим козлом, из самого что ни на есть высшего общества.
А вот интересно, если предположить, что он не перекинется, чем он будет заниматься ровно через год? Может, все устаканится, все будет под контролем; прочие чувства обострятся до крайности, он начнет выступать по ящику, показывать, как ему все слышно сквозь стены; думай о хорошем, друг. Кто-то прется с ним рядом. Сэмми резко останавливается. Все тихо. Идет дальше. Все-таки рядом кто-то есть. Он опять останавливается, и опять резко. Этот кто-то останавливается тоже. Сэмми шмыгает носом. Он собирается сказать кое-что, но не говорит, потому как здесь же может никакого мудака и не быть. А если и есть, он все равно ни хрена не ответит. Хорошо бы задержать дыхание, прислушаться, но он слишком запыхался из-за подъема. Курить надо бросать, вот что. Провел же два дня без курева, чем не начало. Плохо, правда, что дома табак лежит. Кабы не это, Сэмми точно бы бросил. Ни хера не проблема. А так ничего не поделаешь, вот выберется он из Глазго, так в тот же день и бросит, в тот же миг, как только автобус отойдет от станции на Бьюканан-стрит, тут же и выкинет последнюю цигарку в окошко. Хрен тебе.
Элен никогда в Англии не была. Трудно поверить, чтобы такой взрослый человек ни разу не побывал в Англии, даже на экскурсии. Что делать, друг, такая уж тебе досталась долбаная Элен. Долбаная индивидуалистка, и всегда такой была. Говорила, мне и до Дамфриса черт знает сколько тащиться.
Не паникуй, это без толку.
Нет, серьезно, тут ему не подфартило, надо смываться; и чем быстрее, тем лучше. Дождись темноты. Фараоны передали Чарли предупреждение, да только предназначалось оно не Чарли, Сэмми оно предназначалось. Делай со мной, что хочешь, друг, но это было предложение, от которого он не смог отказаться. Да и вообще, чего ему тут делать-то. Фартить перестало еще до кошмара, случившегося на прошлой неделе. Он просто не хотел в этом признаться. Себе. Чего ж удивительного, что она разозлилась. Исусе-христе, друг, ничего, удивляться тут, на хер, решительно нечему.
Неплохо было б такси поймать, такси бы все упростило. Ты, знаешь что, ты давай избавляйся от этой дерьмовой гребаной херни, от всяких там не-могли-бы-вы-мне-помочь. Сэмми хочет исчезнуть. Исусе-христе, он хочет исчезнуть, действительно хочет. Он как-то читал рассказ об одном малом, так тот взял и исчез. Правда, Сэмми прочитанному не поверил. Так что и хрен с ним.
Нет, если бы он захотел, то мог бы слинять. Кто бы его остановил? Вернулся бы домой, уложил вещички и в путь. Слепой человек направляется в Лондон. Мог бы сойти на Виктории. Каждый раз, слезая с автобуса, там чувствуешь себя просто роскошно. Весь шотландский акцент испаряется. Как только сходишь на землю, все встает по местам, и никто на тебя не пялится. Становишься безликим, неотличимым от прочих. Это ж, на фиг, отлично, друг, точно тебе говорю, стать безликим, в этом-то вся и штука, ты становишься, блин, безликим и ни один дрочила к тебе не вяжется.
Правда, потом придется сделать и следующий шаг. Куда бы ты двинул с Виктории? Ну, сначала дошел бы до подземки. Может, остановился бы – позавтракать, газетку почитать. Будь его воля, он махнул бы на север. На Семь Сестер. Он там раньше жил, ему нравилось. Может, кто-то его еще помнит. А ему этого хочется? Нет. Паддингтон, тоже хорошее место. Можно было б и на Паддингтон пойти. Только там по пути перекресток, друг, долбаная Эджвер-роуд и Прэд-стрит, гиблое место для слепого. Ну его в фалду, Паддингтон-то. Плюс куча мудаков-попрошаек, и каждый норовит тебя выдоить. Если бы ты был похож на Сэмми, друг, ты бы кончил тем, что выставил бы им всем долбаного пива. Дичь. А, и Лондон тоже в фалду. Может, еще куда умотать. В Лакенбах, штат Техас.
Да заткни ты, наконец, свою хлебаную пасть.
Побережье! Какой-нибудь причудливый, старый, сонный английский городок, с длинным широким пляжем, на котором колли шлепают по лужам вместе со своими хозяйками, старухами в клевых коричневых туфлях, длинный променад со скамейками через каждые несколько метров. На нем Сэмми был бы в безопасности. А на песочке в еще большей. В такой, что мог бы даже оставить палку у лестнички с променада, а дальше двигать без нее. Отправляться в долгую прогулку; вдоль прибоя; волны накатывают, сними башмаки, расслабься, носки засунь в карман, штаны закатай и бреди себе по пене, плюх-плюх, чувствуй, как стебли морской травы заплетаются на ступнях вокруг пальцев. Снял бы там комнатушку, все было б путем. Там ведь каждый мудак при деньгах, так что он стал бы достопримечательностью. Они бы для него для одного офис долбаного УСО открыли. Чего нынче изволите, мистер Сэмюэлс? Э-э, тарелка яиц с беконом меня бы устроила, ну, может быть, немного тостов да побольше хлеба и гребаного джема, ты понял, о чем я толкую, недоумок задроченный? И раз уж мы тронули эту тему, как насчет четвероногого друга, гребаной собаки-поводыря.
Знаешь, если как следует подумать, Шотландия ему вообще-то не нравится. Это его родина, ладно, но отсюда ж не следует, что он ее обязан любить. Когда тут дождь идет, так вообще ходишь будто обоссанный, друг, вот в чем все дело. Сэмми здесь никогда не везло. Никогда. А вот там, там, на побережье, на бережку-то…
Смотришь на людей с их колли, на мужчин, на женщин. И первым делом понимаешь, что собака друг человека; ну, когда видишь их вместе, это до тебя сразу доходит.
Опять то же чувство, какой-то хрен тащится с ним бок о бок. А на побережье никто с ним рядом волохаться не будет.
Даже в Маргите. Тот рыбацкий паб, сразу за углом от стройки. Весь в таком рыбацком стиле. Местные к тебе хорошо относились. Плюс жена хозяина, друг, христос всемогущий, та еще была штучка и все говорила тебе, приходи, и ты не знал, верить ли своим глазам, уж больно все, на хер, очевидно было. Та еще штучка. Хотя и опасная. Опасная женщина. Отличный был паб. Если б еще не мальчишка. Муж той бабы, хозяин, съехал, в жопу, на своем мальчишке. И если ты сидел в баре, тебе приходилось любоваться, как этот мелкий мудила боксирует с тенью или там в бильярд играет и все такое, решает свой сраный кроссворд или с игрушками возится, с пришельцами из космоса, в общем, чего бы он ни делал, приходилось смотреть на него и кивать, дескать, большие надежды подает, вот увидите, когда-нибудь станет крупной шишкой, это уж точно, как на бегах. Но, правда, хозяин давал тебе кредит. В английских барах это не редкость. Не то что в гребаном Глазго, друг, тут они сразу из-под стойки секач достают: Чего ты там говорил? Десятку до пятницы?
Это старина Моррис, который в «Глэнсиз» баром командует. Другого такого злющего мудака тебе и не встретить, даже не надейся. Представляешь, нашли кого нанять в забегаловке работать.
Нет, этим стоит заняться, сходить на Бьюканан-стрит, выяснить, что у них там к чему. Сэмми только и нужно, что сесть на автобус да сойти с него. Сесть в Глазго, а сойти на побережье. Скажем, в субботу утром. Утром в субботу, в половине девятого. Погода будет теплая, летняя, даже в середине зимы, и целый месяц ни одного долбаного дождя; разве что ночью, когда будешь сидеть под крышей, с женушкой, уютненько так устроитесь, точно пара ерзаных кроликов. Он сойдет с автобуса, умоется, потом позавтракает, тарелка кукурузных хлопьев, яичница с беконом, кофе. Ну, может, чай, не суть важно. Возьмет чемодан, забросит его в камеру хранения. Потом умоется, потом позавтракает, яичница с беконом, куча тостов и кофе; или чай, не важно, че суетиться-то попусту. И новая пара шузов.
Бурчат.
Сэмми замирает на месте, оборачивается. Будь у него палка, он уже вертел бы ею над головой. Кто бы ты ни был, иди на хер, говорит он, я тебя, в лоб твою мать, предупредил.
…
Он прилагает усилия, чтобы дышать не так судорожно. Ты слышал, что я сказал, иди на хер. И шепчет: Это ты, Алли?
Потом идет дальше. Надо подтянуть гайки. А то ведешь себя как последний псих; надо за этим следить, ухлебывай, друг, тебе нужна крыша, понимаешь, о чем я, тебя всю твою жизнь клаустрофобия давила, и ничего ты с этим поделать не мог. Надо уматывать. Бежать отсюда; добраться до квартиры, уложиться, уложить манатки и ухлебывать, и господи-боже, похоже он даже до следующего чека не дотерпит. Какого хрена, всего-то навсего в пятницу, на той неделе. Никуда не денешься, придется дождаться. И избавься ты от рубашек. Хрен с ней, с бросовой ценой; выкинь их к едрене фене, и все.
Как бы там ни было, он должен сделать все, что в его силах. А если сил не хватит, так это уж не его проблема.
Чертов холм, мать-размать, куда его занесло, он все еще лезет, на хер, в гору. Хочется просто завизжать, да нет, на самом-то деле, завыть ему хочется, вот что; но нельзя, нельзя, ради христа, надо следить за собой. Спасибо, хоть дождь утих, моросит помаленьку и все. Надо было уговорить этого ублюдка, поверенного, чтобы тот его до дому довел. Охеренно смешно получилось, друг, ну, охеренно смешно. Сам виноват, на хрена ты его отпустил; а все потому, что ты лишен инстинкта убийцы. Какие-то вещи так и останутся прежними. Вот и он все еще прежний; все тот же самый; вот в чем проблема-то. Да ни черта подобного! Он теперь совершенно, на хер, другой! Никакой он не тот же самый! Он изменился! Правда же, изменился. И Элен наверняка это видела! Хрена лысого, друг. Ну, ладно, могла бы, на хер, увидеть; все, что от нее требовалось, это капелька веры, капелька долбаной веры в него. Он же был ее мужем; а если она не способна верить в своего мужа, тогда все, на хер. Тот же сосед, старикан, так его и назвал, мужем Элен Макгилвари. А он вообще человек посторонний, в жопу, знаю, что говорю, долбаный посторонний, исусе-христе, и тот это понял. А она не поняла! В этом-то вся и херня, друг, ты понимаешь.
Там, на юге, они могли бы начать с чистого листа. Вдвоем, работу бы себе нашли. Она-то наверняка; старушка Элен, какого хрена, она блестяще управлялась в баре. Может, они смогли бы работать на пару, одной командой, муж и жена. Лицензию бы раздобыли; жили бы себе в квартирке прямо над баром. Единственная проблема, анкету пришлось бы заполнить; насчет питейных заведений с этим строго – рекомендации, там, и прочие хренации. Ладно, рекомендациями разжиться ни хрена не стоит, точно тебе говорю, нет проблем. Вот только Элен. Ты с ней даже разговор об этом завести, на хер, не мог. Не только разжиться долбаными рекомендациями, но и заговорить о том, чтобы ими разжиться, ни хрена не мог. Она же все делала по-своему, такая уж женщина. Думала про себя, будто она вся такая прям практичная, а ведь ни хера; никакая она была не практичная, только считала себя такой.
Грезы, грезы. Когда он попадет на юг, придется рассчитывать только на себя. Такие дела; надо смотреть правде в лицо. Элен ушла. И даже записки не оставила. Даже записки. Вот что ни хера непонятно, даже записки. Хотя откуда он знает, что не оставила? Может, они по всей квартире валяются. Почем знать, может, она там все долбаные стены исписала. А, хрен с ним, друг, раньше или позже, раньше или позже. В самом худом случае, фараоны ее сграбастают и все ей расскажут, и она вернется, просто чтобы все увидеть самой, посмотреть, что он поделывает, как справляется. Конечно, справляется, на хер. Об этом он ей и твердил весь последний гребаный месяц – он справляется; стал другим человеком; всей прошлой херне конец, решено и подписано. И на юге к нему тоже относились бы по-другому, заботливо относились бы, с преднамеренной, обдуманной заботой, с предумышленной, предобдуманной распрозаботой, кончай ты с этими мыслями, с преднамеренными, предумышленными, предобдуманными, этот козел так и тащится рядом, друг, визжать хочется, но он не завизжит, доставить им такое удовольствие, ты шутишь, гребаные грязные ублюдки, я ж знаю, кто вы такие.
Сэмми замедляет шаг, потом останавливается. Что-то изменилось. Дождь почти перестал. Нет, не то. Он ощупью добирается до бордюра. Так это он доверху долез, друг, вот в чем дело. До самого верха холма. И тебя в то же место, бормочет он и отходит на несколько метров влево. Ну все, теперь он на финишной прямой.
И на дороге совсем тихо. Такое ощущение, что вокруг знакомые места. Он снова отыскал бордюр, напряженно прислушался. Ничего. Надо переходить, он соступает с бордюра, надо переходить, перейти на другую сторону, и он так и делает, друг, идет туда, идет сюда, ты же мужик, хорошо идешь, медленно, спокойно, руками не размахиваешь, прижал их к бокам, нормальная такая походочка, нормальная, вот только вокруг ни единого звука, ни хрена вообще; ну, полдень же, детишки в школе; он шагает, пока дорога не начинает немного идти под уклон, тут опять какой-то бордюр, не маленький, однако, так сразу не заскочишь, и вроде как знакомый, ну вот, Сэмми и на тротуаре, он шарит перед собой руками, и те натыкаются на что-то железное, на изгородь. Лужайка для боулинга, вот что это такое, лужайка для боулинга. Он стискивает ладонью один из прутьев, позволяя руке обвиснуть, отдохнуть. Потом просовывает сквозь ограду левую руку, касается листьев, это кусты, совсем мокрые, Сэмми встряхивает ветку, чувствуя, как вода льет на запястье, затекает в рукав. Может, этот, который рядом-то шел, был ангел-хранитель; а теперь, когда Сэмми добрался до лужайки, его отозвали, потому как они ж понимают, что дальше Сэмми и сам разберется, где он есть. Исусе, сейчас бы цигарку, вот было бы здорово! Он ее заслужил, точно тебе говорю, еще как заслужил.
Потому как он знает, где он, не заблудился. Вышел из пункта А, добрался до пункта Б. Сэмми одергивает себя, че расхвастался-то; смерть как хочется двинуться дальше, но потерпи минуту, не торопись. Ладно. Он прикидывает маршрут. Куда идти, он знает. Сосредоточься. Мозги у тебя что-то слишком уж расходились. Держи их в рамочках. Значит, так. Сейчас пройдешь немного назад, потом повернешь налево, а потом
отлично, он знает, что делать.
Чувствует он себя хорошо, окрепшим он себя чувствует. У него появилась идея – разжиться парой чистых кассет. Все равно же он песенки в уме сочиняет. Так можно наговорить их в микрофон, а то и напеть. Почему бы и нет? блин, хоть время скоротает. И как знать. Пошлешь парочку хорошему певцу, они там послушают да и раскрутят их. А уж потом, друг, потом…
На плите греется банка с макаронами. Есть еще с рисом под белым соусом. Так что жить можно.
Сэмми подходит к окну, открывает его и чувствует, как ветер старается вырвать створку из руки. Дождь брызжет в лицо. Иногда удивляешься, сколько в них силы, как будто они живут своей жизнью или еще что. Если дождь не утихнет, никуда он не пойдет, дома останется.
Он ставит кассету. Хорошо бы это была одна из любимых. В общем-то, они все ему нравятся, иначе на хер бы он их держал. Просто по временам берешь одну и оказывается, что слушать ее тебе не так уж и хочется, во всяком случае, не сейчас. Плюс пара из них принадлежит Элен. А иногда ты просто не в настроении. Надо бы придумать для этой хреновины систему – пленки, которые тебе по душе, сложить на одном краю каминной полки, а всякую муть на другом.
Исусе-христе. Невероятно. Охеренно невероятно, друг, нет, правда, невероятно, ты просто
Сэмми, усевшийся было в кресло, вскакивает. И снова садится. Это серьезное, на хер, дело; ей-богу, не дичь, конечно, но серьезное, друг, серьезное, обалденно серьезное дело. Понимаешь, о чем я? Надо посидеть. Надо просто
на хрен. Какой прок
нет, но
христос всемогущий, он снова вскакивает, хор поет, возвращайся домой, постарайся и все такое, поет протяжно и громко, подчеркивая ритм, под удары гитар
Слезы текут по щекам, он их чувствует, на хер, это ж про него, мать-перемать, про него написано, друг. Долбаный ад.
Он уходит в спальню. Это уж слишком, это слишком. Сэмми лежит ничком, зарывшись лицом в подушку. Исусе-христе, до чего же ты, на хер, завелся, до чего ты завелся, долбаный ад, друг, долбаный ад; разревелся даже.
А там жратва подгорает. И пусть ее. Вывалилась на долбаную плиту и горит. Он встает, вздыхает всей грудью, вытирает лицо. И идет на кухню.
Дав макаронам остыть, Сэмми съедает их. Ничего, на вкус горелым не отдают.
Он относит в гостиную чашку чая, садится на ковер, прислонясь спиной к кушетке, скручивает сигарету, ноги протянуты к камину. Хватит с него музыки, и радио тоже. Сквозь постоянный гул в ушах время от времени пробиваются шаги наверху, потом шум за стеной, телевизор, у глухой старухи; когда тихо, в этой долбаной дыре слышно просто-напросто все, с какой радостью он уберется отсюда; правда, ну прямо с охеренной. В ванне так и стоит вода. И хрен с ней. Она там с гребаного субботнего вечера стоит, друг, ну и что, на хер, надо будет побросать в нее одежонку, пускай отмокает, пускай, на хер, стирается; он вообще туда все побросает, друг, потому как вода же чистая, на хер, он ее даже не загрязнил, вот же дерьмо долбаное, полное долбаное
ладно, в жопу.
Он бы и сам в нее бросился. Жизнь, понимаешь, о чем я.
Ну и что с того, друг, и что с того, ни хера все это не важно, все это долбаное дерьмо. Попадаются иногда ублюдки, которые пытаются вкрутить тебе, что все как раз наоборот. Ты сегодняшние новости слышал? Да ни хрена я никаких новостей не слушаю, так что вали отсюда, друг, отвали куда подальше и там вставь сам себе. Он наклоняется, чтобы включить радио. Шотландские народные пляски, твидли-ди-ди да твидли-ду-ду.
Ладно. Оставив в пепельнице сигарету, Сэмми ложится ничком на ковер. Так некоторое время и лежит. Боль в спине все еще не унялась, а так вроде полегче становится. Потом несколько раз отжимается, встает, делает пару упражнений, динамические нагрузки. Методы-выживания-которые-я-освоил. Вам-то что. Ну, делает Сэмми упражнения. В последнее время как-то подзабросил, а раньше делал регулярно. Малый один научил, еще при первой отсидке. Хороший был малый. Ладно, забудь.
Тут ведь что важно – режим. Полный комплекс может отнять ровно четверть часа, не так уж и мало, если делать все правильно и регулярно, ты, бывало, делал его по четыре-пять раз на дню; а то и чаще, если желание было. Когда с ними освоишься, то вдруг замечаешь, что выполняешь эти движения, даже разговаривая с каким-нибудь мудаком, даже и не задумываясь; ты это и в других наблюдал. Помимо прочего, ты начинаешь осознавать свое тело, разные его составные части. Опять же и тонус повышается. После того как сделаешь всю зарядку, – а в нее входят разные упражнения, например, есть одно для лодыжек: нет, просто поднимаешь ногу, хватаешься сзади за лодыжку и тянешь, рука тянет вверх, а нога вниз, пока, значит, она уже ни туда ни сюда, потому как ее и вверх, и вниз тянут с одинаковой силой, с равной, ну и, значит, стоишь более-менее в этой позе, – так вот, после того как сделаешь зарядку, все эти упражнения, после того как закончишь их делать, чувствуешь себя до того охрененно хорошо, везде, во всем организме, как будто в тебе все наладилось, каждая составная часть тела, и ходишь потом, точно кошка, точно гребаный тигр – руки свисают, организм весь гудит, шастаешь взад-вперед по камере и иногда даже забываешь, где ты есть. А если тебе напоминают, ты все равно чувствуешь себя отлично, потому как одолел ты этих ублюдков, одолел их, в жопу.
Какого хрена, пойду-ка я в «Глэнсиз».
Сэмми улыбается. А что, возьму да и пойду.
Совсем уж было надумал, да передумал; а потом передумал обратно. Это ничего, это допустимо, передумывать-то. Ладно: он вот что сделает, попросит Боба, чтобы тот вызвал ему по телефону такси. Отлично. Надо переодеться в выходную одежду. Хороших брюк у него нет, придется идти в джинсах. Хорошие брюки обратились в нехорошие, на хер. Надо бы подать иск, пускай предоставят ему, друг, новую пару, это ж смешно, казена мать, когда они тебя загребают, ублюдки-фараоны, значит, то выдают тебе такие штаны из саржи, понимаешь, так у них заведено, ну вот, вы меня уже раз загребли, так где ж мои долбаные штаны, ваша гребаная-перегребаная паршивая шконка, это ж сплошные блохи и хрен знает что еще, моча и сохлое дерьмо, идите вы в жопу; дайте человеку шанс.
Он спускает воду из ванны и наполняет раковину, намереваясь побриться. Нет, хрен с ним. Рехнулся ты, что ли. Сэмми лучше рубашку наденет и галстук повяжет. Одевшись, он проходит коридором и стукает в дверь Боба.
Когда из этих домов вызывают такси, машина обычно доезжает до угла, от которого начинаются магазины, и останавливается у аптеки. Дальше ей не проехать. Грузовики, подвозящие в магазины товар, разгружаются на задах квартала. По другую сторону подъездной дороги стоят гаражи, это там Сэмми в субботу под вечер нашел мужика, который его проводил. Как только такси приходит, диспетчер набирает номер пассажира и сообщает ему об этом.
Когда он позвонит, я подойду к твоей двери и постучу, говорит Боб, тебе останется только на лифте спуститься.
Ладно, только если никто не ответит, значит, я уже пошел. Понимаешь, Боб, мне же время понадобится, чтобы туда добраться, так что я, пожалуй, прямо сейчас и отправлюсь.
Хочешь, я сведу тебя вниз.
Не, все нормально, не в том дело, просто мне времени требуется немного больше, чем другим, но я управлюсь. Может, попросишь их сказать водителю, если увидит мужика с белой палкой и прочее, пусть покричит.
Не беспокойся. Тебе куда ехать-то?
В бар «Куиннс».
Хорошо.
Сэмми шмыгает носом. Поболтаюсь там немного, а домой, может, уже и с Элен вернусь.
Боб уходит звонить, а Сэмми возвращается в квартиру, собирает манатки, запирает дверь на два оборота. И сразу трогается в путь.
Снаружи дует, но дождя нет. Когда он добирается до аптеки, такси уже ждет. Водитель кричит, подзывая его. Он забирается в машину и, усевшись, говорит водителю, чтобы тот ехал к «Глэнсиз».
Я думал, мы в «Куиннс» поедем.
Нет, в «Глэнсиз».
Еще один путаник попался, бурчит водитель.
Мир переполнен сварливыми козлами. Сэмми откидывается на спинку сиденья, а вот желаю насладиться поездкой, и все тут. Вообще-то никакой необходимости говорить Бобу, что он собирается в «Куиннс», не было, мог бы и правду сказать, ни хрена бы это не изменило. Собственно, так оно было бы даже лучше. А потом наврал бы, что Элен все еще в Дамфрисе. Может, она и вправду в Дамфрисе! Может, туда и уехала. Ведь он так раньше и думал. Просто она там обычно больше двух дней не задерживалась. Он наклоняется вперед: Э-э, водитель, курить здесь можно?
Сожалею.
Сэмми откидывается. Кретин гребаный, еще пуще ты будешь сожалеть, когда чаевых не получишь. И снова наклоняется: Э-э, водитель, вы не могли бы отвезти меня в «Куиннс»?
«Куиннс»? Вы разве не передумали ехать туда, не сказали в «Глэнсиз»?
Да, передумал, а теперь опять передумал.
Бурчит-бурчит-бурчит.
Вот же козел сварливый. Сэмми так и подмывает рассмеяться, но нет, этого он делать не станет, а лучше не даст мудаку чаевых, пусть только тот скажет хоть одно долбаное слово, вот и не увидит никаких чаевых. Сэмми шмыгает носом. Ну да, сначала я передумал, решил ехать в «Глэнсиз», а теперь опять передумал и хочу в «Куиннс», если, конечно, вы не против.
Бурчит-бурчит.
Вы ничего не имеете против?
Ничего.
Ну и отлично. Сэмми снова откидывается на сиденье; идиот долбаный. Жалко, в окно поглядеть нельзя.
Конечно, Элен там не будет, но он хоть сам это проверит. А после отправится в «Глэнсиз».
Ну, значит, так. Лады. Значит, так. Он улыбается. Так, на хер, значит, так, друг. Отважный шаг. Но, как говорится, свои решения ты принимаешь сам. Думай об этом, не думай, а в конце концов наступает последний миг, и ты принимаешь решение. Или ни хрена не принимаешь, это уж как получится. Сэмми решение принял, и всех делов. Какие бы, на хер, тяжкие испытания тебя, друг, ни ожидали, в гробу ты их все видал. Он снова улыбается, покачивает головой. А жизнь-то лучше, чем ты думал. По временам. Сэмми вынимает из кармана очки, напяливает их. Да и сам он вовсе не так уж плох, как думают разные мудаки. Он, может, и не самый, блин, умный во всей Британии, ну так и что, друг, вон на него сколько всего навалилось.
Посмотрим, вдруг она там! Хох!
Его сносит к дверце, покрышки визжат, машина сворачивает за угол. У водилы, похоже, не все дома. Сэмми, может, так долбаных водительских прав и не получил, а и то знает, как машины, на хер, заносит на мокрых мостовых. Мудак, скорее всего, хотел с ним поквитаться. Представляешь себе разговорчик, возвращается он в контору и рассказывает всем, какой ему достался в клиенты наглый слепой раздолбай и как он его на место поставил. Гребаная херня, друг, ну да ладно, пускай потешатся. Сэмми начинает насвистывать, но скоро бросает это дело. А занятно – сидишь в машине и пытаешься по тому, как она идет да куда поворачивает, понять, где ты есть. За долгое время он в первый раз едет в нормальной машине, так-то все больше в воронках приходилось. А может, и в последний.
Вечер понедельника. В пабе небось шаром покати. Исусе, а что, если она там. Что, если вернулась и просто ничего ему не сказала! Да нет, так бы она не сделала. Хотя кто знает? Представляешь, смотрит она на дверь и вдруг входит он! Христос всемогущий. Сэмми потирает ладони. Потом перестает. Кого ты, блин, дурачишь? Совсем спятил! Если б она хотела увидеться с ним, так увиделась бы; долбаный ад, друг, напридумывал хрен знает что.
Да и не будет ее там ни хера. Собственно говоря, ни единого шанса. Это тот самый случай, когда тебя отымели. Сэмми поворачивается к окну, эх, жаль, поглядеть-то в него он не может. Если бы он был зрячим, вот было бы здорово. Если б он мог, когда доберется туда, просто заглянуть в дверь, он, наверное, и к бару-то подходить не стал бы. А просто…
Нет, но старушка-то Элен, а!
Исусе. Сэмми снимает очки, засовывает их в карман, прячет лицо в ладони. Есть вещи, о которых ты и думать не хочешь, потому что это невыносимо, просто, на хер, нельзя, друг, просто нельзя о них думать. Он припадает головой к стеклу, ощущая его влажность, вибрацию.
Такси останавливается.
С минуту Сэмми сидит, гадая, может, это они на светофоре стоят. Надевает очки.
Мы прямо у дверей, говорит водитель, пройдете немного налево, и вы там. Кстати, я стою во втором ряду, так что вам придется между машинами пробираться.
Хорошо, приятель, спасибо. Сэмми выясняет, сколько с него, и добавляет пятьдесят пенсов на чай. Потом отыскивает прогал между машинами, доходит до тротуара, слышит, как отъезжает такси, добирается, постукивая палкой, до стены, поворачивает налево, отыскивает вход. Он останавливается, чтобы скрутить цигарку, закуривает. Если он правильно помнит, тут прямо за дверью маленький вестибюль. Может, очки снять, прикидывает он. Да нет, пусть остаются на нем. Все правильно. Затянувшись еще раз, толкает дверь, входит и направляется к следующей двери.
Привет, произносит мужской голос.
Привет.
Ты куда?
Сэмми переспрашивает: Кто, я?
Ага.
В паб.
Вот как?
…
Не думаю, что тебя там ждут.
Чего?
Да ничего, просто не уверен, что тебя там ждут.
Там сейчас рекламная акция, сообщает еще один голос.
Рекламная акция… Сэмми пожимает плечами. Но войти-то я могу.
Если тебе просто пива охота выпить, иди лучше в другой паб. Давай отваливай.
Мне нужно тут кое с кем повидаться.
С кем?
Что значит «с кем»?
Ну, может, я его знаю.
Это не он.
Может, я ее знаю.
Сомневаюсь, приятель, сомневаюсь.
Слушай, друг, мы же тебе все объяснили.
Сэмми шмыгает.
Вы чего, вышибалы, что ли?
Мы трах-бабах.
А это еще что?
Ты нас понял.
Ну в общем, мне нужно с Элен переговорить.
С какой Элен?
С той, что в баре, за стойкой.
Какой-то шум и движение у наружной двери, входят люди, но только они не встают в очередь за Сэмми, а огибают его и идут дальше, и вышибалы пропускают их, не сказав ни слова. В пабе громко играет музыка.
В баре никакой Элен нет.
Элен Макгилвари.
Извини, приятель, нет тут Элен Макгилвари, никогда о такой не слыхал.
Ты чего, на хер, плетешь?
Эй, угомонись.
Сэмми стискивает палку. Послушайте, мне нужно поговорить с Элен.
Здесь нет Элен.
Ну, тогда с управляющим.
С управляющим?
Да, я хочу видеть долбаного управляющего.
Зачем?
Сэмми вздыхает. Снимает очки, засовывает их в карман.
Послушай, друг, я же тебе говорю, там сплошной молодняк, тебе там не место.
Это «Куиннс»?
Да, «Куиннс».
Сэмми расправляет плечи. Переступает, немного сдвигая назад правую ногу, твердо упираясь ею в пол, левая сгибается в колене; поудобнее перехватывает палку.
Когда она работала в баре? А?
Что?
Когда она работала в баре?
Неделю назад.
Неделю назад; ладно. Мужик шмыгает. Сейчас выясню, говорит он.
Внутренняя дверь распахивается и захлопывается снова. Потом наружная. Входят еще какие-то люди, останавливаются за спиной Сэмми. Он сдвигается поближе к стене, потом чувствует, как люди промахивают мимо, никто ничего не говорит. Снова взрыв музыки. Сэмми роняет сигарету на пол, оставляет ее дымиться. Может, мужик ее не заметил. Вы не пускаете меня, потому что я слепой?
Что?
Потому что я слепой?
Да нет. Потому что там рекламная акция. Для твоего же блага, друг, тебя там затолкают. Там сплошной молодняк.
Сэмми откашливается. Как тебя звать? А? Как тебя звать?
Не заводись, на хер, ладно.
Я просто хочу узнать, как тебя зовут.
Зачем?
Интересно.
Ах, интересно!
Ты из крутых, что ли?
Вышибала что-то бурчит.
А?
Ты на меня не дави.
На кого ты работаешь?
Наружная дверь открывается. Входят двое. Один говорит «привет» и идет дальше. Когда дверь отсекает музыку, Сэмми спрашивает: Если бы я вот так вот «привет» сказал, то и прошел бы, а, так у вас тут устроено?
Не дави, я сказал.
Какое, в жопу, «дави»! Сэмми улыбается. Снова внутренняя дверь, голос второго вышибалы произносит: Извини, приятель, она здесь не работает.
Ее что, уволили?
Не знаю.
А что сказал управляющий, ну то есть какими словами?
Ты же слышал, говорит другой вышибала. Она здесь не работает. И будь здоров.
Что сказал тебе Джон Грэйм?
Ты уже слышал, друг, она здесь не работает.
Я не с тобой говорю, сынок, а с ним.
Джона Грэйма нынче нет.
Так что будь здоров.
Сэмми кивает. Ладно, я твой голос запомню.
Давай, запоминай.
Запомню. Он разворачивается, толкает дверь. Пока та закрывается, Сэмми слышит, как наглый ублюдок бурчит, жопа гребаная. И Сэмми мгновенно возвращается, держит палку обеими руками, отставив назад ногу, чтобы вращающаяся дверь не хлопнула его по спине. Ты тут что-то сказал, приятель? а? может, хочешь это обсудить, а, идиот гребаный? ты что-то сказал? кретин сраный, ублюдок, да я тебе эту палку прямо в твою траханую глотку забью.
Ей, остынь! Остынь! говорит другой вышибала.
И тебе того же хочется, мудачок?
Молчание. Потом музыка грохает снова, значит, открылась внутренняя дверь; может, их тут стало больше, ублюдков; он встряхивает палкой, расслабляя запястья. Негромкие голоса, негромкие голоса, надо уматывать, друг, надо уматывать, на хер, сейчас же, он отступает, толкает дверь и, выйдя на тротуар, берет налево, идет, со страшной скоростью колотя палкой, стараясь держаться стены. Налетает на кого-то, но валит дальше, главное идти, с ним все в порядке, друг, все путем, если не считать чувства, что его в любую минуту могут долбануть сзади, вмазать по спине, стремительный шелест в воздухе, потом удар, он идет, опустив голову, ссутулясь, тут был проулок, он сворачивает туда, проходит еще немного, потом останавливается. Тяжело дышит. Балбес долбаный, друг, вот кто он такой, и всегда таким был, балбесом, долбаным балбесом. Он проходит несколько шагов и останавливается снова. Долбаным балбесом. Сэмми сует палку под левую руку, под локоть; ясное же дело, никто за ним не гонится. Идет дальше. Они просто смеялись, на хер. И неудивительно, ни хрена неудивительно. С ума, блин, сойти. Приближаются какие-то люди, с другой стороны. Девичий голос, взволнованный: Но послушай, говорит она, послушай…
Сэмми ждет, когда они пройдут мимо. Прислушивается к разговору. Вытаскивает очки, надевает их. С этой его вспыльчивостью он таки влипнет в неприятности. Сэмми и не упомнит себя таким. Ну, и правильно, прежде всего нечего было лезть в «Куиннс», охеренная же глупость. Опять-таки сам виноват, сам этих мудаков разозлил. Может, это как-то с лицом его связано. Борода плюс гребаные старые кроссовки. Куда бы ты ни сунулся, друг, одни долбаные неприятности, сплошные раздражители. Ладно, идти надо, не торчать же здесь.
«Глэнсиз».
Он доходит до Аргайл-стрит, поворачивает на восток. Сколько сейчас времени, на хер. Поди узнай. Это все в прошлом.
Негромкие разговоры, выкрики. Понедельник, но там, где он сейчас, все равно людно; центр города. Хоть одно ему на руку, взвизги покрышек у светофоров; до этого времени Сэмми и в голову-то не приходило, как это все устроено; их вроде нарочно для слепых и придумали, если покрышки взвизгивают, значит, можно переходить. Эта херня ему на руку. Есть, правда, и другое, много чего; и все не в его власти. Ну и ладно, но что в его, тем можно пользоваться, а куда денешься. Выбираться-то надо. Такие дела, друг, такие дела. Настало время вертеться, значит, надо вертеться; потому как, если не будешь вертеться, все рухнет, так или иначе, да еще и прямо на тебя. Так что ладно. Надо быть готовым, чтобы, значит, когда придет срок
Но и это неверно, потому что не может же он просто сидеть и ждать, я к тому, что если он будет ждать, на хер, так чего ждать-то, все уже тут, друг, понимаешь, о чем я, если ты ждешь, так жди чего-нибудь стоящего. Никто ж не ждет, когда его обложат со всех сторон. И он этого дожидаться не станет, Христос всемогущий, если ты знаешь, что тебя собираются сцапать, так и удираешь, блин, причем с охеренной скоростью, точно тебе говорю, и правильно делаешь, какого хрена ждать-то, это ж вообще последнее дело. Уматывай, на хер. Потому как ничего опять в норму не придет. Да и нет никакой долбаной нормы, что бы оно, в жопу, ни значило, «норма», дурацкое сраное слово. Что прошло, то прошло, кончено. Не будет больше никаких долбаных страстных объятий, никаких сцен с поцелуями и примирениями; со всем этим ты можешь проститься, все кончилось. И ладно. Теперь, значит, так. Теперь ему нужны башли. Долги надо раздать. А времени, чтобы ждать, у него нет. Есть, правда, одно дельце, его он, может, и провернет; просто нужно с чего-то начать, вот если б он сумел рубашки толкнуть; хоть по бросовой цене, не важно, хоть какие-то деньги, ему любые сгодятся. А как только он их раздобудет. Хотя даже без них.
Он должен разжиться, чем сможет, и поскорее. Прямо сейчас. Иначе его обложат со всех сторон, обложат со всех сторон. Это уж точно, точнее и быть не может: точнее и быть не может, друг, его возьмут в тиски, очень, очень скоро, причем неожиданно, этого ж невозможно предвидеть, вот в чем штука-то, ничего нельзя предвидеть, просто способов нет, с определенностью можно сказать только одно, когда они это сделают, то сделают, как им удобнее, выберут удобное для них время и место, тут уж они сами решают, и только они. Вечно одно и то же, друг, они всегда сами выбирают время и долбаное место; а ты и знать ни хрена не знаешь, пока они за тебя не возьмутся, а тогда уж все, тогда останется только поднять руки вверх. Так что надо линять, друг, и сию же минуту. А для этого башли нужны. Вообще-то у него не одни рубашки; в квартире и другое барахло есть, которое он сам раздобыл и которое принадлежит ему – не Элен, – видак, там, классный магнитофончик, кассеты; это все его. Не ее, друг, его. А, да ну тебя в жопу, ты что, будешь играть в эти игры, это ж мелочь, долбаная мелочь. Ну, правда, если она не вернется. Если она не вернется. Тогда не он, так кто-нибудь другой их толкнет.
Но как мог он сказать, что она не вернется? Это ж немыслимо. Он этого даже представить себе не может, а уж сказать, просто, на хер, взять да и сказать вслух, это уж гребаная
он этого даже представить себе не может.
Сэмми уже у «Глэнсиз». Вот он где. Прошел чуть дальше, завернул в первый попавшийся двор; снял очки, скрутил цигарку.
Отлично. Теперь вперед.
Внутри было тихо, может, из-за этого он немного разнервничался. Не от того, что на него люди глядят. Конечно, о нем уже прослышали. Да люди и так всегда глядят, это не проблема, с этим ты справляешься; вернее, обычно справляешься. Просто иногда, друг, понимаешь, эти мудаки и их взгляды, они же все разные. Это не то что просто мимоходом мазнуть по человеку глазами, бывало, сидишь здесь
ну вот представь, ладно, ты слепой, слепой и сидишь здесь, просто размышляешь о своих делах, спокойный такой, тихо-мирно потягиваешь пивко. Но ведь ты же слепой и ничего не знаешь, а каждый мудак пялится на тебя, прямо на тебя и пялится, как в одном из этих кошмарных ужастиков, в «Сумеречной зоне»[32] или как его там. Только тем это и хорошо, что ты ничего видеть не можешь. Единственная польза от слепоты. Не знаешь, что творится вокруг.
Войдя в «Глэнсиз», он уже без труда отыскал дорогу к бару, а от него и к стулу за столиком у задней стены. Он уже ополовинил первую кружку, когда кто-то подошел к нему: Ну, как делишки, Сэмми? Я видел, как ты вошел, белая палка и прочее. Слыхал про тебя.
…
Это я. Херби.
А, Херби, ну да, как дела?
Да ничего, нормально; я говорю, слыхал…
Да.
Жуткое дело, а?
Да, Сэмми пожимает плечами. Ты, кстати, чего пьешь-то? хочешь еще кружку, большую? или маленькую?
Э-э… большую, да, спасибо.
Херби отходит к бару. Собутыльник. Приносит кружку и, поболтав пару минут, возвращается к своей компании. Если у него есть компания. Сказал, что есть. Не уверен.
Мать-размать, да уж если на то пошло, в чем же их, мудаков, и винить-то.
Минут через десять старина Моррис приносит от бара виски и, пробормотав: «от Алекса», исчезает.
Это, надо полагать, Алекс Дункан. Еще один собутыльник. Интересные штучки, если это Алекс, че ж он сам-то не подошел, вместо того чтобы полстопки прислать.
Ну, скажем, так: ты видишь, как в бар входит малый, про которого говорили, что он ослеп. Ходили такие слухи. Ты-то знал его не слепым, ну то есть он не всегда такой был, не все то время, что ты с ним знаком, раньше он видел не хуже прочих. Опять же, поговаривают, будто у него нелады с фараонами. И, значит, из-за всего, что ты слышал, тебе не очень-то интересно, чтобы тебя увидели в его компании. А с другой стороны, сердить его тебе тоже не с руки, не важно уж, по какой такой причине. Ну хорошо, ладно, ты вроде как знаешь – ему неизвестно, что ты здесь, в пабе; то есть это если он и вправду ослеп – он же тогда ни хрена увидеть не может. Так-то оно так, но ведь ты ж в этом не уверен, а рисковать тебе неохота, вот ты и посылаешь ему выпивку. Просто для верности. И надеешься, что он подумает так: Ага, ладно, Алекс прислал мне выпивку, а сам не подошел, значит, впутался во что-то, иначе подошел бы, так что все у нас путем, все вроде нормально. Да только какое уж там нормально. Понимаешь, о чем я? Потому ты и сидишь, гадаешь, чего это он не подошел, не поздоровался. Правда, может, у него там тоже своя компания или еще чего.
Сэмми отхлебывает виски. Что-то никто в домино не играет, стука не слышно. По пятницам тут, бывает, сразу три игры идут. Есть тут пара ребят, помешанных на этом деле. Сидишь себе, играешь и вдруг слышишь шепоток, оказывается, какой-то дрочила поставил на тебя полета фунтов. Сэмми играл часто, ему это нравилось. Да и вообще ты в этих делах был мастак. Некоторые здорово играют в шахматы. Он, когда первый срок тянул, тоже в шахматы играть насобачился, но с этими ребятами ему и тягаться-то нечего! Совсем другая игра. В крытке часто рассказывали, что настоящий чемпион мира это вовсе не один из тех мудаков, которых по ящику показывают, настоящий в долбаной тюряге сидит. Можешь не сомневаться. В какой тюряге-то? Да в любой, на хер, ты давай, на хер, выбирай, в какой руке.
Вообще-то в домино он, может, и сейчас смог бы сыграть. Там же эти пятнышки на фишках, чем тебе не брайль. Так что попробовать можно. Но только не здесь! тутошние ублюдки как начнут мухлевать, так сразу тебя и сделают, они еще и в очередь выстроятся, чтобы поживиться на твой счет! А, ладно, не треньди; не такая уж они и сволота.
И все-таки лучше играть с другими незрячими. Хотя и с ними как ты проверишь, что происходит? кто что выставляет? Что же, каждый мудак так и будет все фишки ощупывать? Нет, тут понадобятся особые правила. Судья понадобится, чтобы ходы записывал. А как, на хер, он их записывать будет, если тоже ни черта не видит? Это ж хрен знает какая неразбериха получится. Вот шахматы, там да, там совсем другая история. Потому как в шахматах важны только будущие ходы, а те, что уже сделаны, они уже сделаны, все уже на доске, на их счет волноваться нечего, важно, что дальше будет. Прежние ходы и помнить-то не обязательно. Хотя кто его знает, может, и обязательно. Кто-то неподалеку препирается по поводу бокса; неприятно, не так чтобы прямо над ухом, но достаточно близко, чтобы слышать обрывки разговора. Сэмми пытается вслушаться, нет, его только зло берет, так что он это дело бросает. Потом кто-то подходит к нему. Сэмми ждет; снимает руку с кружки, сдвигает ее к краю стола.
Привет. Привет, Сэмми.
Это ты, Тэм?
Ага.
Ну точно; господи, а я-то думаю, кто это тут…
Ты как, в порядке?
Да, Тэм, да, справляюсь. Сам-то как?
Нормально.
Я так и думал, что встречу тебя; надо бы поговорить… Не присядешь?
Тэм, помявшись, садится.
Что пьешь?
Сейчас, принесу… Тэм снова вскакивает. Сэмми слышит, как он отчаливает. Проходит несколько минут, прежде чем Тэм возвращается; теперь он говорит вполголоса: Это что, навсегда? говорит он; глаза и все такое?
Трудно сказать, Тэм.
Совсем ничего не видишь?
Совсем.
Охереть можно.
Слушок-то уже прошел, а?
Да…
Всегда удивлялся, как это получается, хотя, сам понимаешь! Сэмми улыбается. Прям как будто какие-нибудь долбаные почтовые голуби разносят!
Да, знакомо. У доктора-то был?
Повидался нынче утром с мудилой… Сэмми пожимает плечами, проглатывает то, что осталось в стопочке, немного отхлебывает из второй. Твое здоровье, говорит он.
Ага.
Мог бы с таким же успехом и дома остаться; гребаный козел, друг, я с ним поцапался под конец. Ну, просто надо было к нему сходить, УСО и все такое. Иначе я бы ни хрена и с места не сдвинулся; пустая трата времени. У них все схвачено, Тэм, ты же знаешь, как эти дела делаются.
Противно, сил нет.
Вот тут ты охеренно прав. Сэмми лезет в карман за табаком.
Держи. Тэм дает ему сигарету.
Ногу в последнее время не видел?
Нет, последний раз когда с тобой. А что, он тебе нужен?
Да не так чтобы очень. Господи, ты тогда правильно сделал, что отвалил, мы с ним нарезались до соплей; с ума можно сойти. У меня вся суббота из памяти выпала. Хрен его знает, где нас носило. Полная дичь. Ты нас потом не видел, а?
Нет.
Я думал, может, мы здесь приземлились.
Может, и так. Ты у Морриса спроси.
Да… хотя иногда лучше и не выяснять ничего; понимаешь, не будить спящих собак.
Может быть, может быть.
Кругом сплошные напасти. Еще и Элен куда-то, на хер, пропала.
Элен?
Да, ни слуху ни духу. Сгинула, на хер, друг, я ее уже неделю не видел; хрен ее знает, куда она подевалась. Такая моя везуха! Сэмми покачивает головой; отпивает пива. Долбаная дичь, говорит он, вся последняя неделя.
Так ты не думаешь, что это только на время, глаза и все прочее?
Откуда мне, в жопу, знать.
Да…
Они же ни хера не говорят.
Когда тебя выпустили-то?
В среду.
В среду?
А что?
Да нет, просто интересно.
Потом они меня снова забрали; в субботу вечером. Только этим утром и вышел. Сэмми отпивает пива.
Ко мне тоже заглядывали.
Да ну?
В пятницу.
Понятно.
В полпятого утра.
Эка.
Да, жена им открыла. Чуть не обосралась. Сам понимаешь, ни с того ни с сего, без предупреждения.
И что, забрали тебя?
Нет.
…
Нет, они меня не забрали, что нет, то нет. Тэм шмыгает. Ну, правда, и злющие были, знаешь, о чем я?
Сэмми кивает.
Судя по базару, злые-презлые.
Да.
…
Так что все путем?
Да нет, какое уж там путем, ни хрена не путем.
А что случилось-то?
Да так, задавали они мне всякие там вопросы, сам знаешь, Сэмми. Только я им ни хрена не сказал, ничего. В общем, да, нормально.
Сэмми поднимает стопку, опрокидывает ее содержимое в рот, дергает себя за нижнюю губу.
Понимаешь, о чем я?
…
Ладно, проехали. Жаль, что у тебя так получилось с глазами.
Сэмми гасит окурок, начинает свертывать новую сигарету. Спрашивает: В чем дело-то?
Да, в общем, ни в чем.
Ты вроде разволновался.
Нет, ничего.
Из-за меня, что ли? Я что-то не так сказал?
Слушай, давай оставим это.
Какого хрена, Тэм?
Давай оставим.
Если я чего не так сказал, объясни.
Не важно.
Какого хера не важно, ты же чем-то расстроен.
Ну, в общем, малость да.
Так говори.
Тэм вздыхает: ну, ты ж понимаешь.
Ничего я не понимаю. Ничего. Давай выкладывай.
Я насчет того, что я твоего приятеля не видел, так что ни хрена им и сказать-то не мог, все нормально, и давай это оставим.
Сэмми открывает рот, собираясь сказать кое-что, но не говорит, только прикуривает, берет кружку, отхлебывает.
Ты меня понял, я им ни хрена рассказать не мог и не рассказал.
Так тебе и рассказывать было не хера.
Ну да; да, правильно.
Тогда чего ты расстроился?
Сыскари, Сэмми, уж больно они были злые.
Да, я помню, ты это говорил: так эти ублюдки всегда злые, ну и что?
Ты мне этого не говори.
Чего?
…
Сэмми прочищает горло и шепчет: Чего не говорить-то? Я ни хрена и не говорю.
Им нужна информация, Сэмми, понимаешь.
И ладно, и что я, по-твоему, должен сделать, пойти, на хер, и дать им ее? А?
Ты мог бы, на хер, предупредить меня, вот что ты мог сделать.
Предупредить? О чем?
Мать-перемать. Слушай, мне жаль, что у тебя так вышло с глазами, правда, так что давай оставим это, давай, на хер, оставим.
Да что оставим-то?
Фу-ух.
Что?
Плохой разговор, Сэмми, плохой у нас с тобой получается разговор.
Тэм, я вообще не знаю, о чем ты толкуешь.
Ну да, в этом и вся долбаная проблема.
Охеренно верно, и все же.
Слушай, оставь меня в покое.
Сэмми откидывается на спинку стула, потом опять выпрямляется и шепчет: Ты ж ни хрена ни в чем на замешан, друг, так что я не понимаю, чего ты так, в жопу, волнуешься, все это к тебе ни хрена не относится.
Сэмми, ты мне только не рассказывай, что я тут ни при чем; жену вытащили из постели в половине пятого утра, это шутки, по-твоему! иди ты знаешь куда: не замешан, ну и херня!
Так ведь не замешан же.
Тогда чего эти ублюдки ко мне вяжутся? А?
О чем ты?
Фу-ух, иди ты на хер, Сэмми, а то ты не знаешь, о чем я.
Ну ладно, ну я столкнулся в забегаловке с одним малым – после того, как ты ушел; так это мое дело – ты ушел, я столкнулся с одним малым; ну и ладно, мне и отвечать.
А кому же еще? Ногу тоже винить не в чем!
Тэм…
Это твой знакомый, твой, в лоб его мать, приятель.
Ни хрена он мне не приятель.
Мог бы меня и предупредить.
Да о чем?
Господи-исусе, Сэмми, легавые ломятся в мою дверь в полпятого утра! дом, на хер, битком набит, везде наркота. Ты что, не понял, они ж все знали, все, в жопу, вверх дном перевернули. Тебя не забрали? да они и жену могли, на хер, забрать; точно тебе говорю, они могли, на хер… господи-исусе, жена охренела, я охренел, мы все охренели – детишки, они на кухне спали. А эти грязные ублюдки расселись там, жрут шоколадные бисквиты, чай пьют, смеются, как хрен знает кто. И ты мне говоришь, не волнуйся? Ты охеренно прав, я волнуюсь, я весь конец недели проволновался. Мог бы и сказать мне хоть что-нибудь. Чтобы я знал. Что-нибудь. Хоть какую-нибудь херню. Чтобы я знал, к чему дело идет. Вот и все.
…
Я просто, на хер… А, ладно. Проехали.
Ни хрена мы с тобой не проехали. Сэмми наклоняется поближе к Тэму и шепчет: Слушай, ты хочешь узнать про мои дела, да? хочешь узнать? чтобы я предупредил тебя, на хер, Тэм, хочешь, на хер, знать про мои дела? так ты ж их видишь, мать твою, видишь эту херню? вот эту самую, видишь, на хер? смотри, мать твою, смотри, на хер! ну! смотри, на хер!
Сэмми оттягивает вниз кожу под глазами. Как тебе это? А? Как тебе эта херня?
Он держит кожу оттянутой секунд шесть примерно, потом опускает правую руку на стопку с виски, но там ее и оставляет; затягивается. Когда он поднимает руку, та все еще дрожит. Опускает обратно. Оба сидят и молчат. Сэмми слышит, как стул Тэма отодвигается, и говорит: Подожди ты, на хер. Выпей со мной.
Нет.
Давай.
Не хочу.
Ну что за херня, Тэм. Ты позволил им сбить тебя с панталыку. Брось, выпей, потом еще возьмем.
Нет, Сэмми.
Да выпей же, на хер.
Я тут с зятем, мы в зале сидим.
Две минуты.
Нет.
Так ты мне чего хочешь сказать? Что от меня одни неприятности?
Тэм вздыхает.
Все охрененно сложнее, чем ты думаешь.
То есть?
…
А, ладно, это твои дела.
И что это должно значить?
Что это твои дела, больше ничего.
Угу.
И не хера угукать, Сэмми, не хера угукать. Я думал, я знаю, чем ты занимаешься, а выходит, не знаю. Не знаю, думал, что знаю, а не знаю. Гребаным сыскарям известно о тебе больше, чем мне!
…
Ты понял, Сэмми, оставь меня в покое! Слушай, я лучше пойду.
Сэмми пожимает плечами.
Еще увидимся.
Ладно, Тэм, ладно.
С минуту Тэм стоит рядом, потом Сэмми слышит его шаги. Подождав немного, он поднимает кружку, проверяя, много ли в ней осталось пива. Самокрутка погасла, он снова раскуривает ее, упирается локтем в стол, кладет подбородок на ладонь. Ему одно хотелось бы знать.
Да нет, не хотелось бы, все это ни хрена не важно.
Он берется ладонью за край стола, стискивает его. Протягивает другую руку за палкой, да так ее и оставляет, допивая пиво; все-таки, одним глотком больше.
Ну их в жопу; всех.
Смотри на вещи проще, самое время. А теперь домой, домой. Только сначала пописать. Потому как, если сейчас не пописать, через десять минут обоссышься, на хер, это уж наверняка.
Выходит, рубашкам хана. И другим делам тоже. Вот так. Ничего не попишешь. Ну и ладно. Ладно. Одну засранную пешку ты отыграть еще можешь!
Ничего ты не можешь.
Он глотает остатки пива, берет палку, приятно держать ее в руке, приятно; надежная такая, друг, Элен она бы понравилась! Куда, к чертям, подевалась швабра! Да вот твоя чертова швабра, развалилась, когда я ее красил! Сэмми невольно улыбается. Мать-перемать, даже смеяться хочется!
Ладно. Все эти мудаки таращатся на него; вон он, слепой Сэмми, наш храбрец, писать идет.
Ничего, не боись; не боись, на хер; шли бы эти ублюдки.
Туалет внизу, неудобно, ну да ладно; пройдя половину лестницы, он поворачивается и спускается дальше задом, держась рукой за стену. Вечно тут ни одной открытой кабинки нет, они их, на хер, зачем-то запертыми держат, приходится искать настенный писсуар, палкой шарить – все лучше его оросить, чем собственные долбаные руки.
А ты просто ссы и надейся на лучшее.
Ладно.
Когда он вышел из паба, лил дождь. Ну а как же. Все равно пешком, на хер, тащиться придется, друг, он мог бы, конечно, взять такси, но нет уж, ну его в жопу. Каждая монета. Каждая долбаная монета.
Странная мысль вдруг пришла ему в голову ни с того ни с сего – про одного малого, которого он знал раньше. Но и только, ничего больше, просто мысль о малом, которого он знал, – так, безо всякой причины, вспомнился вдруг и ничего больше, просто вспомнился, а больше ни хрена. Занятно. Может быть, мудака пришили, и это его последнее прости.
Все мы туда, на хер, топаем.
Так что слепой ты, не слепой, что тебе еще остается? Да то же, что и любому другому дрочиле, топать куда-то. Вот этим Сэмми прямо сейчас и занимается, куда-то топает, в свой долбаный дом, друг, вот куда он топает, на хер.
Ладно, хоть дождь не хлыщет. Мокро, конечно, но не хлыщет. Пара кожаных перчаток, вот что ему сгодилось бы, из свиной кожи, чтобы не промокали.
Потому как, если ты слепой, тебе приходится много ходить.
Ходить-Tо Сэмми всегда нравилось. Это во-первых. И даже не нравилось, он это дело любил, побродить то есть; по горам по долам, бродил себе, то спускаясь, то поднимаясь, Сэмми, значит. Даже в гребаной крытке, даже если бродить было негде, Сэмми все равно любил это дело, просто ему, на хер, не позволяли! Сэмми хмыкает. Нет, но правда же смешно; вернее, занятно, вот оно как, занятно. Представляешь себе жизнь, в которой можно бродить сколько душе угодно, а деньги значения не имеют. И идешь себе, на хер, куда захочешь, понимаешь, друг, о чем я, просто идешь и все. Представляешь! Нет, не получится. Тут прежде всего нужна приличная долбаная пара чертовых долбаных башмаков, вот что охеренно…
Хотя если ты в необжитых местах или еще где. В Техасе. Там же всегда солнце светит, это во-первых, и разгуливаешь ты все время в рубашке да в джинсах, и все эти грузовики на дорогах, которые тебя куда хочешь подбросят, банки с пивом, шесть штук в упаковке, и широкополые стетсоны, и прочее, всякое такое дерьмо, заваливаешь в кабак, с женщиной своей повидаться, музычку послушать, плюс они там когда танцуют, в Техасе, вальс или что, то идут спиной вперед, не потому, что их бабы ведут, ведут-то все одно мужики, но только они баб не отталкивают, а на себя тянут. Ты знавал парней, которым не терпелось оказаться в Мемфисе или в Нэшвилле, ну просто поболтаться там, где играет музыка, но что касается Сэмми, так ну их на хрен со всеми их народными песнями и плясками в «Великой старой опере»,[33] Сэмми двинул бы в Лакенбах, по стопам изгоев, по стопам долбаных изгоев, понимаешь, о чем я, так бы и сделал, не боись.
И никогда он больше ничего не увидит.
Ну и в жопу; у тебя еще остались твои сраные уши, нос, дерьмовая долбаная палка.
И вообще…
Он остановился, снял очки. Дождь так и лил, по-прежнему
И Тэма тоже в жопу. Всю их ораву в жопу, он наметил курс и сматывается отсюда.
Господи, ну и холодрыга. Хотя, может, все дело в нем, в нем самом. Может, вовсе и не холодно, это только ему так кажется. Что звучит как-то невесело. Совсем хреново звучит, если честно. Старина Джеки; скорее всего, помер уже. Занятно, как люди вбивают себе в башку дурацкие мысли. Жизнь, друг, она полна взаимонепонимания; ни один мудак не понимает, что ты хочешь сказать. И как ему объяснить? А никак. Ну его на хер. Дрожь, господи-боже, как же его колотит-то; долбаная дрожь, друг, долбаная весна, понимаешь, о чем я, да не дрожи ты так, на хер.
Слышишь, что вокруг-то творится. Слышишь. На что это вообще похоже! Все эти шепоты, стоны, гребаные вздохи; да еще дождь, будто в трубу трубит. Помнишь, ты как-то рассказ читал про одного немца, хотя, может, он был и скандинав
Там все дело в жратве было, изголодался он, ну, вконец изголодался. Плюс дома у него ни хрена не было, кроме пачки галет. Вся еда, друг, пачка галет. Даже молока вроде не было; я тогда не стал проверять. Ну да ладно. Теперь уж поздно. Вечно, на хер, одно и то же. Ладно, но ты все-таки шагай, вали вперед, еще две длинные улицы впереди, потом перекресток; две улицы перейдешь, вот тебе и мост. Вообще-то он мог бы просто замахать палкой и двинуться поперек улицы, если хоть малость повезет, сшибет его, на хер, какой-нибудь гребаный грузовик, вот и приедет он домой на «Скорой помощи».
Эй, мистер, не хотите делом заняться?
Сэмми не сбавляет шага.
Эй, мистер, не хотите делом заняться?
Он останавливается. Сколько?
Пятнадцать.
Нет, цыпочка, извини.
Можно и меньше, зависит, чего вы хотите.
Извини, цыпочка. Он идет дальше; не стоило останавливаться и заговаривать с ней не стоило, потому как у него же никаких намерений не было. Вот и не стоило. Это ж нечестно. Правда, может, она бы его на всю ночь приняла. Да нет, не за такие деньги, пятнадцать фунтов, ночь-то еще только начинается. Хотя, вообще-то, ничего же заранее не скажешь. Он все-таки не долбаный дядюшка Дракулы. Может, он ей по душе пришелся. Кто ее знает. Я к тому, что он же не долбаный
ну, кто угодно, не монстр какой-нибудь; просто обычный малый; иногда женщинам такой и нужен, обычный малый, ну то есть если у них есть из кого выбирать, если они на охоту вышли, хотя это редко бывает – выбор-то у них всегда есть, какой-никакой, ну то есть им же все равно приходится брать, кто подвернется, мафусаила какого-нибудь, кого угодно.
Сколько ты выпил-то? А, херня. Считай, ничего. Две пинты да два раза по полстопки. Без малого ничего. На втором перекрестке забегаловка есть. Надо бы на дорожку еще кружечку.
Впрочем, он, пока шел, передумал и прошел мимо, поднялся на мост, а там и последний участок пути – пешеходная дорожка и все, дома. В лифте он наклонился, развязал шнурки на кроссовках. Нужна новая обувь. Значит, придется добыть ее, купить придется. Сапоги. По коридору, в квартиру; с час примерно прослонялся по ней, потом лег. Но сон не шел; может, слишком рано было, и устроиться поудобнее никак не удавалось, звуки какие-то, а потом что-то вдруг обваливается у тебя в голове и ты подскакиваешь, испуганный, на хер, вот и все твои достижения; не сможешь ты отсюда выбраться, ни хрена ты не убежишь, вот в чем проблема, друг, лучше знаешь что – разбежаться и башкой об стенку. Черт с ним: Сэмми сел, выпростал ноги из-под одеяла. Накинул одежду, заварил чашку чая. Возвращаясь в гостиную, вспомнил, что нужно выключить свет в прихожей. Отныне и навсегда свет у него будет гореть только в гостиной.
Музыка. Музыка! Что и говорить, с музыкой будет повеселее. Он часто напевал одну песню Вилли Нельсона, просто чтобы позлить ее: «Женщина с добрым сердцем»; она заводилась еще почище, чем от этого малого, от Джорджа Джонса.
Люди вообще жуть как легко заводятся. Сэмми это часто замечал. Тот же Тэм, он не намного моложе Сэмми; моложе, но не намного. И посмотри на него. Даже не понял, что его нарочно завели. Фараоны; они больше ничего и не стали делать, просто завели его, и все. А Тэм ничего этого не усек. Сэмми-то понимает, в чем тут проблема, он человек тертый. Ровно так они и берут тебя врасплох. Так что не важно, сколько тебе лет, друг, не важно, понимаешь меня, если тебя застают врасплох.
Потому-то Сэмми и собирается отвалить, проложить курс и смыться отсюда, все, нет его, ушел, исчез, на хер, растворился, стал пятнышком на горизонте, и даже не пятнышком, а долбаной…
Пузырьком, был пузырек да лопнул.
Семья, вот в чем горе-то. На ней они Тэма и схомутали. Охеренно очевидно. И с Элен то же самое, с тем, как они ее используют. Они, на хер, за все хватаются, друг, без колебаний. Лишь бы заставить тебя дрожать; дрожать и трястись, дрожать и трястись, в жопу. А тебе надо просто подумать, подумать, на хер, как из всего этого выбраться. Беда только в том, что большинство мудаков думать не умеет. В том числе и Сэмми, если честно, если уж начистоту. Ладно. Он врубает музыку, погромче, погромче. Старуха-соседка все едино глухая, а сосед наверху…
Мать-перемать. Трень-брень. Старушка бандана на голове. В них они и выступают, в банданах. Практичная вообще-то штука. Не только для концерта. Сэмми носил ее на работе, не дает поту заливать глаза и уши; когда-то была у него одна работенка – господи, много лет назад, но он хорошо ее помнит: на Хай-гейт-хилл, там, где живут люди с деньгами, совсем рядом с большим парком; они там в одном частном доме работали, ремонтировали его; в самый разгар лета, и у тебя еще вертелись в голове всякие фантазии насчет богатой молодой жены и рабочего, вообще-то ни хрена она была не молодая, но, правда, фигуристая, друг, что да, то да. Ну ладно. Хотя смешно вышло. У них отбойный молоток накрылся, а надо было уж десять минут как покончить с одной работенкой, ну и мастер, кретин этакий, распорядился, чтобы Сэмми и еще один там взялись за кувалду за кувалду и зубило. И прислал десятника, чтобы тот им показал, как это делается. Здоровенный такой каменюга посреди сада, с места не сдвинешь, так что надо его расколоть. Это все было после того, как он разошелся с женой, значит, годков ему было двадцать пять, двадцать шесть. Ну вот, значит, явился десятник, показывать. Смущенный такой, мудила, и неудивительно. Сэмми ему и говорит: Ты шутишь, на хер? Нет, не шутит. Смущается сильно, но ни хрена не шутит. Работа на двоих, Сэмми и еще один малый, один с кувалдой, другой с зубилом. Десятник хотел, чтобы они сами решили, кто за что возьмется, да хрен ему, с Сэмми и с тем, другим, этот номер у него не прошел, так что пришлось ему самому, самому пришлось выбирать. Кого же мне выбрать, кого же мне выбрать! Что касалось Сэмми, то ему было по херу, кого этот мудак выберет, потому как он уже решил, что делать этого не станет, ну его на хрен, друг, Сэмми просто ждал подходящего момента, чтобы сказать об этом. Да только ждал он слишком долго, потому что десятник успел проделать поганый трюк. Подходит он, значит, к тому малому и ощупывает его запястья, потом к Сэмми, то же самое, жмет большим пальцем на вены, на сухожилия, на косточки, жмет и растирает. Этак по-научному. Потом отступает на шаг, лицо такое серьезное, и говорит Сэмми, что это он будет махать кувалдой, а другой малый зубило держать. Такой у него был долбаный козырь в рукаве, ну и все, считай, он тебя сделал. Другому-то парню выбора не оставалось, приходилось браться за дело. Исусе-христе. Стоит, рожа вся красная. Ублюдок несчастный. Теперь черед был за Сэмми, его черед говорить. А он почему-то не мог. Стоял и чего-то ждал. Кабы ему зубило досталось, тогда ни хрена, он бы просто рассмеялся и ушел. Но ему же выпало кувалду держать. Десятник по-быстрому показал ему, что делать, потом тому, другому, и все, и нет его. Да только ты знал, что он за вами откуда-то подглядывает. Либо он, либо мастер. Хотя, может, и нет, может, они, сучары позорные, засели в конторе прораба и ждали, когда до них донесутся визги да вопли.
Так вот, размял он, значит, руки, пару раз замахнулся кувалдой, для практики, раздробил на земле несколько камушков. Ну а потом приступили, парень тот вытянулся во весь рост на земле, в рукавицах и запястья каким-то тряпьем обмотаны. Он не столько за свои долбаные руки боялся, сколько за долбаный котелок – плюс Сэмми же малость косил на один глаз, хотел он парню сказать, чтобы тот каску надел, да решил не волновать его лишнего. Вспомнил ты тут отважного валлийского шахтера, героя своей деревни, у них там шахту завалило, ну и вытащили его, значит, наружу – голова сплющена и ухо, как цветная капуста. Так или этак, на первых порах Сэмми все мазал, а если и попадал, то не туда, потому что малый этот от зубила руки отдергивал, ну а после дело пошло, и неплохо пошло, во всяком случае, по башке он парню ни разу не вмазал! Правда, и на каменюге ни одной вмятины не оставил, это был какой-то гребаный гранит. Такие вот дела.
А, ладно, не трагедия. Хорошего мало, но не трагедия. Хотя признать все-таки надо, хорошего определенно мало. Фактически хуже некуда. Сколько ты еще протянешь, ну, сколько?
Правда, ты еще способен ответить ударом на удар. Иногда даже против собственной воли. Особенно если вспылишь. Так что ты лучше следи за собой. Штука в том, что ты не всегда с этим справляешься. И хочешь, да не можешь.
Долбаная Англия, друг, вот куда он направится, точно; в какой-нибудь городишко вроде Маргита или Саутси – или в Скарборо, в засранный Борнмут. Христос всемогущий.
И ведь устал же охеренно, а заснуть не можешь. Он возвратился в постель.
И проснулся. Какой-то мудак хлопал крышкой почтовой прорези. Бывало, конечно, что он просыпался с утра пораньше, но это ж смешно, на хер, он вроде всего минут десять, как заснул, и сколько, кстати, времени-то, мать его, вот же ублюдки долбаные, Сэмми нащупал приемник, включил. Какой-то духовой оркестр наяривает. Значит, час совсем еще ранний, такой, когда по всей стране передают эту музыку, чтобы всякие мудаки шеметом выскакивали из кроватей, солдатскую музыку. Ладно. Вот опять, почтовая прорезь, друг, она самая. Ну не дают они тебе покоя, не дают, если бы только дали покой, так ни хрена, друг, никогда никакого гребаного покоя, одни заботы заботы заботы, всю долбаную жизнь сплошные заботы, друг. Они ж знают, что он здесь, щас начнут долбаную дверь выламывать. Он надел джинсы, носки, кроссовки, схватил табак, бумагу и зажигалку; деньги, нет, хрен с ними. Вот только третьего раза тебе не выдержать, третьего не выдержать, слишком поздно, исусе-христе, охрененно поздно, друг, для этих игр, для сраной борьбы, а придется бороться, на хер, биться с ублюдками, чтоб они сдохли, гребаная палка, где она, в жопу, друг, гребаная.
В прихожей, ну да. Где угодно. Вот она. Сэмми улыбается, покачивает головой, потом, выпуская воздух из легких, слышит хрип и сипение, кашляет; легкие, как всегда по утрам, забиты дерьмом; мокрота во рту, он ее сглатывает, так, хорошо. Сэмми подходит к двери. Вздыхает, набирает в грудь побольше воздуху и кричит: Кто там?
Это я!
Что?
Это я! Алли.
Исусе-христе, долбаный поверенный: тараторит чего-то сквозь почтовую щель, какой-то вздор, Сэмми ничего разобрать не может и прерывает его. Какого хрена тебе нужно? спрашивает он.
Нет, ты извини за беспокойство, но мне необходимо проверить пару моментов, а весь остальной день я буду занят. Это ненадолго, просто очень важно, всего минуту и займет.
Исусе-христе, друг, я решил, что гребаные фараоны приперлись! в такое время, на хер! ты охренел!
Да, извини, действительно, рано.
Так в чем дело?
Понимаешь, я всю ночь проработал. Над другим делом. Однако твое все время вмешивалось в ход моих мыслей. Есть моменты, которые мне необходимо уточнить. Можно я войду?
Мать… Поколебавшись с минуту, Сэмми открывает. Черт, а откуда у тебя мой адрес?
А, ну, это несложно.
Сэмми, немного подумав, запирает за ним дверь. Алли тут же принимается тарахтеть: Странная штука мозг, мой, например, движется по касательной, во всех направлениях сразу. Даже когда я прихожу к чиновникам по одному делу, голова продолжает работать над другими. Помнишь, я тебе про одну женщину рассказывал, я сегодня после полудня буду возиться с ее заявлением, и все равно какая-то часть меня занимается другими людьми, в том числе и тобой. И это не так глупо, как звучит, потому что дело ее самое что ни на есть логичное, так что, хочешь верь, хочешь не верь, голова может над ним особенно и не трудиться. Моя, по крайней мере, не трудится. Видишь ли, в ее случае право на апелляцию отсутствует, так что приходится отыскивать изъяны в их мотивировках, формальные, то, что можно назвать концептуальными злоупотреблениями, чтобы потом огорошить их, потребовав отсрочки слушания. Тут необходима концентрация внимания, но это концентрация такого рода, что она сама себя поддерживает. Да, и еще тебе надо кое-что подписать.
Что ты сказал?
Ты должен кое-что подписать, если ты не против.
Что?
Да это формальность. Слушай, чашка чая у тебя найдется?
Сэмми прислоняет палку к стене у двери, ведет его в кухню, ставит чайник. Молока нет.
А лимон?
Ты шутишь, что ли?
Нет, чай с лимоном хорошо утоляет жажду.
Сколько сейчас времени?
Двадцать минут шестого.
Охренеть можно.
Я полагал, ты ранняя птичка.
Какая, на хер, ранняя. Садись на табурет, и буду очень признателен, если ты ничего трогать не станешь.
Чего, например?
Я знаю, чего… Подождав с минуту, Сэмми уходит в ванную.
Когда он возвращается, Алли говорит: Я беседовал о тебе с женой, и в нашем разговоре всплыло несколько моментов.
Ты обсуждал мои дела с женой?
Ну да, понимаешь, я обнаружил – не знаю, как ты, – несколько раз уже так было, всегда хорошо поговорить с другим человеком; позволяет привести мысли в должный порядок. И потом, если ты имеешь дело, ну, скажем, с отношениями между людьми, так две головы всегда лучше одной, это же ясно.
Вода начинает закипать. Сэмми нащупывает, чайник, берет его за ручку.
Алли говорит: Я ополоснул пару чашек и сунул в них пакетики с чаем. Или ты хотел кофе?
Сказано же тебе было, не трогай ничего.
Я не думал, что ты об этом. Ну так вот: мне кажется важным, чтобы ты рассказал мне о своей подруге, ну, и насчет субботы тоже, ты, помнится, говорил, что она выпала из памяти. Теоретически оно может показаться и несущественным, однако это не так. Помнишь, как ты передумал насчет времени наступления слепоты, которое назвал там, в УСО. Тут нам опять-таки необходима последовательность. Очевидно же, что, чем больше я знаю, тем лучше – потому что они-то будут знать все, а как я уже говорил, если они знают больше моего, дело становится безнадежным, – и кстати, я мог бы также включить что-то из этого в мое изложение дела, ну, всякие вещи, которые ты, вероятно, считаешь несущественными. Они попытаются меня остановить на том основании, что к медицинским вопросам это отношения не имеет, вот что они заявят, однако так или иначе я сумею включить все это в материалы по делу. Это нам поможет. Я говорю не о ссылках на характерные особенности личности, не о как таковых, хотя отчасти примерно об этом. Да, и еще, когда ты собираешься пойти в благотворительное общество?
Не раньше второй половины дня.
Знаешь, Сэмми, иногда лучше начинать тормошить их прямо с утра. Если хочешь, я мог бы тебя проводить.
Нет, Алли, спасибо; мне нужно кое-что сделать – спасибо за предложение, но… Это личное дело… Сэмми шмыгает, притрагивается к чайнику; вот-вот закипит. Помолчав немного, Алли произносит: Я говорил тебе, что в пятницу мы потребуем отсрочки?
Э-э… Вода уже кипит; Сэмми нащупывает чашки: Ты не нальешь?
Давай. Сэмми отступает на шаг, свертывает сигарету. Отсрочка, говорит он. То есть подать апелляцию мы не сможем?
Апелляцию? Да нет, сможем, но до этой стадии мы пока не добрались, это потом. Тут все не так, как в деле той женщины, если ты это имеешь в виду.
Ладно, хорошо, будь по-твоему; ты у нас главный.
Не в том суть, Сэмми, просто, как я это понимаю, получение отсрочки – наилучший способ, который позволит нам продвинуться вперед.
Так это обычная формальность?
Не совсем, необходимо представить достаточные основания. Но провернуть это дело нам придется. Ты когда-нибудь раньше требовал компенсации или пенсии по утрате работоспособности?
Э-э, нет, сам нет, но я знаю одного мужика, который пытался это проделать.
И что у него получилось?
Не знаю.
Он тоже зрение потерял?
Нет.
Понимаешь, я к тому, что, если имеет место утрата того, что мы можем назвать объективной функцией, ну, скажем, конечности и так далее, тогда все в порядке, а вот зрение или еще что; слух, скажем, это то же самое, осязание. Есть такая группа людей, которая борется за то, чтобы сенсорные функции были выделены в отдельную категорию; они даже особое общество создали – много лет назад. Если хочешь, можешь с ними связаться. Они проталкивают эту идею через парламент, ну и так далее; у них есть свои члены парламента, люди в местных советах и прочее в этом роде. По-моему, я как-то подписывал одну их петицию.
Эй, что ты делаешь!
Внезапный дребезг чашек, тарелок и прочей посуды. Потом открывается кран. Алли говорит: Да вот, решил, пока мы разговариваем, наполнить раковину и вымыть пару тарелок.
Не надо.
Просто, пока разговариваем. Их тут многовато скопилось.
Нет.
Ты уверен?
Не надо мыть мои тарелки, Алли, хорошо? Я их, на хер, и сам вымыть могу.
Ну, как скажешь. Просто, понимаешь, я обнаружил, что мне так лучше думается – если я делаю что-то руками, физическая активность, понимаешь, тем более что времени у нас осталось не много: они согласятся на отсрочку, только если я покажу им, что у нас с очень большой долей вероятности могут появиться новые данные.
То есть?
Ну, мало ли, поэтому будет лучше, если мы этим и займемся как можно скорее. И кстати, пока мы об этом не забыли, насчет твоей подписи… Как я уже говорил, это формальность, но немаловажная. Здесь просто сказано, что ты готов идти до конца, несмотря на расходы. Идет? Алли шмыгает носом.
…
Ты понял, что я сказал?
Нет.
Знаешь, я много раз видел, как люди оказываются за бортом, я имею в виду родных и близких – жен, детей. У тебя, к примеру, есть мальчик.
Ему пятнадцать.
Да, конечно, но ведь все равно – мальчик. Я с тобой откровенен, потому что знаю, что ты за человек.
Ты мне только лекций не читай, Алли, о чем ты вообще говоришь?
Я же сказал, это формальность; ты просто подписываешь официальный бланк; на всякий случай, а говоря прямо, на случай, если твой иск удовлетворят уже посмертно. И опять-таки, говоря прямо, многие такой бумаги подписывать не хотят, а потом им же это боком и выходит, и не только им, их семьям тоже. Потому что ты должен сам об этом заявить, как клиент, понимаешь, должен заявить, что готов идти до конца, несмотря на расходы. Я ведь вот о чем говорю, разве хорошо будет, если твои родные и близкие придут потом и скажут, что хотят получить причитающуюся тебе компенсацию, и ничего у них не выйдет. Тут только ты сам можешь распорядиться. Понимаешь? Плюс ты же боец, позволь уж мне это сказать, ты же не хочешь, чтобы они сорвались у нас с крючка, власти-то, не как таковые, стало быть, хочешь идти до конца. Я тебя правильно понимаю?
…
В УСО тебе этого не говорили?
Чего не говорили?
Нет, конечно. Понимаешь, согласно правилам, они в этих случаях могут действовать по собственному усмотрению. В случаях, когда существует риск ранить твои чувства, так они это называют. Примерно как доктора, те ведь тоже тебе не все про тебя рассказывают, оправдываясь тем, что это может ранить твои чувства. То же самое и юристы. Так вот, насчет УСО, они там имеют право держать клиента в неведении, если им кажется, что это отвечает его интересам, в смысле здоровья; неведение благо, так они выражаются; если они скажут клиенту правду, он может разволноваться – или она, зависит от конкретного случая, – а это ведет к приступам страха, к психической неуравновешенности, что нехорошо для общества в целом. Я говорю сейчас о людях, которым нужны голоса избирателей. Вдруг они получат плохую прессу. Я имею в виду уважаемые газеты, не знаю, читаешь ты их, вот кто их беспокоит.
Алли, о чем ты, в жопу, вообще говоришь?
О соблюдении твоих интересов применительно к твоему мальчику, к бывшей жене, даже к твоей подруге; решение зависит только от тебя; насчет того, кому ты хотел бы оставить то, что тебе причитается в случае, если одна из твоих претензий или даже обе будут урегулированы посмертно. Они тебе об этом не сказали, так что неведение совсем не благо, оно попросту лишает тебя денег. Я не знаю, как ты, Сэмми, но я бы даже пенни не позволил им прикарманить. Многие говорят, да пошли они на хер – прости за выражение, это цитата, – дайте мне помереть спокойно, не путайтесь под ногами. А я говорю вот что: Нет! добейтесь своего, не умирайте просто так, давите на них до последнего, проявите упорство, выпотрошите их карманы. Потому что это не их карманы, Сэмми, а наши, так что мы всего лишь получаем те, что нам причитается, чтобы нам было что оставить родным и близким.
Охереть можно.
Я с тобой говорю откровенно.
Сэмми покачивает головой. Он поднимает чашку к губам, отхлебывает чаю.
Это просто-напросто дело, которому следует уделить внимание. Ну, все равно что завещание составить. Конечно, я понимаю, это нелегко.
Ах, мать твою.
У тебя что, живот схватило?
Ага.
Не грыжа случайно?
Нет.
А я вот нажил, открытую – питаюсь нерегулярно, да еще вся эта беготня; плюс проблема личного отношения к делам, предполагается, что ты должен от них дистанцироваться, это тебе любой поверенный скажет. Но иногда не получается, вот в чем беда. Возьми ту же женщину, о которой я говорил; я ее делом уже семь лет занимаюсь. Посмертно. Хотя, когда я только начал, она была жива-здорова. И все ее родственники поумирали один за другим, только один и остался, живет где-то в Бангладеш, в крохотной деревушке, этакий обломок былых времен. Так что даже если я говорю, что ее случай не занимает мой ум целиком, это не значит, что я им не увлечен. Я увлечен эмоционально. Просто я стараюсь держаться деловой стороны, не выходить за пределы логики. Вот будем в пятницу в полицейском управлении, посмотришь, как я работаю. Я не хвастаюсь, Сэмми, при всем моем уважении, я не из числа хвастунов. Ты увидишь меня в деле и подумаешь: Ну и бесчувственный же ублюдок достался мне в поверенные! Так ты подумаешь и будешь в своем праве. Просто я не могу позволить поставить меня в невыгодное положение. Потому что если я оказываюсь в невыгодном положении, то и ты тоже. А для тебя это еще хуже, потому что я же не ты, я всего только твой поверенный. Ты мне сам вчера так сказал и был совершенно прав. Да, мне еще одна твоя подпись нужна, подтверждающая, что я твой поверенный, и доводящая до сведения всех, кого это касается, что мне причитается тридцать три и одна треть процента от полной суммы единовременного вознаграждения, которое может быть получено, во-первых, в качестве компенсации и, во-вторых, как пособие по утрате трудоспособности. Если хочешь, могу прочитать тебе бумагу целиком.
Э-э, да… Сэмми кивает, почесывая щетину на шее, сбоку; десять дней уже, больше похоже на бороду, чем на щетину.
Он так и не усек, о чем толкует Алли. Если честно сказать. Не может он об этом думать. Тебе хотелось бы надеяться, что из этого может чего-то выйти, но ведь не может же. Ты просто приводишь в порядок свои дела. И правильно делаешь. Можешь даже улыбаться по такому случаю. Хыыыхыыньг.
Возражений у тебя нет?..
Э-э, нет.
Хорошо. Понимаешь, иногда возишься с кем-то, а он испускает дух еще до того, как все улаживается, и после приходят его родные и близкие и говорят, да мы и не знаем, кто это такой. И это о человеке, который из кожи лез, чтобы их претензию удовлетворили! Это нечестно и, само по себе, несправедливо, при всем моем уважении. Я уже говорил, можно годами заниматься каким-то делом, оплачивая все расходы; это ж не шутка – я не говорю, что расходов много, дело в принципе, а где принципы, там и деньги, так или иначе, ты следишь за моей мыслью?
Да, приятель, слежу, я тебя понял.
Ну и хорошо, Сэмми, я так и надеялся, что ты поймешь. Я рад, что тебе пришлось хлебнуть баланды, это здорово расширяет кругозор, я по себе знаю. Сам я не жалею, что отсидел, совсем не жалею; если честно, я этому даже рад.
Сходил на скок, мотаешь срок.
Алли хмыкает. Вообще-то я там оказался по ложному обвинению. Я был невиновен.
Ну да, так оно и бывает. Еще чаю не хочешь?
Нет, мне уже скоро идти. Понимаешь, я потратил столько времени, изучая собственное дело, что поневоле набрался сведений о делах вообще.
Это случается.
Да уж. Только знаешь, что произошло в моем случае – пока на воле группа моих родственников вела кампанию в мою защиту, я сидел в тюрьме и сводил на нет все их труды. Господи-исусе, видел бы ты письмо, которое я разослал по всем важным газетам – ну, вроде как пресс-релиз. Дорогой сэр, пишу я, или мадам, это редактору, и дальше: если хотите знать мое мнение, власти совершают серьезную ошибку, подвергая преследованиям всех этих ни в чем не повинных людей. При всем моем уважении, пишу, это лишь помогает им ознакомиться с протоколами и надлежащими правовыми процедурами государства, что не может пойти на пользу обществу в целом, пишу, ну и дальше все ду-ду-ду-ду. Саркастический сукин сын, вот кто я тогда был. Но в то же время думал и о том, как завоевать побольше сторонников, что, в общем, не так уж и наивно. Но я был слишком многословен, слишком многословен, обычная история; умника изображал – выпендривался, понимаешь, Сэмми?
Да.
В молодости это бывает. Причем я же знал достаточно, чтобы понимать – ничего они, скорее всего, не напечатают. Некоторые из ребят, сидевших со мной, просто с ума сходили из-за того, что их письма заканчивали свой путь в бумагорезке, думали, раз они ни в чем не виноваты, так этого и достаточно. Вот, держи… Алли берет Сэмми за руку, вкладывает ему в пальцы ручку и подводит руку к месту, в котором нужно расписаться. Ты просто распишись вот здесь и потом здесь. Ладно? Ты понимаешь, что подписываешь?
Не беспокойся, Алли, не беспокойся.
Ну вот, и знаешь, что они сделали, просто чтобы показать мне, кто тут у нас главный, одна из важных газет взяла да и напечатала мое письмо. Но только, понимаешь, я в нем ошибку сделал, неправильно написал слово «протоколами», я его через «а» написал вместо «о», и получился не «протокол», а «протекал». Так они, сволочи, еще и поставили рядом махонькое такое SIC.[34] Вот так. Проще простого! Ха! Алли фыркает. На воле за такие уроки, бывает, платишь очень дорого. Тебе, кстати, известно, что это значит, SIC? S-I-C, а? Известно.
Вот так вот они со мной, черт их дери, и поступили. И ведь главное, знал же я, как это дурацкое слово пишется, «протокол», вот ведь что хуже всего, это была просто глупая описка, ну, вроде опечатки. Но и ее хватило. И знаешь, прошло немало времени, прежде чем я оправился от этого удара, такие вещи подрывают уверенность в себе; плюс еще мой тогдашний возраст. Да и мою группу поддержки это здорово подкосило.
Ужас. Сэмми спрашивает: А кстати, подпись свидетеля тут не требуется?
Ну, вообще-то, требуется, но если знаешь, как себя вести, в суде обычно и так проходит. Они в таких делах завещаний не любят… Алли собирает бумаги. Сам-то я обычно стараюсь все засвидетельствовать, меньше потом препираться приходится, особенно если вдруг вводятся новые законы. А так оно и бывает; только решишь, что все у тебя в ажуре, они хлоп тебя по башке новыми нормативами и регламентами.
Сэмми свертывает сигарету. Ты уверен, что не хочешь еще чашку?
Нет, спасибо. Еще пара вопросов, и я пошел. Понимаешь, я нынче утром проснулся черт знает в какую рань, даже птички еще не чирикали, даром что уже весна. Меня беспокоила одна высказанная женой мысль. Я, как только открыл глаза, сразу начал думать о ней и в конце концов решил, да, жена права, даже если к сути дела оно не относится, я все-таки должен все выяснить. В любом случае оставлять это без внимания мне не следует. Может, мы этим и не воспользуемся, может, и они не воспользуются, однако при всем при том рисковать я не могу. Так вот, я мало что знаю о состоянии пьяного человека, тем более сам-то не пью. Да и жена у меня женщина, как говорится, провинциальная, так что у нее по этой части никакого опыта нет, хотя она родом из небольшого поселка, а тамошние, что называется, селяне варят домашнее пиво, забористая, должен тебе сказать, штука, так что совершенно несведущей ее не назовешь.
Ну и?
Ну и вот, я к тому, что если мы с ней ссоримся, так об этом весь этаж знает. Она женщина шумная. Крикливая.
Элен, моя подружка, не такая, она просто замолкает.
Ты хочешь сказать, она немногословна?
Вот именно.
Угум.
Такие встречаются.
Ну, у меня не такой уж большой опыт по части женщин, так что мне придется с тобой согласиться.
Сэмми вытирает уголки рта, щетина там почему-то вся мокрая. Он попыхивает, чтобы раскочегарить цигарку.
Видишь ли, я просто споткнулся о ваш скандал, да еще и крупный, а из документов следует, что ты ссылаешься на полное отсутствие воспоминаний насчет субботы.
Верно.
Субботы в целом?
Более или менее. Вообще-то пара просветов была; время от времени я приходил в себя, вроде как просыпался. А потом отключался опять. Пока не проснулся окончательно, в воскресенье утром.
Да, это я читал. Ты никогда не страдал эпилепсией или чем-нибудь в этом роде?
Нет.
Никогда?
Ты что, не веришь мне?
Брось, Сэмми, дело не в вере!
Ну, ладно, правильно, ты же не пьешь.
А УСО и полицейские твое объяснение приняли?
Так я им и не давал никаких объяснений, их больше интересовала пятница.
Ты алкоголик?
Выпиваю.
Ну да, но ты не алкоголик?
Нет, не думаю.
Понимаешь, они наверняка попытаются доказать, что это и есть главный фактор, приведший к утрате зрения, я хочу сказать, раз он воздействует на мозг, то, очевидно, может подействовать и на глаза, поскольку глаза управляются мозгом. А диабетические проблемы у тебя когда-нибудь были?
Нет.
Видишь ли, если все эти медицинские вопросы приходят в голову мне, значит, придут и им, да еще и возведенные в триллионную степень. В их распоряжении самые лучшие юридические и медицинские эксперты страны, самые мощные мозги в этой сфере, все, кого можно купить за деньги; тогда как у людей вроде тебя и меня только и есть, что мы сами. Я нужен тебе, чтобы помочь со всякими там процедурами и протоколами, а ты нужен мне, чтобы я мог получить факты, известные только тебе, медицинские и прочие – чего бы они ни стоили; проблема в том, что ты видишь все происшедшее как бы изнутри самого себя, а этого недостаточно, поскольку увиденное тобой невозможно подвергнуть тому, что они называют верификацией. Вот этим мы с тобой и занимаемся. Должен тебе сказать, я хоть и не знаю ничего о состоянии опьянения, но какой-то импульс заставляет меня поверить, что ты не алкоголик. Однако это вовсе не обязательно говорит в твою пользу; это поможет тебе обосновать претензии по части утраты зрения, но обернется против тебя в связи с другими вещами, включая продолжающееся отсутствие твоей подруги. То же самое с эпилепсией и диабетом: твой врач о них упоминать не станет, медицинские власти тоже, для них это все вроде туза в рукаве. Скажем, отсутствие диабета, это для тебя хорошо, в том, что касается утраты зрения, однако отсутствие эпилепсии, возможно, и плохо, особенно если речь идет о выпавшей из памяти субботе. Не то чтобы они были несовместимы, не как таковые, нет, но, при всем моем уважении, они образуют своего рода общую картину, наводящую на мысль о необоснованности претензии, и это внушает властям уверенность, что в конечном итоге они найдут способ взять над тобой верх. А если они прониклись подобной уверенностью, они так или иначе возьмут над тобой верх, – даже не отыскав доказательств. Ты должен помнить, что отыскивать доказательства это не их дело. Доказательства должен представить ты, поскольку ты выдвигаешь иск. Им достаточно заявить, что ты не прав, этого хватит, чтобы твой иск отклонить. Они ведь представляют собой орган, что называется, автономный, ни перед какими вышестоящими инстанциями они отчитываться не обязаны, разве что перед председателем городского совета, а он, как правило, из священников. Кстати, будет полезно, если ты скажешь, что веруешь в доброго всемогущего господа; не важно, в какого именно; ты можешь даже заявить, что веруешь в нескольких – я имею в виду, в добрых всемогущих господов.
Послушай, Алли, прервись, у меня уже голова кругом идет.
Да, но все равно продолжать надо. Это самая что ни на есть старинная хитрость. Я тебя просто натаскиваю. Ты должен быть готовым к умственному марафону. Они станут забивать тебе мозги всякими головоломками, панегириками и черт знает какими невнятно логичными формулировками. Ты должен быть готовым к этому. Вот почему мне захотелось помыть твою посуду, это просто привычка, любая физическая активность помогает работать мозгам, подстегивает тебя, разгоняет кровяные тельца, Сэмми, накачивает в кровь кислород; активность и еще раз активность. Слушай, я веду себя как эгоист, давай еще чаю выпьем.
Алли встает с табурета: Плюс тут только один табурет, ты стоишь, а из-за этого кровь отливает от головы. Неудивительно, что тебе туго приходится!
Сэмми слышит, как наполняется и ставится чайник. Потом снова открывается кран с горячей водой.
Ты присядь на минуту, это моя вина, что я разбудил тебя так рано. Так и не дал отдохнуть, верно?
Слушай, приятель…
Мы потом в гостиную перейдем; смена обстановки иногда помогает сосредоточиться. Со мной в камере сидел когда-то один старикан, он мне много чего рассказал о мозге, как улучшить его работу.
Я думал, ты спешишь.
Спешил, потому и пришел пораньше, и мы с тобой здорово продвинулись, опередили график; знаешь, я этого не ожидал; а все потому, что ты хорошо держишься – сказывается старый тюремный опыт. Нет, Сэмми, вот погоди, ты еще встретишься с этими шишками из УПБ![35] То-то повеселишься, без шуток. Это не то что обычный суд. У них там свои приемчики, они тебя и чаем напоят, чтобы ты расслабился, и печенья дадут, и называть будут по имени – обычный трюк, конечно, но приходится с ним мириться. И все улыбаются. Особенно медики. Законники-то на тебя будут вроде как малость сердиться, ты это услышишь по их голосам, но не обращай внимания. Я хочу сказать, она там не полностью враждебна, атмосфера то есть не как таковая. И во всем здании не найдешь ни единого полицейского в форме, даже среди охраны у дверей.
А, ладно, пока полицейский помалкивает, он мне до лампочки.
Да, верно… Алли хмыкает. Хорошо, так ты рассказывал мне о своей подружке и о потерянном, так сказать, дне. Так?
Сэмми вздыхает.
Ну, давай, совсем немного осталось.
Да нет, просто… послушай, насчет пьянства и провалов в памяти я тебе одно могу сказать: если провалы, значит, здорово набрался, понимаешь, слишком много пил, ну и нахлебался, как пароход. И тогда ты мог сделать все что угодно, я хочу сказать, все, на хер. Все могло выйти из-под контроля. Ни с того ни с сего, без предупреждения.
То есть, возможно все что угодно?
Ну да, об этом я и говорю, более-менее.
Угум. Это плохая мысль. Забудь о ней.
Так я чего, я просто для твоего сведения.
Тебе известно, что такое достаточное основание и явно неосновательные мотивы, Сэмми?
Я только для твоего сведения, только потому и сказал.
Теперь я понимаю, почему их не волновала суббота, это их козырная карта. При всем моем уважении, я иногда удивляюсь, почему они вообще с тобой возятся. Если исходить из здравого смысла, так и вовсе непонятно, зачем ты им нужен, я хочу сказать, они же вполне могли засадить тебя и выбросить ключ: ты следишь за моей мыслью? Ты только пойми, я не хочу тебя расстраивать.
Да чего там, это я и сам знаю.
Понимаешь, это означает, что вопрос о твоей подружке становится вдвойне важным. Жена мне так и сказала. Это первое, что пришло ей в голову. Ну что же, я очень рад, что ты рассказал мне насчет субботы; спасибо; некоторые из клиентов так и держали бы все при себе. Да, тут дело плохо. Я должен это сказать, потому что отрицать этого никак нельзя. Чертовски плохо. Возможно, мы с этим и справимся, но придется поработать, представить все должным образом. Ну, по крайней мере, ты все мне рассказал, так что взять нас врасплох им не удастся. Итак, что ты выяснил насчет своей подружки?
Ты это о чем?
Ты ведь что-то узнал о ней?
Да как я, на хер, мог что-то узнать, я же не вижу ни хрена, меня отмудохали, вконец отмудохали, и ни один хрен мне, похоже, не доверяет! Хожу как долбаный клоун!
На, держи, ты сигарету уронил…
Сэмми протягивает руку. Достает зажигалку. Плечи ноют. Сигарета вся мокрая.
Помни, что я говорил тебе о твоем языке, Сэмми, о том, что тебе стоит следить за ним… Ладно, теперь, правильно ли я тебя понял, что исчезать вот так было для нее обычным делом?
Что… нет, ни хера это обычным не было, друг, нисколько, о чем ты говоришь, я хочу сказать, что ты такое говоришь, ни хрена это обычным не было. Ну, уезжала она время от времени на пару дней, ладно, родных повидать и все такое, но и все – так что ты даже, я хочу сказать, мне это даже нравилось, э-э, я о том, что, мать-перемать… ну, что она женщина и все такое… Сэмми мотает головой, засовывает сигарету в рот, но только она вся мокрая, так что Сэмми ее вынимает.
Ты хочешь сказать, что тревожишься за нее?
Конечно, тревожусь, на хер.
Понятно… понятно… м-м.
Сэмми шмыгает. Свертывает новую сигарету. И говорит: А из-за чего ты сел, Алли? Мне просто интересно.
Из-за бюрократизма.
Что это значит?
Ровно то, что я и сказал, – из-за бюрократизма.
Это не ответ.
Ну, если тебе так уж хочется узнать, что со мной на самом деле приключилось, могу показать тебе мое дело.
Да, хорошо, я был бы не против.
Так вот, насчет пропавшей субботы…
А что такое?
Да нет, пока вроде ничто сомнений не вызывает; мне все равно, какие подробности представит полиция, лишь бы они не отличались от тех, какие представим мы, ты понимаешь?
Вообще-то не очень.
Ну, если эта публика из управления затеет выяснять, что там случилось в субботу, и что-нибудь обнаружит, я не хотел бы оказаться в положении, в котором мне только и останется сказать: Простите, ваша честь, мой клиент ничего о субботе как таковой вспомнить не может, однако он готов признать, что все могло выйти из-под контроля и могло произойти все что угодно. А? Ты пойми, я в тебя верю, я бы и на минуту не предположил, что с твоей подружкой случилось что-то плохое, а если и случилось, что это твоя вина.
…
Честно, Сэмми, я говорю правду. Я думал, ты мне доверяешь.
Кто сказал тебе, что у нас с ней был крупный скандал? Кто?
Я навел справки.
У кого?
У моих источников.
В полиции, что ли?
Алли фыркает.
Сэмми пожимает плечами: Ответь на вопрос.
Ты говоришь глупости.
Так я их, на хер, и делать горазд.
Маловер ты, Сэмми.
Я к тому, что если ты работаешь на них, то и отлично, меня это не волнует, точно тебе говорю, ни хера не волнует, я к таким штукам привык, – проблема тут только одна, если так, если ты на них работаешь, так я твою долбаную башку в плечи тебе вколочу.
Проблема в том, что мы попусту тратим время.
Сэмми улыбается. Ты не из пугливых.
А чего мне пугаться?
…
Кстати, ты не сказал мне, что здесь замешана политика как таковая.
Так она и не замешана.
Алли вздыхает.
Если только ты не о малом, которого я знаю.
Ну, во всяком случае, так говорят они.
Сэмми шмыгает носом. Я не думал, что это имеет значение, в смысле претензии, которую я предъявляю.
Это я предъявляю претензию от твоего имени.
Послушай, я перебирался из паба в паб, встретил пару ребят, а потом оказалось, что за одним из них следят фараоны. Они говорят, что он – мой старинный приятель. Я не помню этой встречи; это они говорят, будто она состоялась.
Возможно все что угодно?
Алли… Полегче.
Ладно, если ты говоришь о Чарли Барре, то кто он тебе?
Это они о нем говорят, а не я.
Вы с ним товарищи? друзья? кто?
Мы корешились, когда были мальчишками, потому что у наших отцов были какие-то общие интересы.
Политические?
Политические, какие угодно, не знаю, они состояли в одном профсоюзе, я же мальчишкой был.
Ты удивился, узнав, что за ним установлена слежка?
А ты?
Можешь ты с ним связаться?
Так или этак, да, наверное, если захочу, но я не хочу, незачем.
Ну, например, чтобы сказать ему, что за ним следят?
Сэмми улыбается.
Может, мне с ним переговорить, ты не против?
Да на здоровье, лишь бы это со мной ни хрена связано не было.
Твоя квартира прослушивается?
Вполне вероятно.
Не хочу показаться хамом, но ты случайно не параноик?
Все может быть.
Так когда ты собираешься зарегистрироваться в благотворительном обществе?
Это мое дело. Попозже.
Но все-таки собираешься?
Конечно.
Потому что, если ты не зарегистрируешься, это здорово по тебе ударит. Мы просто не можем позволить себе новые непоследовательные поступки. Ты понимаешь?
Ага.
Хорошо, что ты разрешил мне действовать от твоего имени, Сэмми, потому что сам ты человек чересчур вспыльчивый, а вспыльчивые люди – во всем, что касается властей, – это ровно то, что доктор прописал.
Да что ты?
Уверяю тебя. Им таких только подавай. Понимаешь, я могу прийти туда и представить дело, основываясь на общих принципах действий и поведения и тому подобное, показать, что мы ожидаем, что определенные вещи будут делаться, как нам и обещают, эффективно и компетентно. Это я могу, никаких проблем. Беда в том, что тебе это мало что даст, и даже если ты выиграешь дело, – что само по себе большая редкость, – ты выиграешь его на ложных основаниях: и выиграешь, и одновременно проиграешь. Некоторые получают удовлетворение уже от того, что они победили, но ведь это что означает, это означает, что власти просто-напросто поленились, а это дурной знак. Это может даже посеять рознь между ними, а она нам же и выйдет боком. Ты, возможно, думаешь, что нам это только на руку, но нет. Просто в будущем они станут вести себя куда осторожнее. Лучше их убаюкать, внушить им ложное чувство их собственной безопасности. Есть и другой способ добиться этого, а именно, взять за основу дела исключительные обстоятельства, но пойти на это я могу, лишь зная, в чем эти самые обстоятельства состоят. Те вещи, которые ты от меня скрываешь, возможно, и несущественны, но сам факт, что ты их скрываешь, не позволяет мне их продемонстрировать. Опять-таки, я не люблю класть в основу дела исключительные обстоятельства; каждое дело в своем роде исключительно, так что лучше представлять его как часть чего-то общего – я, кстати, не о принципах сейчас говорю. Я говорю о том, что, если ты выигрываешь, отталкиваясь от исключительности обстоятельств, у тебя появляется шанс представить их как часть общей картины, вот в чем должна состоять твоя цель.
Сэмми улыбается.
Лучше, если ты будешь относиться к этому серьезно, Сэмми, мы слишком далеко зашли, чтобы позволить себе ребячиться, мне следовало бы сказать,
Думаешь, мне это не по херу? А?
Так вот, насчет политики, это еще одно важное обстоятельство, я бы даже сказал, еще одна переменная, и как на нее отреагируют судьи, предвидеть невозможно. С вопросами, касающимися существа дела, все проще. А политика может заставить их махнуть рукой на привычные нормативы, особенно если они найдут возможность использовать слово «насилие», потому что исходить из того, что это понятие спорное, они никак не обязаны. Надо понимать, что такое закон, он же не к ним применяется, а к нам, и как раз они-то его и применяют.
Мне это по фигу.
Да, пока мы стоим на ясной и твердой основе. Делать вид, будто ты ничего не знаешь, и надеяться, что тебя это выручит, занятие пустое. Даже если ты и впрямь ничего не знаешь, полагаться на это не стоит. При всем моем уважении, ты меня прости, но это ошибка, в которую впадают очень многие. Твердят о своем неведении, надеясь, что оно избавит их от неприятностей. Ты же хлебал баланду, ты человек бывалый. Прости за дерзость. Понимаешь, я думаю, твоя проблема, возможно, в том, что ты не слушаешь. Вот я перешел на другое место, пока ты там стоишь, а ты даже не заметил. Я тебе прямо скажу, ты только не обижайся, не будь ты слепым, я ожидал бы от тебя большего. Конечно, утрата зрения обращает тебя в человека неполноценного, но ведь таких людей многое множество. Давай выложим карты на стол: как долго длится твоя слепота?
Алли, ты даже не понимаешь, о чем говоришь.
Я просто пытаюсь поставить себя на твое место и представить себе твое состояние. Ладно, ты столкнулся с проблемой; но мы же все с ними сталкиваемся; одни посложнее, другие попроще, но давай исходить из этого.
Тебе пора идти, приятель, ты заигрался, а это раздражает, ты понял, раздражает, твое поведение, оно раздражает.
Жизнь, Сэмми, это последовательность скачков и препятствий – и того, что мы можем назвать скрытыми от глаз глубокими ямами. Слепота, когда ты ею обзаводишься, это скачок. До того – глубокая яма. Но для тебя «до того» кончилось, наступило «после», так что это просто скачок.
Сэмми совсем было улыбнулся, но не стал. Только сказал: Ты для чего меня заводишь?
Я тебя не завожу, просто ты иногда меня злишь, ты все время нарываешься на ссору.
Сэмми улыбается.
Ты понимаешь, о чем я. Ладно… будем считать, что это меня раззадоривает, а стало быть, оно и хорошо – заставляет работать. По крайней мере, ты не вызываешь жалости. В отличие от многих моих клиентов: к ним испытываешь жалость, я не высокомерничаю, просто описываю положение, а другого слова для его описания не подберешь. Понимаешь, я не хочу иметь дело с самоубийствами, со всякими там необъяснимыми преждевременными кончинами, они меня просто бесят до крайности – прежде всего они порождают раздоры в семье, в том числе и в моей. Скажи-ка, у тебя нет фотоаппарата? А? Нет? Сними на минутку свитер. Ладно? Слушай, ты когда-нибудь видел статистику самоубийств среди обидчивых, вспыльчивых людей? Сэмми, сейчас не время для этого, я просто хочу осмотреть повреждения. Ты говоришь, что тебя избили, ну так покажи мне следы побоев.
Сэмми кивает, задирает свитер повыше.
Так привыкаешь ко всяким препирательствам, бормочет Алли, что забываешь осмотреть человека, и я не лучше прочих. Он не произносил таких слов: «умеренно тяжкие увечья»? Я говорю о враче.
Нет.
Как у тебя с дыханием? немного покалывает?
Да.
А сложности с грудной клеткой? с легкими? Я о прошлом.
Случались.
Доктор тебя об этом спрашивал?
Не помню.
С какими веществами тебе приходилось работать?
Ни с какими.
Он не проверял, не сломаны ли у тебя ребра?
Не знаю.
А сам-то ты проверял?
Да пробовал.
Спину он исследовал?
Нет.
Я сейчас тебя в ребра потыкаю, так что не подскакивай, если рука у меня холодная.
Сэмми начинает глубоко дышать.
Да нет, дыши как обычно… Будет больно, скажи.
Немного, ну то есть совсем немного, да.
Угум. Стетоскопом он не пользовался?
Да вроде бы пользовался.
А волнистых попугайчиков ты никогда не держал?
Чего?
Это называется формальными доводами, Сэмми. Дыши нормально. Ты на скольких подушках спишь?
По-разному, если Элен дома, она кладет две, а нет, так сплю на одной.
Форточку на ночь открываешь?
Иногда.
Понимаешь, Логан – каверзный сукин сын, я тебе уже говорил. У него было медицинское заключение насчет тебя, так что твои тюремные рентгеновские снимки он видел и снимок левой лобной доли тоже. Воспалением легких или туберкулезом ты не болел?
Нет, не думаю.
Видишь ли, такие болезни могут оставлять рубцы, а это способно повредить будущему иску, – я не о глазах говорю, а о легких, если они окажутся фиброзными. Хитрый старый прохвост, ничего не упустил. Он для того и вывел тебя из терпения, чтобы добавить данных насчет твоей повышенной возбудимости. Знаешь, Сэмми, вспыльчивые люди сами портят себе жизнь. Ты не помнишь… нет, не важно, хотя конечно… м-м, ладно, хорошо. Ты ведь на стройках работал, Сэмми, так?
Ага.
Если на то пошло, у него есть свои недочеты – у Логана, – потому он до сих пор и сидит в Здравоохранении и Социальном обеспечении, обслуживает городские программы трудоустройства, на такую работу мало кто согласится, разве что какой-нибудь ревностный молодой человек, только что окончивший государственное учебное заведение. Университет какой-нибудь. Возьми хоть дальнего родственника моей жены, доктора; хорошего, насколько нам известно; мы с ним теперь не общаемся, ему подавай престижное положение, а у нас его нет. Он одно время ссужал меня книгами, но теперь мы оказались по разные стороны баррикад. Что у тебя с почками? Порядок?
Сэмми пожимает плечами.
Ладно, был бы непорядок, ты бы об этом знал. Хорошо, пока нам и этого хватит, опусти свитер.
А ты свое дело знаешь, приятель, а?
Алли вздыхает. Ну, скажем так, кабы я его не знал, ты не взял бы меня в поверенные; ничего нет хуже, чем нанимать какого-нибудь типа, который знает меньше твоего. Так, нам нужен фотоаппарат, поскольку, рад это сказать, на тебе еще сохранилась куча улик. Хотел я его с собой прихватить, да забыл, что же, придется заглянуть к тебе ближе к ночи, так что смотри, не улизни в какой-нибудь кабак!
…
Не теряй чувства юмора, Сэмми. Раньше я никак не смогу. Вечер в мировом суде нынче ожидается хлопотный, почти такой же, как тамошние четверги; вводятся новые законы, самые разные; плюс там всякого рода легавых, стукачей и шпиков, – как ты их именуешь, – как тараканов, поэтому приходится действовать с оглядкой. Ну да так или иначе, а снимки мы сделаем: если сам не смогу, пришлю кого-нибудь.
Э-э
Потому что вся беда с наружными повреждениями в том, что они имеют свойство исчезать. Ты не помнишь, этот шарлатан какую-нибудь мазь тебе прописывал?
Да, э-э…
Ну вот, потому мне и придется прислать кого-то, если сам не смогу. Но ты не волнуйся, человек будет надежный.
Сэмми пожимает плечами.
Ты уж потерпи. Жаль, нет у нас возможности полный рентген сделать.
Сэмми кивает.
Я внушил тебе подозрения.
Было дело…
Ладно, мне пора.
Э-э
Последний вопрос перед тем, как я уйду, ты только не обижайся: как ты думаешь, она вернется? твоя подруга?
Да.
А почему ты так думаешь?
Потому что.
Потому что – что?
Потому что ничего.
Ладно, Сэмми, согласен, в отношениях между людьми такое случается, особенно когда возможно все, что угодно. Ты только пойми меня правильно, я не чудотворец и не предсказатель судьбы; у меня нет волшебного хрустального шара, и кроликов из шляпы я тоже вытаскивать не умею.
…
Ну что ж, пора приниматься за дело. Я у двери.
Сэмми хмурится, стискивает кулаки, потом успокаивается, поднимается с табурета.
Я у двери.
Сэмми поворачивается на голос.
Я выйду сам.
Сэмми ощупью подвигается вперед, отыскивая дверь. Он слышит, как Алли дважды поворачивает ручку замка, как открывается входная дверь.
Скоро увидимся, пока!
Погоди минуту…
Нет времени.
Дверь закрывается. Добравшись до нее, Сэмми какое-то время стоит около. Почесывает щетину под подбородком, потом возвращается на кухню. Берет чайник, чтобы долить в него воды, но ее еще достаточно, горячей. Чистые тарелки составлены в сушилке, кружки, ножи и вилки вымыты тоже. Ладно, и то помощь.
Есть еще кой-какие дела, безотлагательные. Вот только он немного устал. Может, еще кофе. Дверь запри. Он немедленно делает это. Потом стоит у кухонной раковины, ждет, когда закипит вода. Алли сейчас уже вышел из дома, переходит бетонную площадь, идет вдоль магазинов, потом еще куда-то, куда-то еще. Интересно, куда. Куда он теперь направится.
Вода закипела. Сэмми отнес чашку с кофе в гостиную, присел на кушетку. Просидел какое-то время, прежде чем вспомнил, что можно бы и радио включить или кассетник, однако мысль эта тут же выветрилась из головы; потом вспомнил снова, но оказалось, что он невесть зачем уже включил телевизор. И через несколько минут выключил; сидел с закрытыми глазами. Неплохо бы пару часиков покемарить, день предстоял долгий, надо было набраться сил. Хотя можно и на кушетке вздремнуть, тут даже часы не тикают, нет смысла их заводить, разве что научишься каким-то образом эти самые тики подсчитывать, вот с этого начал, вот этим закончил, да бесполезно, они все звучат одинаково, это ничего тебе не даст, глупо и тоску нагоняет, напоминая о твоем состоянии, о том, чем ты стал, ну то есть если бы не гул в ушах, тут вообще никаких других звуков не слышалось бы и ты был бы совсем Как обрубок, просто верхняя половина туловища; представляешь, главной твоей заботой была бы жратва, как ею разжиться; плюс прочие функции организма, омовения,
Вроде звук какой-то послышался. Может, и послышался. Так или иначе, а надо идти, никуда не денешься. Башли. Да не в этом дело, просто надо уматывать, на хер, иначе ему туго придется, потому как его ж обложили, уже обложили со всех сторон; вот именно, уже со всех сторон обложили, это уже произошло; так что тут всего лишь вопрос времени, вопрос, когда он это сделает, слиняет отсюда, потому как линять необходимо, вот почему он и собирается, на хер, линять, приходится. Надо было бы уложиться, с этим-то он управится. Плюс рубашки; хотя бы некоторые. Набить чемодан. Опять же палка, нужна свободная рука. Просто устал он, вот в чем дело. Почему же он так устал, друг, почему так устал, ну просто устал, и это наполняет твою голову, твой ум, все. Да потом, и поздно уже, не поможет, господи, ничего не поможет, ты думаешь, поможет, а оно и не поможет, по-настоящему, не поможет, когда это случится, ты не готов, тем более, так устал, выдохся, все твои ресурсы
даже тогда
но что смешно, не говоря уж о чем прочем, что смешно, так это что ты все еще борешься, на хер, это ты всегда умел, это главное, тебе всегда удавалось найти для этого способы; и Элен это понимала. Понимала. Она понимала это. Не только, как ты, на хер, сражался в прошлом, но и как ты в будущем, на хер, станешь сражаться. Это так же охеренно просто, как нос на твоем лице, она в тебе это ясно читала. Занятно, как людям это удается; самым разным людям. А кончаешь ты тем, что податься тебе и некуда
загнан в угол, выставлен всем напоказ, да еще и измотан, не хочешь ты торчать тут всем напоказ, да только, какого хрена, друг, какие у тебя шансы, ты же в беде, друг, хрен знает в какой беде, в глубоком дерьме, точно тебе говорю, какого хрена, что тебе теперь делать, что тебе, на хер, делать! а вертеться, что же еще, охеренно вертеться, на старт, внимание, на хер, и вали, просто-напросто охеренно
шел бы ты в жопу, друг, понял, шел бы ты в жопу, в нее самую, и еще дальше, давай, – потому как на этот раз тебя уделали по-настоящему, Сэмми, друг,
Старина Джеки.
Окно. Сэмми открывает его. Глубоко дышит. Ветер и проливной дождь. Не лучшее время куда-то тащиться. А ты опять напортачил, опять напортачил. Вот что ты сделал. Что-то еще там было, друг, точно тебе говорю, что там было еще? А, на хер, статистика, процент самоубийств, Сэмми никогда обидчивым ублюдком не был, это во-первых. Знаешь, чего он сейчас хочет? Банку долбаного пива. Так что не боись. У него во рту пересохло, сухость у него. Знаешь, что это значит, это значит, что его жажда мучает. Хрен с твоим кофе, и хрен с твоим чаем, и хрен с твоим долбаным молоком, даже если ты такой, на хер, везучий, на хер, что у тебя имеются все эти долбаные припасы, друг, ты меня понял. Плюс табака не осталось.
И правда. Он берет кисет, шарит внутри, на одну самокрутку и то еле хватит. Значит, придется выйти, купить еще, еще пол-унции. С курением он точно завяжет, но только время для этого пока не пришло, вот когда голова будет ясная, когда он залезет в долбаный автобус, вот тогда он и выбросит в окно весь табак, какой у него останется. Потому что в следующий раз, когда он выйдет из дому, то выйдет он ровно для этого, чтобы смыться, общий привет. Вот так вот. Так что ладно, такие дела, полная ясность. Со всякой там мутотенью покончено. Ты принял решение, уж какое оно ни есть, но что бы ты ни решил, пора делать то, что решил делать.
Сэмми издает притворный стон, затыкает пальцами уши, забрасывает на кушетку ноги, вытягивается.
Одно, во всяком случае, ясно; они бы ее нашли, сейчас уже нашли бы. Они ребята шустрые, они бы все выяснили. И это было бы хорошо. По крайности, ты бы знал что к чему. Все эти тайны, если тут есть какие-то тайны – я к тому, что это же их долбаная работа разгадывать долбаные тайны.
Что-то звякает. Похоже, опять почтовая прорезь. Кто-то лезет в нее, подглядывает; скорее всего, ерзаный фараон, а то еще торчок, которому на дозу не хватает.
Сэмми улыбнулся, сел и заорал: Але, ты, козел недоделанный! Как тебе это ясное раннее утро? Птички, на хер, еще не чирикают! Он рассмеялся. Потом повернулся набок, лицом к спинке кушетки, сунул руку под голову. Скорее хихиканье, чем смех – собственно, ни на какой смех это не похоже; и даже не хихиканье, а долбаный скулеж, вот именно; вот до чего он докатился, друг, до скулежа. И хрен с ним. По крайности, он жив, жив. И может делать все, что хочет. При условии, что делать это он будет быстро. А для этого план нужен, не бросаться же вперед очертя голову.
Ну, значит, ладно, складывается все не так чтобы здорово, однако тебе остается только одно – пробиваться вперед, нужно пробиваться вперед. Это еще, городское трудоустройство; он о них точно скоро услышит; они его вытащат из дому и загонят на какую-нибудь сраную стройку, на леса, тачку катать, да они готовы его и по доске заставить ходить, ублюдки долбаные, в любви и на войне все средства хороши. Потому что, пока тянется дело, он так и будет считаться полностью трудоспособным, годным к строевой. Пока не перерегистрируется. А перерегистрировать его как нетрудоспособного они не станут, это уж будьте благонадежны. Вот и придется ему корячиться на ощупь на какой-нибудь сраной стройке, хороши шутки! От людей вроде Алли просто в смех кидает, ей-богу; Сэмми таких повидал будь здоров, и в тюрьме, и на воле. Играй по правилам, и пусть они все сдохнут; такой у них девиз; и бери свое, пока дают. Блестящие юристы, мать их. Идиоты долбаные, друг, вот кто они такие, точно тебе говорю, кроме шуток. Нет, Сэмми ж не утверждает, будто он самый умный, просто у него кой-какой опыт имеется. Насчет этих мудаков-оптимистов.
Ну и пусть они себе стену лбом прошибают.
Надо было ему в каменщики податься. Он бы справился, не боись. Видел бы ты, с какими мудаками ему приходилось работать!
Может, если с глазами наладится. Если б он смог умотать в Англию. И просто отдохнуть, дать организму прийти в себя. Придется, правда, всякие там бумажки собирать. Но это не сложно, были б денежки. Есть одно дельце, которое может их принести, но там придется вложить несколько монет, а их у него нет, аванс нужен; потому-то он и взял эти рубашки; потому и этот долбаный дурак Тэм – дай ему бог здоровья, но как же можно быть таким дураком, на хер. Ладно. Есть вещи…
Просто вдруг вылетает из головы. Куда они все деваются? Целая куча забытых мыслей, и снов, и
хрен знает что.
Вот этим они тебя и душат; все их гребаные протоколы и процедуры, все придумано для того, чтобы не дать тебе дышать, чтобы тебя остановить; чтобы ты не ходил, и не дышал, и рта не раскрывал; стой в строю и не шевелись: просто стой, на хер, пока не получишь другого приказа. Эй, я тебе скажу, когда шевелиться, лады? и чтоб я даже не видел, как ты дышишь, недоделок долбаный, даю тебе тридцать секунд, двадцать уже прошло.
Элен не понимала. Думала, что понимает, а не понимала. Она вроде Алли. То-то и оно: она думала не так, как ее мужчина, она думала, как его гребаный поверенный, понимаешь, о чем я, в том-то вся и штука, думала, как поверенный Сэмми, а не как Сэмми, не как он сам.
Смешно, но приходится согласиться, признаться себе самому, что все они держат его за дурака. Держат-держат. И не важно, что опыта-то у него вон сколько; в их глазах он так и остается лохом. Ну и прекрасно. Тебя это только радует. Особенно когда тебе туго приходится, тебя это веселит, – что все они тебя, блин, за идиота держат. Ладно. Но если бы Джеки Миллиган вошел сейчас в дверь и сказал: Хочешь малость подзаработать? Сэмми ответил бы: Да, приятель, нет проблем, проще простого, куда двигать-то, на юг, на север, куда скажешь, какая, на хер, разница, Сэмми с тобой, на этот счет не боись: и ну их в жопу, в жопу, всем скопом. Я вам нужен? Так приходите и берите меня!
Сэмми разминает запястья, оба сустава ноют. Вот бы на них поглядеть. Может, он их отлежал. На них, наверное, красные отметины остались. Ты даже тела своего увидеть не можешь. В последний раз видел его…
Господи, когда ж это было? не может вспомнить. Да и какая разница. Сейчас он ничего видеть не может, вот что важно. Сэмми встает, ставит кассету.
Старина Джордж Джонс; ну и чего, друг, ну и ладно, и хрен с ним.
Точно, в последний раз он видел себя перед тем, как Элен пошла прогуляться, перед тем, как он отправился кожаны тырить. Хотя нет, в самый последний раз он увидел себя в одном из зеркал в полный рост, в том долбаном магазине одежды! Такие дела, друг, поэзия движения.
Нога-то небось так в кутузке и сидит. Выпускать его им никакой нужды нет, вот он и сидит, гадая, что это на него такое свалилось. Сэмми на него свалился. Ладно, это все херня, которой они пытаются тебе голову забить. Ладно. Ах, как это нечестно, понимаешь, о чем я, бедный Нога, друг, он же никому ничего плохого не сделал.
Чего во всем этом не хватало, так это доверия. Вот что худо. Крайне раздражающее поведение. Тот же Тэм знал Сэмми достаточно долго, чтобы не дать себя провести. Уж на это-то он был вправе рассчитывать. Если бы он мог его предупредить, так и предупредил бы; и конец истории – вон Ноге ничего объяснять было не нужно. И как теперь быть, Тэм как раз тот человек, который распоряжается товаром. Иногда только дивиться и остается, этому самому менталитету. Мелочь, конечно, но Сэмми об этом и раньше думал; воры и барыги, за все приходится платить.
Не треньди; ерунда это все; Тэм хороший малый.
Все справедливо, разделяй и властвуй. Это как с Чарли, стоит Сэмми подумать о нем, и он начинает заводиться, будто Чарли имеет к этому какое-то отношение. А он никакого и не имеет. Никакого. Ни хрена. Всю кашу заварил Сэмми; до последней, на хер, долбаной мелочи, друг, точно тебе говорю, точно, на хер, все он, все Сэмми, сам Сэмми, друг, вот кто ее заварил, он, и никакой другой мудила, все это долбаное дерьмо, друг, все это он, никакой другой мудак, он, в лоб его мать.
Сэмми качает головой, хмыкает. Поразительно, как это все тебя достает, – сидишь, сидишь да вдруг как взъерепенишься.
Ну да, все правильно, так ты и кончишь тем, что будешь винить во всем каждого встречного дрочилу – кроме тех, кого как раз винить-то и следует. Да так оно и было задумано; фараоны знали, что делают, доводя тебя до такого вот состояния, это все предумышленное маневрирование, точно тебе говорю, сучары поганые, и никакого отношения к Чарли это ни хрена не имеет. Ну сам подумай. Если бы он считал, что Сэмми надо чего-то там рассказать, так и рассказал бы. Чего уж проще.
Все это касается только Сэмми. Ты играешь свою игру. Тебе сдают карты, ты их оцениваешь. Присматриваешься к игрокам, отмечаешь про себя кой-чего. И в большинстве случаев тебя делают. В большинстве случаев
в большинстве случаев
Но бывает, редко-редко, что и не делают. Вот такого случая ты и ждешь. И это один из них. И чувствуешь ты себя тогда превосходно: даже не опишешь – когда знаешь, на хер, что есть у тебя в запасе козыришко, когда ты это знаешь. Никогда не следует недооценивать противника. Фараоны-то думают, что они его просчитали, ан нет.
Ну ладно, вот потому и хорошо бы повидаться с Элен, просто чтобы она знала что к чему. Так что он, как уладит все, просто пошлет ей письмо. А там уж сама пусть решает, с ним она или не с ним. Вот это будет по совести. Он просто-напросто должен быть честным, рассказать ей всю правду и ничего кроме. Потому как в этом-то вся и проблема, не сумел же он добиться, чтобы до нее дошло, рассказал историю, и вон оно как все обернулось. Кто же знает, как у баб голова устроена; он не знает. То же самое с его прежней, долбаная катастрофа. Но тут уж не он один был кругом виноват. Люди все норовят помешать тебе, суют палки в колеса. Жить тебе не дают. А жить-то надо. Если ты жить не можешь, так ты ж все равно что помер. Что тебе еще остается? Хорошо бы кто-нибудь тебе это объяснил. Как, интересно, тебе теперь жить. Да только ни хрена они тебе этого не скажут, нету у них таких ответов, друг, только не на этот, не на этот хлебаный вопрос, точно тебе говорю, одно большое молчание, вот что ты, на хер, получаешь, большое молчание. Вот и все их ответы. Задавись они все конем. Практический результат: ты сам по себе, совершенно один. Ну и ладно, к этому Сэмми привык, еще как, на хер, привык-то. Некоторые вещи всегда остаются все теми же. Не меняются, хоть ты тресни.
Тут все от тебя зависит. Они не меняются, но ты-то перемениться должен. Вот в чем весь долбаный фокус. Все сводится к тебе. И хорошо, и ладно. Справедливо.
Когда все уходят и ты один. Об этом-то ты и думаешь, о том, что все ушли, а ты остался, ты и никого больше. И что тогда происходит – а то, что ты начинаешь действовать.
Так что ладно. Он был слепым ублюдком. Уже в то время. Это этап, блин, который ты просто проходишь, потому как что тебе еще делать? ничего, больше тебе делать не хер. И Сэмми этого этапа достиг. Некоторое время назад. До него это просто не сразу дошло. И не доходило, вот до этой самой минуты. Он улыбается. Жуть гребаная. Куда тебя опять занесло.
Он все ждал, когда кончится дождь. Поднялся с кушетки, подошел к окну, проверить, как там. Льет как из ведра. А он ничего и не слышал, просто не прислушивался; слишком занят был, все думал, думал. Плюс надо бы побриться. Это такая составная часть ритуала. Даже если он горло себе перережет и окочурится, все равно он этот свой подбородок отскоблит дочиста, дочиста. Потому как, выходя отсюда, он должен высоко держать голову, должен быть чисто выбритым, свеженьким и охеренно новехоньким, чистые носки и – Христос всемогущий затраханный, он напялит одну из этих сволочных новых рубашек. Он человек гордый. Гордый он, блин, человек. Сэмми произносит это вслух: Я человек гордый, блин, говорит он, так что хрен тебе. Вообще-то, скорее рычит, чем говорит. Но это тоже такая составная часть, часть гордости. Долбаный ад, ну ведь правда же. Хрен вам, ублюдки. Чистая правда; он человек гордый. А чем это он так гордится. Да хер его знает, гордится, и все дела.
Вот так вот.
Скоро уже и выходить пора. Дождь там, град или ясное солнышко, выбирать ему не приходится. Надо кое-что прикупить; батон, сыра кусок. Наделает себе в дорогу бутербродов, башли-то беречь придется.
Сэмми приступает к поискам кроссовок.
А правда, занятными путями движется твоя жизнь. Нет, ей-богу. Дичь. Те же деньги взять, ты даже не знаешь, сколько их у тебя. Бумажки все перемешались. Так что придется и этим заняться. Но одно уж наверняка, на Чарли он больше не нарвется, потому как даже и не увидит его ни хрена! Разве вот Чарли первым его заметит. Ладно.
Мудаки вроде него никогда тебя о помощи не попросят. Ждут, когда ты сам догадаешься. Карты у тебя на руках, друг, ну, так открой же их, на хер. Вот так вот Чарли и говорит, правда, у него это короче выходит.
Шузы шузы шузы!
Как, задроченный ад, сможешь ты выйти на прогулку, друг, если у тебя нет гребаных шузов, ты понимаешь, исусе-христе, это ж охеренная глупость. Если ты надумал куда-то потопать, так шузы это ж ключевой момент, ключевой. Куча мудаков не поверит тебе, если ты им это скажешь, друг, решат, что ты шутки шутишь. Но это же чистая правда, на хер; вот же в чем соль-то, шузы это такая точка, в которую сходится все, долбаный ты идиот.
Ну и какой смысл из-за этого заводиться. Сейчас бы кружку пивка на скорую руку, жажда замучила. Можно бы заскочить в блеваду, пропустить кружечку да заодно уж и сделать пару телефонных звонков. Он все еще не расстался с мыслью толкнуть рубашки. Тэм Робертс не единственный, кого он знает. Правда, это та еще морока, ничего заранее не предскажешь, а на данном этапе слушания, ваша честь, точно вам говорю, предсказуемость это для нашей долбаной черепушки первое дело. Так что ничего. Плюс мальчишка, ты мог бы и ему позвонить. А может, и нет, может, он ему просто письмо пошлет.
Нет, никаких мудацких звонков, никаких кружек, просто ухлебывай отсюда, собери, что сможешь, и вали. Никаких мудацких кружек, никаких звонков – прикупишь, что нужно, потом назад, уложишь сумку и бутербродов наделаешь.
Он достает из кухонного буфета ручку и лист бумаги. Вообще-то, ты же не можешь знать, пишет она или нет. Так что Сэмми заодно прихватывает и карандаш. Все как-то стало теперь не с руки. Не с руки – охеренно неверное описание ситуации: не с руки, понимаешь.
Он бросит здесь все, все, что не сможет засунуть в сумку. Кассетник и прочее барахло; все это он бросит. Но не сами кассеты, кассеты он запихает в боковые карманы сумки. Сумка-то у него не одна, но ведь нужна же рука, чтобы палку держать. Если только нет такой, чтобы с наплечным ремнем. Он, правда, не помнит, есть ли такая. А из ее вещей он ничего не возьмет. Ну их на хер. Он уходит, друг, и уходит, полагаясь только на свои силы, ни на чьи еще. Он сам себе голова, и никто ему не указ. Ни единый мудак; ни фараоны, друг, никто, на хер, только он, сам по себе.
Хорошо. Куртку напялил и вперед. Сэмми зажимает палку под мышкой, запирает за собой дверь на два оборота. Долбаный ветер, друг, прямо ураган какой-то, даже дождь сюда заносит. Если отыщутся мудаки, до того очумелые, чтобы рыскать тут в такую погоду, так пусть берут его, заслужили. Хотя какая, в жопу, разница, захотят взять, так возьмут. Ветер подталкивает Сэмми в сторону лифта. А там уже кто-то есть! Ну и ладно. Может, это тот добрый дух, который вызволил его из беды там, у лужайки для боулинга. Ты, друг, против добрых духов ничего не имеешь, вот злобные ублюдки, которые все время таскаются по пятам за тобой, вот этих тебе следует опасаться. Так что давай. Сэмми подумывает, не заговорить ли с ним, кто бы он ни был, но нет, не заговаривает. Когда приходит лифт, Сэмми, постукивая, приближается к нему и входит внутрь. Тот, другой нажимает кнопку. Они спускаются, выходят, Сэмми поворачивает налево, а тот уходит – стеклянная дверь открывается, впуская порыв ветра. Обождав с минуту, он идет к двери, толкает ее и сразу выходит, не останавливаясь, не задумываясь, ты же мужик, Сэмми, храбрый малый, вперед, очертя голову, под неистовый ливень, плечи сгорблены, воротник куртки поднят. Точно, берет, надо купить берет, пусть не сию минуту, но надо. Господи, дождь-то просто-напросто хлещет, дичь долбаная, тут он влезает в лужу; похоже, в большую; делает еще шаг, останавливается; нет, пока вроде не вышел. Какой она, на хер, ширины? Откуда ж ты это узнаешь. Так она, блин, еще и глубже становится! Так что ты уже начинаешь гадать, куда тебя, едрена вошь, занесло!
Нет, серьезно, дождь и ветер, похоже, лишили его всякого разумения. Может, он опять напутал, пошел куда-то не туда, на хер, христос всемогущий, он же только что вышел из дома. Сэмми шарит ступнями справа и слева от себя; вода омывает их, похоже, уже до лодыжек дошла. Он поднимает правую ногу, слышится бульканье, проходит пару метров, бульк, бульк. Откуда-то доносится голос: Черт знает что, ей-богу!
Ага, отвечает Сэмми на случай, если это к нему обращаются.
Теперь еще и малышня начинает где-то рядом голосить, вроде как носится, на хер, вопя и взвизгивая, того и гляди сейчас кто-нибудь врежется в его долбаные ноги, друг, нетрудно себе представить – малышня же! башку пригнул и летит, будто считает, что все препятствия убраны лишь потому, что его несет незнамо куда. Сэмми покрепче сжимает палку, просто на всякий случай – вдруг один из этих мелких мудил споткнется об нее и морду себе расквасит.
И все-то тебе сражаться приходится, друг, вот ведь дали тебе передышку, так ты тут же сцепился со стихиями. Ну, хорошо хоть из лужи вылез. Только руки почему-то болят; не мешало бы ему отдохнуть, выровнять дыхание, если честно, он совсем замудохался. Упражнений-то не делаешь; ты когда в последний раз упражнения делал? Вчера. А, ну тогда ладно. Может, дело и не в упражнениях. Что-то горячее на щеках. Мокрющее, а горячее. Как тебе это нравится, друг, мокрое и одновременно горячее. И на плечах тоже. Господи. Сэмми хочется положить палку на землю, потому как сил держать эту херовину у него уже нет.
А надо. Надо. Он должен попасть в долбаный
Палка ударяется о стену. Хорошо. Он вытирает воду со лба, вынимает из кармана очки, водружает их на нос. Только они почему-то тяжелые и за ушами давят. Сэмми их снимает. Тут с одного бока здания что-то вроде укрытия было. Ну вот, еще и лодыжки колет, как иглами, ни хрена себе, а дальше что! Присесть бы. Исусе-христе. Так, малышня возвращается. Что они тут делают в такую погоду? Почему родители не загоняют их, на хер, домой? Снова вопят. Голосенки тонкие. И над чем-то смеются. Над погодой, наверное. Мелкая малышня, друг, такая и над погодой готова смеяться. Сэмми трясет. Плохи его дела. Стоит, прислонившись к стене. А это ему ни к чему, идти надо. Просто энергии нет. Куда подевалась энергия? Чертов дождь. Нет, но как же он докатился до такого состояния?
Исусе-христе, это ж дождь, просто дождь, ничего больше. Ага, теперь еще и костяшки на кулаках! С костяшками-то что, блин, случилось. Артрит, наверное, из-за сырости. Старые боевые раны. Помнишь тот крюк левой, он всегда им гордился, ну давай, ты, козел гребаный, а потом разворачиваешься спиной – и локтем, на хер, хрясь, друг, как врежешь ублюдку, как ему, на хер, врежешь, прямо по морде, друг, прямо по долбаному носу, а они ж охеренно не любят, когда им нос, в жопу, сворачивают.
Старина Сэмми! Это чем же он у нас теперь занимается? А с тенью боксирует. Он прислоняет палку к стене, потирает ладонь о ладонь, дует на них, замерз он чего-то, малость замерз.
Ладно. Это был приступ. Наплевать и забыть. Дождь льет по лицу. И в животе бурчит. Ну еще бы. Жратва. Охеренно же очевидно, друг, он же не ел ничего. Отсюда и галлюцинации. Прямо и непосредственно. Значит, надо пойти и разжиться жратвой. Он нащупывает палку, касается ее, палка падает. Отлично. Сэмми нагибается за ней. Находит. Поднимает. Опять малышня. Ну да ничего, палка у него есть. Кое-какие из этих нынешних мелких ублюдков, это ж головорезы, друг, вот я о чем, если они пронюхают, что ты беззащитен, плюс с парой фунтов в нажопнике – их же штук сорок сразу на тебя сзади набросится! И никаких у тебя шансов не будет. Ни хрена, ни единого.
Он у первого магазина, аптека на другом конце квартала, значит, следующий – мини-маркет; так что давай, топай – ладушки-ладушки слева, стук-постук справа. Сидящая за кассой девчушка приносит ему все, что нужно. От нее он идет в кулинарный отдел, покупает пирожок с мясом. И сжирает его, прямо за дверью. Проглотив последний кусочек, отправляется дальше. Ветер теперь дует в спину, так что идти полегче. Как только войдет в квартиру, сразу в кровать. Иначе башка лопнет. Ему эти симптомы знакомы. Да ты даже не знаешь, сумеешь ли добраться отсюда до дома. Думал, что сумеешь, а потом вдруг выяснилось – не сумеешь. Но он себе такую задачу поставил, на этот счет не боись, он собирается доволочься туда, хотя, если честно, друг, неплохо было бы, ну, то есть он был бы не прочь отдохнуть, неважно сколько, хоть немного, а то ведь легкие, ребра, совсем он замудохался, твой мужчина, этот самый старина Сэмми; и это чистая правда, ты хотела правду? твой мужчина.
Шузы, произносит он.
Никто не отвечает. И спасибо, на хер. Хоть не распсиховался, и то хорошо. Очень был к этому близок, но как-то увернулся, справился. Просто промок до нитки да еще пришлось чертов Лох-Ломонд вброд переходить, но кроме этого, я что хочу сказать, исусе, я ж не жалуюсь, разве кто собирается жаловаться на погоду? Сэмми не собирается, ни хера, друг, старый добрый господь всемогущий, центральная власть, его уже рвать тянет от жалоб, которые он слышит от нас, мудаков, от человеческих существ, тошнит его, на хер, от них, и ты не можешь его винить, кто его станет винить, дайте мужику передышку, ты понимаешь, о чем я.
Просто вот тело, болит и ноет, вроде как у него совсем теперь никакой энергии не осталось, все время в сон клонит – прилечь на чертову кушетку, вот и все, на что ты теперь годен.
Лужа. Лужу придется перейти. Гребаный ангел-хранитель, когда он, мудак, тебе нужен, нипочем его не дозовешься. Может, ему лекаришка какое сонное зелье подсунул. Эх, отдохнуть бы. Отпуск необходим, вот что. Сэмми перестает постукивать, протягивает палку, нашаривая стену. Не боись. Да, вот что ему нужно позарез, отпуск. Был он однажды в Испании. Ну и хорошая домашняя еда, это тоже не помешало бы, старая добрая пища; чашки там с бульоном и прочее. Сэмми роняет палку, та падает, но удара о землю не слышно; он тут же нагибается, чтобы поднять ее, пластиковый пакет болтается на запястье; но палку он находит, поднимает, выпрямляется; крепко сжимает ее, помахивает, чтобы понять – та, не та; нет, все отлично, друг, та самая, старая верная палка, точно тебе говорю, его, ничья больше. Ну что, похоже, пробился. Вот же дичь-то была; хотя чего там, не такая уж и дичь, просто гребаные силы природы, так они же всегда здесь и никакой дрочила управлять ими не может, стало быть, они тебя не нарочно мудохали.
У лифта две женщины, разговаривают о международном положении, они про него программу по телику видели. Интересно послушать. Сэмми надумал сигаретку свернуть, но все промокло, не получилось. Плюс женщины могли возмутиться, если бы он закурил в лифте. А ему их не переспорить. Иногда это удавалось, а сейчас не удастся. Да и вообще, он был бы не прав, а чего ж тогда и спорить, если не прав.
Двери открываются, Сэмми входит, постукивая. Одна из женщин нажимает на кнопки. Седьмой, говорит Сэмми. Ощупывает голову, волосы прилипли. Могло быть и хуже. Жизнь. Жизнь могла сложиться гораздо хуже. И тут он чихает. Извините, говорит, и снова чихает. Извините, говорит, и чувствует, что щас опять чихнет, пытается удержаться, да не выходит, чихает так, что из носу сопли летят. Извините меня, говорит он. И вытирает тылом ладони рот и верхнюю губу. Хотел купить пакет носовых платков, да вот забыл.
Пытка какая-то. Весь в испарине, подмышки мокрые, волосы на груди тоже.
Когда лифт останавливается, происходит странная штука. Одна из женщин говорит Сэмми, что это его этаж, а другая выходит раньше него, однако с приятельницей не прощается, а судя по тому, как они болтали, эти бабы – подруги. Странно как-то. Выйдя на площадку, он останавливается и начинает рыться в карманах, делая вид, будто что-то отыскивает. Шаги женщины стихают за углом. Сэмми прислоняет палку к стене, вытирает досуха руки, сворачивает сигаретку. Все правильно, говорит он.
Закурив, идет дальше, оттягивает дверь, ведущую в коридор, быстро проскакивает продуваемое ветром пространство, сует ключ в замок. В прихожей едва удерживается, чтобы не позвать Элен, потом включает в гостиной камин, пристраивает к нему кроссовки, чтоб те просохли, вытирает полотенцем башку, прикидывает, может, ноги помыть. А то даже и ванну принять. Вот чем нехороша тюряга, ты в ней вечно какой-то липкий, грязный, и когда выходишь, приходится долго драить себя мочалкой. Сэмми развешивает куртку и штаны. Самое милое дело, когда они намокают, – высохнут и после выглядят как отглаженные. Он надевает джинсы.
Ладно, что дальше?
Так-так, до него, наконец, доходит, что он, собственно, делает – он готовится смыться отсюда.
Сэмми собирает грязные носки, трусы, майки, запихивает их в стиральную машину. Белые, цветные, все вместе; Элен же нет, базарить по этому поводу некому. Стиральный порошок. Стиральный порошок, стиральные машины. Сэмми находит вилку, втыкает. Хорошо. А теперь
ну его на хер, никаких «а теперь», теперь чашка чая и кусок сыра. Не всю же одежду стирать, потому как, пока она не подсохнет, ему отсюда не уйти. Это ж не один час может занять, а он хочет уйти ночью. Так что он возьмет плечики, развесит все перед камином; а не высохнут, так и хрен с ними, друг, все равно их в полиэтиленовый пакет складывать. Ладно. Он слышит, как работает машина. И отлично, значит, дело идет. Так что теперь – чашка чая. Нет, в кровать.
Такие вот дела.
Всему свое время.
Это она наверху, слушает фолк, похожий на его музычку; по временам кажется, что этот обычный для танцулек музон того и гляди перейдет в спиричуэле, а то и в джаз, но нет. А может, и не она. Хотя, похоже, уж в этом ты разбираешься; даже шаги на потолке и те ее.
Постель холодная. Будь Элен рядом, он повернулся бы, притиснулся к ней, подобрал бы колени, прижал их к ее жопе, обнял бы, уткнувшись носом в ее затылок, в волосы, в запах, так тепло, кожа к коже, и у него бы встало, медленно, постепенно, неспешно, он бы и не заметил, пока не вклинился бы между ее ягодицами, не протолкнулся бы внутрь, и тут бы она немного подвинулась, неторопливо, как в воскресное утро, почти и не просыпаясь.
Снова трясучка бьет. Сэмми подтягивает колени к подбородку, стискивает одеяло. Может, вирус какой напал, потому как его понемногу охватывает ощущение, что ему хочется только одного – залечь в кровать; а так обычно бывает, когда заболеваешь.
Сэмми вытягивается, переворачивается на живот; спина все еще донимает его, особенно копчик; ничего, подрыхнешь пару часиков, и все уймется; последнее, что ему нужно, так это башку перетрудить.
Сон это вещь; ну ладно:
так, все внимание на пальцы ног, напряг их, расслабил, теперь ступни, напрягаешь и расслабляешь, следом лодыжки, напряг, расслабил, пятки пропустил, напряг пятки, расслабил; дальше голени, нижняя часть, напрягаешь и расслабляешь. Он поворачивается на бок, голени, в самом низу, сконцентрируйся, старые добрые голени, внизу, давай, напряг, ну, напряг же – мать их, подрочил бы, и все дела, но нет, все внимание на колени, напряги колени, Сэмми снова переворачивается на живот, да напряги же ты их, колени-то, вот, а теперь расслабь; может, лучше на спину лечь и начать все сначала. Да ну его в жопу, херня, друг, херня, может, кому-то и помогает, а ему ни фига, не срабатывает, друг, и все, не срабатывает; и всегда оно так, где-то выигрываешь, где-то проигрываешь; ты, главное, не волнуйся, не волнуйся.
В конце концов, Сэмми заснул, и на том спасибо, хотя сколько времени он пробыл в отключке, не знаю, знаю одно, – когда он проснулся, то чувствовал себя все таким же измотанным; веки слиплись, усталость, настоящая усталость так никуда и не делась, так что он проспал еще часок, ну, может, два, два это самое большее. Который теперь час, он не знал, но навряд ли очень уж поздний. И еще одна такая мысль в голове: в нем вроде как ничего со вчерашнего дня и не изменилось, и даже с прошлого октября. Чего бы она такое значила? Наверное, чего-нибудь да значила.
Ну вот, опять, исусе-христе, опять дверь, дверь его и разбудила, исус-господь, это она его разбудила, друг, долбаная дверь, сучары немытые. Сэмми вылез из кровати, натянул носки, начал нашаривать джинсы.
Нет. Не может быть. Он снова сел на кровать. Попросту невозможно. Я чего говорю, не могли же они взять да так и подгадать; он заснул; заснул, на хер; ну, не могли они так здорово подгадать; ну они же не господь всемогущий затраханный, они же просто люди и все, на хер; и ничего больше, обычные люди; кретины ублюдочные, это да, но всего только люди. Так что ладно, по крайности, ты можешь парировать их удары, это дозволено; инициативу ты перехватить не вправе, но хотя бы удары парировать можешь, правда, иногда, чтобы парировать удар, приходится вмазать первым; и ладно, и справедливо, тебя же вынудили, не оставили тебе долбаного выбора, вот ты и вмазал. Про это не всякий знает. Сэмми пожимает плечами. Можно бы и улыбнуться, да улыбаться тут ни хера нечему, такова реальность, вот и принимай ее такой, понимаешь, о чем я, у тебя ж нет выбора, друг, пригнул голову и вперед, такова ситуация. Исусе, как же его трясет, как трясет. Перестань. Не может он перестать. Да можешь, можешь. Он встает с кровати, четыре шажка вперед, четыре назад, чтобы дыхание успокоить, ладно, дыхание успокоилось, теперь натягиваем джинсы, покачиваясь, держась левой рукой за стенку; так, следом майку. Он приоткрывает дверь спальни, вслушивается. Ни хера не слышно. Очень мило с их стороны – хряснули по двери, но все-таки, надо признать, не своротили, могли же и вышибить ее и ввалиться сюда, друг, вот я о чем говорю. Их там небось по крайности четверо, не иначе, четверо, по крайности, не считая шофера. Ну и ладно. Ладно, хорошо, все по-честному. Дело-то серьезное, еще бы, серьезное же дело. Сэмми улыбается, всего на секунду, потом прислушивается снова. И все равно ни фига не слышит. Может, они отвалили, в жопу. Он опять улыбается. А что, цивилизованное поведение, а? старые добрые фараоны проявляют подобие уважения к чужой собственности, тут ты можешь отдать им должное. Он шмыгает. Где эта ебаная палка? У входной двери, на обычном месте. Ладно. Спасибо, на хер, что она хоть покрашена, надо ж соответствовать образу. Он проверяет ширинку; порядок; давай, друг, действуй, вперед. Шузы. В жопу шузы, нет времени. Он выходит из спальни и тут снова хлопает клапан почтовой щели, и Сэмми идет в прихожую. Надо было побриться. Ладно, не важно; палку он отыскал. И произнес, громко: Кто бы из вас, гребаных сучьих кретинов, сюда ни вошел, каждый получит по морде. Он перехватывает палку покрепче, поднимает ее, отводит назад, кладет на правое плечо и отпирает дверь, и сразу отступает на шаг, перенося весь вес на правую ногу, слегка раскачиваясь, плечи в порядке, и колено не слишком напряжено. Проходит минута, и дверь, скрипнув, приоткрывается.
Ты как, Сэмми?
А голос-то знакомый.
Ты как? А? Ты как?
Так это ж Боб, соседушка, и говорит так спокойно.
Сэмми сгибает левую руку, упирает локоть правой в ее ладонь, палка так и лежит на плече, большой палец правой почесывает челюсть. Это ты, Боб? говорит.
Ну да. Ты как?
Да так; ничего, не беспокойся. Сэмми шмыгает носом. Как делишки-то?
Вполне, хорошо. Э-э, тут у меня твой сынишка сидит, с дружком. Пришел повидаться с тобой.
…
Так я его позову, а?
Да, говорит Сэмми.
Щас сбегаю.
Давай.
Ты как, нормально?
Да, да, просто вздремнул малость.
Ага.
Ты не волнуйся, Боб, спасибо… Сэмми ждет, потом прикрывает дверь, но не захлопывает. Прислоняет палку к стене. Уходит на кухню. Молоко. Наливает полчашки, проглатывает, потом наливает еще, доверху, и тоже проглатывает.
Надо успокоиться. Холодная вода. Он открывает кран, плещет водой в лицо, вытирается, наполняет чайник, включает. Чашки с тарелками на столе; надо было их в буфет убрать. Ну да не важно. Все путем. Табак, табак остался в гостиной, на кофейном столике. Он слышит, как открывается входная дверь, слышит шаги, оборачивается.
Привет, пап!
Сэмми хмыкает. Покачивает головой, скребет щеку.
Ты тут?
Да, я здесь! На кухне! Захлопни дверь, ладно? Он улыбается. Поднимает левую руку, приветственно взмахивает ею.
Привет, пап…
Ага, ну как ты, сынок, как ты! Сэмми делает шаг вперед, смеется, протягивает руку; они с Питером пожимают друг другу руки; Сэмми хлопает его по плечу, гладит по голове, обнимает; Как ты? говорит он, ну как ты?
Хорошо, пап.
Все нормально?
Да.
Здорово, это здорово, что ты пришел; да ты расскажи, как ты? как мама?
Хорошо.
О, ну это отлично, просто отлично.
Со мной еще Кит пришел.
Сэмми отпускает сына. Кит… да; правильно. Мы ведь не знакомы, Кит, а? мы с тобой?
Нет.
Ну, вот и познакомились, так? Я старик Питера! Рад тебя видеть. Ты где? дай-ка мне руку! Как делишки, нормально?
Да…
Ты спал, пап?
Ага. Вообще-то спал, прилег ненадолго.
Я стучал, стучал.
Ну, выходит, не так уж и громко!
Громко.
А, ну ладно, все правильно, наверное, громко; я, видать, совсем отключился, уж больно устал. Так. Сэмми потирает ладони: кофе хочешь? Чаю или еще чего – имбирного пива нет… вообще ничего; ни коки, ничего.
Мы фотоаппарат принесли.
Во. Ну да. Да, отлично. Так чего? кофе? чаю?
Нет, пап, спасибо.
Ну чего-нибудь-то попей.
Спасибо.
Нет, чего-нибудь попить надо, сынок. А как твой дружок?
…
А?
Ну, тогда чаю, говорит Питер.
Хорошо; тебе то же самое, Кит?
Да.
Отлично, только пива не проси, потому как пива у меня все едино нет!
Он слышит, как фыркает друг Питера. Скорее всего, просто из вежливости, для дурацких разговоров в этом роде они уже слишком взрослые. Сэмми раскладывает по чашкам пакетики с чаем, наливает кипяток. А, исусе-христе. Сахара-то и нет, говорит он, без сахара будете?
…
Да, отвечает Кит.
Питер?
Да.
Хорошо – все-таки лучше, чем ничего. Ну так, ладно, пошли. Сэмми проводит их в гостиную. Находит табак, садится в кресло. Давно ждете-то?
С полчаса.
Ничего себе. А, кстати, неплохая была мысль, посидеть у старины Боба.
Он сам к нам вышел.
Сам.
Услышал, как мы стучим.
Господи, ну и слух у него! Сэмми облизывает клейкий краешек бумаги; потом закуривает и говорит: Ну, как там мама, сынок? все хорошо?
Да, у нее все отлично.
А дедушка с бабушкой?
И у них отлично.
Хорошо; это хорошо. Ма еще работает?
Да.
Ну правильно, молодец. Сэмми шмыгает. Хорошо… Ну так… ладно, стало быть это тот малый, Алли, с вами связался?
Алли?
Ну, насчет камеры.
Он не представился. Просто сказал, что он твой друг.
А, ну да, дружок, это верно.
Пап, ты ослеп?
Нет! ну то есть я к тому, что это все временно, просто временно, все наладится.
А…
Так что он сказал? Этот малый, что он сказал? Он вам домой позвонил?
Да.
И что сказал?
Да ничего он не сказал.
…
Он сказал, что с тобой произошел несчастный случай.
Но не сказал, что я ослеп?
Нет; это нам уже старик объяснил, тут, в доме.
Ага, понятно. Ну чего, все правильно, он же это видит, он видит. Сэмми пожимает плечами. Так как у тебя со школой? еще ходишь? еще не выгнали!
Нет.
Отлично! И когда заканчиваешь?
После дня рождения.
Все уже обдумал? в смысле, чем потом заниматься?
Пока что нет.
Тебе что, ничего не нравится?
Да нет, почему. Может, пойду дальше учиться, профессию получу. И еще подумываю в военный флот поступить.
Ну его на хер, этот флот.
…
Ну уж прямо и на хер.
Это Кит.
Э-э, это, извини. Я просто, я говорю… нет, там отлично. Только приходится же вербоваться на долгий срок, вот я о чем; я потому и не советую, Кит, зачем это, если ты еще совсем молодой. Конечно, тут уж тебе решать, если тебе так нравится – э-э, Кит, а что говорят мама с папой?
Ну, па говорит, это дело надежное.
Ага. Он что, тоже моряк?
Нет, у меня дядя моряк.
И все еще служит?
Нет.
Ага, понятно… Если ты этого действительно хочешь, тогда ладно, я хочу сказать, это самое главное, если ты этого хочешь, тогда да, сынок, тут ты сам решаешь; я только и говорю, что я на твоем месте, но это ж не я, это ты. Сэмми пожимает плечами. Опять же, если ты потом передумаешь, возникнет проблема, потому как уже будет поздно; если они наденут на тебя эту их форму, понимаешь, о чем я, сынок? тогда уж поздно будет, тогда уже все.
Да нет, мистер Сэмюэлс, от них можно и откупиться. Па говорит, первое, что нужно сделать, это денег скопить, понимаете, и держать их наготове, и тогда, если передумаешь…
А да; да, это правильно; я и не знал, что так можно. Ну верно, если можно, тогда да.
Можно.
Да, тогда хорошо, не страшно. Так ты чего, Питер, действительно об этом подумываешь?
Нет, пап, понимаешь, я просто ходил туда с Китом, на день открытых дверей.
Понятно.
И они там все нам показали, видео и все такое, книги, и рассказывали, как все будет; и там еще был консультант по профориентации.
Ты сказал, что собираешься подумать об этом, говорит Кит. Ну да, я и собираюсь.
А как насчет твоей ма? спрашивает Сэмми. Она-то что говорит?
Ну, э-э, это…
Ты ей уже сказал?
Да.
А она что?
Я ей сказал, что подумываю об этом.
Понятно.
…
Ты можешь и позже решить, говорит Кит.
Могу. Мне просто надо подумать.
…
Могу решить, могу не решить.
Сэмми кивает. Вот это правильно. Вообще-то, если малость подтянуть гайки, на флоте можно и деньжат подкопить. Очень даже. Я знаю одного, который так и сделал; он там, по-моему, лет девять оттрубил – а то и двенадцать, – после подал в отставку, женился, и все у него было путем; по-моему, даже магазинчик купил или еще чего, несколько газетных киосков. К сожалению, большинство ребят все эти деньги на ветер пускают; идут во флот, чтобы скопить башли, а что получается – стоит им прийти в какой-нибудь порт, и они все там спускают. Был у меня такой корешок. Всякий раз, как его отпускали на берег и мы с ним встречались, у него ни гроша за душой не было. Без шуток. У меня деньги клянчил. Я сам тогда на стройке работал, сдельно: так он из меня еще и деньги тянул! понимаешь, о чем я? и вечно-то я ему пиво выставлял, а чтобы наоборот, так это ни разу! Сэмми хмыкает. Да я не возражал, парень-то он был хороший. Они в те времена в таких широких штанах ходили, если ты моряк, значит, их и носи. Не знаю, как теперь… Эй, кстати, совсем забыл, вы, может, голодные, так у меня хлеб есть и сыр.
Нет, пап.
А то могу тосты сделать.
Не, не надо.
А как ты, Кит?
Да нет, я тоже не голоден.
Точно?
Честное слово.
Мне ведь не трудно…
Я раньше никак прийти не мог, пап, ну, никак.
Да ну, не важно. Когда он тебе позвонил?
В полвосьмого.
В полвосьмого?
Как раз перед тем, как мне в школу идти.
Ты трубку сам снял?
Да, ма уже ушла на работу.
Ну да, верно. Она знает?
Нет. И бабушка не знает, и дедушка, я им не сказал.
Э-э, я не к тому, что это так уж существенно. Сэмми пожимает плечами: просто я, ну, удивился, что он тебе позвонил, я думал, он кого-то еще попросит, понимаешь, я же не знал, есть у тебя фотоаппарат или нет, так что, э-э – ну, в общем, хорошо бы он сначала меня спросил.
Он сказал, что мне лучше всего прийти утром или ближе к ночи. Но только ночью я не смогу, вот и пришел сейчас.
А, ну и правильно, Питер, ночью меня бы и не было, я уйти собирался. Так что ты как раз вовремя пришел. Так ты чего, аппарат-то принес, а?
Мы его у мамы Кита взяли.
Понятно. А обращаться ты с ним умеешь, Кит?
Да.
Пап, как это случилось?
Что?
С глазами?
А, это все временно. Долго рассказывать… Сэмми тянется за табаком.
Нет, ну а как?
Ну, что-то вроде несчастного случая, глупость, в общем-то… Слушай, ты табака не видишь?
Он держит руку протянутой, пока не получает табак, вытаскивает бумагу, свертывает сигаретку: Эй, говорит он, надеюсь, вы, ребятки, не курите!
…
А?
Я курю, говорит Кит, а он нет.
Честно?
Да.
Я хотел сказать, знаешь, если ты куришь, я не тот человек, который станет тебя дрючить. Понимаешь, о чем я, Питер, не тот человек.
Так я и не курю.
Он не курит, говорит Кит.
Даже время от времени?
Нет. Я раз попробовал, не понравилось.
Отлично, это отлично.
Как насчет снимков, пап?
Да?
Будем их делать?
Конечно, сынок, валяйте. А что он про это сказал?
Что ты нам сам все объяснишь.
Ну, правильно. Это по-честному. Понимаешь, это все для страховки. Он что же, и этого тебе не сказал?
Нет, он ничего не сказал, только чтобы я ему снимки принес.
Ага, ну, в общем, это для нее, для страховки, думаю, уж это-то он тебе мог бы сказать.
Пап, а он кто?
Э-э, ну, знакомый, корешок, в общем, сам понимаешь.
Он говорит как-то странно.
Да? Чем же?
Мне показалось, что он из полиции.
Из полиции! Сэмми ухмыляется. Так он чего сказал-то?
Да почти ничего.
Например?
Э-э… Не знаю. Сказал, приходи, надо повидаться и все такое.
Ну-ну. А еще?
Спросил, не виделся ли ты с мамой.
Так. И что еще?
Э-э…
Постарайся припомнить.
…
Я к тому, Питер, что если он тебе показался странным, так он, может, еще что-то сказал.
Нет, больше ничего.
Уверен?
Да.
Понимаешь, почему-то же он показался тебе полицейским! Сэмми улыбается.
Вступает Кит: Ты и мне сказал, что принял его за полицейского.
Ну, я не уверен, говорит Питер, просто у него тон такой, как у полицейских. Так что же случилось, пап?
А-а, да так, ничего.
Он сказал, ты мне все объяснишь.
Ну, в общем, правильно, просто все это не так уж и важно, сынок, если честно-то; Алли, он мужик неплохой, только хлопотливый очень и расстраивается по пустякам. Понимаешь, Питер, я споткнулся; зацепился ногой и свалился с лестницы. Несчастный случай. Это на моей последней работе было. Ну, я и подумываю претензию предъявить – для этого и нужны снимки, чтобы их врачам показать и страховщикам. Понимаешь, там не хватало ступеньки, не то чтобы не хватало, она сломана была. Вот я и споткнулся. А домина высокий. Да тут еще леса, я, когда полетел, свалился на них, а там трубы такие, и я об них плечи зашиб, спину. И голову тоже. Жутко больно было! Хотя, вообще-то, мне еще повезло; могло быть и хуже, если б леса не подвернулись; знал я одного парня, старый был мой корешок, так он тоже споткнулся и насмерть расшибся; пять этажей пролетел, мы тогда гостиницу строили. Мне еще повезло, точно тебе говорю. Сэмми пожимает плечами.
А высоко там было, мистер Сэмюэлс?
Да невысоко, сынок, не так чтобы очень; всего пара этажей. Сигарета уже некоторое время как погасла; Сэмми кладет ее в пепельницу: Так что нужно одно только тело, ну, вроде как ребра и в основном спина, там у меня ушибы, их и надо заснять, чтобы все видно было.
Сейчас я все сделаю, говорит Кит.
Там ведь настройки всякие, установки, так?
Да.
Ты в них разбираешься?
Ага.
Лихо. Сэмми снова раскуривает цигарку, откидывается в кресле, тянется за чашкой с остатками кофе. Слышит какое-то движение у окна. Порядок? спрашивает он.
Да, отвечает Кит, это я освещение проверяю.
Здорово. Сэмми шмыгает. Слушай, Питер, а как ма? все еще встречается с тем малым?
Точно не знаю.
А, понятно, ладно!
Пап…
Что?
А как там, в тюрьме?
В тюрьме? Полная жуть.
Я рассказывал Киту, как ты там был.
Да, это кошмар, жуткий кошмар. За нами приглядывали двадцать три часа в сутки, иногда и двадцать четыре! Они сажают тебя с очень неприятными людьми, с умалишенными, с полными идиотами, разговаривать ты с ними не можешь, ну, и вы действуете друг другу на нервы. Чистое убийство, точно тебе говорю. Если не помрешь, считай, повезло, без шуток, хочешь помереть, садись в тюрьму. Многие ребята, которых я знал, так и померли. Потом, там еще есть и такие, кто тебя попросту ненавидит. Ненавидит и все. Без причины. И ты их боишься, приходится все время думать, кто у тебя за спиной. Смерть. Кошмар. Полный кошмар.
Там одни черномазые?
Черномазые?
Так нам брат Кита сказал.
Понятно; ну да… понимаешь, такими словами бросаться не стоит, надо следить за собой… Сэмми шмыгает носом. Знаю, о чем говорю, сынок, за такими вещами надо следить.
Это нам мой брат так сказал, говорит Кит.
Сэмми кивает: Я только одно и говорю, сынок, если людям не нравится, как их обзывают, так и не надо их обзывать; вот и все. Он пожимает плечами.
Ну так что, будем снимать?
Ага, отлично, давайте. Как я уже говорил, мужик, который звонил, он помогает мне все уладить, с несчастным случаем, претензия и все такое. Парень он ловкий, все ходы и выходы знает. Сэмми, продолжая говорить, вылезает из кресла: Чем нехороша стройка, вечно там кто-то падает – ну, я, во всяком случае; предрасположенность к несчастным случаям, вот в чем моя беда, в предрасположенности к несчастным случаям! Так что… Он стягивает майку. Ты сможешь сделать пару снимков, Кит?
Он сказал, что понадобится десяток, говорит Питер.
Десяток?
Так он сказал.
А, ну ладно…
И все под разными углами, говорит Кит. Я думаю доснять пленку до конца. На ней кадров шестнадцать осталось.
Идет, будь по-твоему. Сэмми поднимает руки. Если надо будет походить, скажи.
Нет, просто стойте неподвижно, мистер Сэмюэлс.
Ладно, я просто…
Все нормально, пап, Кит в этом разбирается.
Понятно. Сэмми слышит, как щелкает затвор. В общем, не так уж я здорово и навернулся, говорит он, выглядит оно, может, и плохо, но это ничего, ушибы всегда выглядят хуже, чем они есть. Просто это важно из-за страховщиков, они же собственных докторов приводят, чтобы тебя осмотреть; а их доктора не то, что наши, поэтому и нужны всякие штуки вроде снимков; это все равно как доказательства, понимаете? ты вроде как доказательства предъявляешь. То же самое. Ну, к примеру, они могут сказать, что это не ты, что ты не свои снимки принес, так они могут сказать, это не твое тело! Или еще, допустим, скажут, что ты сам себя ухайдакал, свернулся дома с лестницы или еще как, что они тут и ни при чем, или признают, что при чем, но скажут, что причина совсем не та, про какую ты говоришь, а вовсе другая, у них же куча всяких уловок. Вот потому и нужен человек вроде этого Алли, который все их фокусы знает. А тебе нужны доказательства, чем больше, тем лучше.
Он замолкает. Слышится какой-то шепот. Затвор продолжает щелкать. Вы чего? спрашивает он.
Осталось всего два кадра, мистер Сэмюэлс.
Хорошо, а то чего-то холодновато становится!
Ну вот и все.
Сэмми натягивает майку.
Пап, ничего, если Кит закурит?
Да конечно, господи.
Спасибо мистер Сэмюэлс; хотите сигарету?
Не, я к самокруткам привык, спасибо.
Возьмите!
Нет, не надо.
Вы уверены?
Уверен, да. Сэмми шмыгает носом. Так что насчет снимков, они у вас прямо сейчас получатся?
Нет, надо еще пленку проявить.
Там внизу есть аптека; оставьте пленку мне, я все сделаю.
Питер говорит: Он сказал, чтобы я сам все сделал.
Вот как? а он не сказал, что тебе придется самому за это платить?
Деньги у меня есть, пап.
Так и у меня тоже.
Он сказал, чтобы я отпечатал снимки, а он их потом у меня заберет.
То есть он что же, собирается заявиться в дом твоей бабушки? А?
Этого он не говорил.
Сэмми вздыхает. Это ведь мое дело, сынок, понимаешь, мне не хочется, чтобы твоя мама и дедушка с бабушкой знали о нем.
Не узнают. Честное слово. Он сказал, чтобы я сделал снимки, а в среду он их заберет.
В среду?
Да. Только я… если хочешь, я их тебе отдам.
Знаешь, Питер, может, так будет и лучше. Ну, просто, если – понимаешь, я не хочу, чтобы они узнали.
Так они и не узнают, пап, трубку-то я сниму.
…
Он позвонит завтра в половине восьмого утра. Я отдам пленку на ночную проявку, и к утру все будет готово, там круглосуточное обслуживание.
Все так, мистер Сэмюэлс.
И, как он позвонит, я пойду и заберу их.
А что будет, если он запоздает, а ты в школу уйдешь?
…
Понимаешь!
Пап, мне же все равно, хочешь, ты их забери…
Не в том дело, Питер, просто – ты же знаешь свою маму. Она ж начнет волноваться на ровном месте, сынок. Понимаешь, о чем я? Таких женщин много; и твоя мама одна из них. И бабушка твоя была такая же – господи, не твоя бабушка, а моя, совсем я зарапортовался, исусе-христе, твоя прабабушка, прабабушка твоя! Совсем свихнулся на старости лет. Ну да ладно. Она бы тебе понравилась. Знаешь, у нее всегда что-нибудь припасено было, для мальчишки-то, яблоко или долбаный апельсин, пара монет – помню, я как-то пошел для нее за покупками; может, и не стоит тебе про это рассказывать; в общем, в кармане у меня было хоть шаром покати; а лет мне тогда было примерно как тебе сейчас; и я, вот как Кит, покуривал, так что мне нужен был десяток сигарет, ну и я в магазине, чем покупать-то, спер кое-что… Сэмми хмыкает. Так что без сигарет я не остался. В общем, ладно. Хорошая была старуха, тебе бы она понравилась.
…
Сэмми проглатывает остатки кофе, потом говорит: Может, он и вовремя позвонит. Думаешь, все будет в порядке?
Думаю да, пап.
Сэмми кивает. Погоди-ка минутку… Он уходит в спальню, берет деньги. Вернувшись на кухню, протягивает перед собой руку с двумя бумажками: Сколько тут?
Двадцать фунтов.
Две десятки?
Да.
Хорошо. Он взмахивает одной из бумажек: Держи! на проявку.
Пап, я же говорил, деньги у меня есть.
Сэмми состраивает рожу.
И потом, тут слишком много.
Ну, разделите сдачу между собой.
Пап…
Сдачу разделите. Будет чем за автобус до дому заплатить.
У нас проездные.
Ладно, тогда купите себе долбаную шоколадку, исусе-христе, Питер, сынок, я знаю, что делаю, брось, это всего лишь десятка! Сэмми широко улыбается.
Питер вздыхает.
Ну брось, брось, это всего-навсего десятка, бери!.. Сэмми помахивает банкнотой, пока ее не вынимают у него из пальцев. Вот и ладушки, говорит он. Теперь надо ждать звонка Алли, я уверен, он позвонит. Я к тому, что тебе следует быть осторожным, чтобы никто ничего не узнал. Никто. Только вы двое. Ладно, Кит? Ты и Питер, больше никто. Ни твоя мама, ни папа. Никто. Идет?
Может, он захочет, чтобы мы их почтой отправили? говорит Питер.
Все что угодно, пусть сам решает – хотя, вообще-то, не думаю, чтобы он так захотел; крайне сомнительно. Нет, Питер, тебе придется передать их ему из рук в руки. Сделай это. Ладно?
Ладно.
И чтобы никто ничего не знал; договорились, Кит?
Договорились, мистер Сэмюэлс, я никому не скажу.
Отлично. Да, и еще одно, глаза и все такое, ты и про них маме тоже не говори, сынок, идет?
Не скажу.
На деле-то лучше будет, если ты не скажешь и про то, что виделся со мной. Оно не важно, но так будет лучше. Договорились?
Да.
Понимаешь, просто я думаю, что так будет лучше.
Я не скажу.
Ну и отлично. Тогда ладно… Сэмми откидывается в кресле.
Мистер Сэмюэлс, можно мне в ванную?
Давай, сынок.
Когда Кит выходит, Питер спрашивает: Пап?..
Что? Что?
А ты не в бегах?
В бегах! Нет! Господи-исусе, откуда такая мысль? А?
…
Это тебе тот мужик чего-то наплел?
Нет.
Так в чем дело! Сэмми хмыкает.
Не знаю.
Нет. Я не в бегах.
Питер шмыгает носом. Потому что, если ты скрываешься, я мог бы тебе помочь.
…
Нет, правда, пап, мог бы. Я знаю одно место. Это за нашим кварталом. Старый дом; жилой, но теперь стоит заколоченным, весь. Только люди там все равно живут; и ты мог бы.
Торчки?
Нет. Ну, некоторые, может, и торчки, но там сейчас один мой знакомый ночует.
Знакомый?
Да, ему семнадцать, он в нашей команде играл.
И он не торчок?
Нет. Правда, травку курит.
Но он скрывается?
Да. Собирается скоро уехать; просто выжидает случая.
Куда уехать?
В Англию.
Понятно… Питер, это ты Киту сказал, чтобы он в ванную ушел?
Нет.
М-м… а то его что-то долго нет.
Я ему не говорил.
Да нет, я не почему-либо там, просто на случай, если ты хотел поговорить со мной наедине.
Кит тоже того парня знает.
Понятно. Он твой корешок, Кит-то, а?
Да. И пап, еще знаешь что, у меня есть спальный мешок.
Сэмми кивает. Да, спальный мешок штука удобная… да.
Мне он не нужен, ты можешь его взять.
Сэмми улыбается. Да ладно, я знаю, куда мне податься, если, э-э… Он кивает и улыбается снова. Какое-то движение. Что там? спрашивает он.
Это я к окну подошел.
А… понятно.
А та женщина на работе?
Да.
Она ведь в пабе работает?
Ее зовут Элен, да, она работает в пабе. Сэмми шмыгает носом. Послушай, сынок, то, что я сказал насчет мамы и прочее, ты не подумай дурного; она человек хороший. Просто, ты еще увидишь, ей хочется знать, где ты, что делаешь, ну и так далее. Да ты, наверное, и сам уже это почувствовал, а? Понимаешь, так уж устроены женщины. И бабушка твоя была такая же, я о другой твоей бабушке, о моей матери, если мой старик уходил куда-то, она переживала до самого его возвращения; а стоило ему войти в дом, как она успокаивалась и все было отлично; ты бы ее только видел! места себе не находила. Без шуток!
…
Или вот возьми меня с твоей матерью, мы были молодые, ну, сам понимаешь, ситуация сложилась странная, необычная ситуация. Я к тому, что я же в крытке сидел. Понимаешь, мы с ней встречались, пока меня не упрятали. А я, когда вышел, вернулся обратно в Глазго, и мы вроде как начали с того места, на котором остановились. Но я знаешь, что думаю, не попади я в тюрьму, а так вот и останься здесь, то, если честно, не думаю, чтобы мы поженились, понимаешь, о чем я, думаю, мы просто разошлись бы, пошли каждый своим путем; потому что так оно и бывает, я только об этом и говорю.
Открывается дверь. Входит Кит.
Я тут как раз рассказывал Питеру про меня и его маму, что вот, поскольку я сидел, все нам представлялось по-другому.
…
Питер говорит: Пап, я понимаю, о чем ты.
Сэмми кивает. Я не хочу вдаваться в эти дела, я просто, чтобы ты знал, ну, вроде как, будь я на твоем месте, я предпочел бы знать. Потому что, в общем-то, ничего тут страшного нет, на самом-то деле, ну, в том, что мы с твоей мамой разошлись – извини, что затеял этот разговор, но ты же понимаешь – это все тюрьма! Точно тебе говорю, она мозги сворачивает, просто сворачивает мозги. Губит человека. Любого, кроме обычного! А знаешь, что такое обычный человек! А? Знаешь, что такое обычный человек? Да вот ты и есть – обычный. Сэмми ухмыляется: Если б меня не взяли в то время, и тебя бы сейчас здесь не было! Хотя, кто знает, может, и был бы! То же и с тобой, Кит, если б это был ты, твои папа и мама, никто ведь ничего не знает. Я не шучу, дичь, полная дичь. Понимаешь, дети же все меняют. Сэмми хмыкает. Честно! Вы самые. Думаете небось, что я бред несу, ан нет! Можно даже сказать, оно и хорошо, что я в тюрьму попал.
Пап.
Можно. Очень даже можно.
Это уж чушь, пап.
Да знаю я, и все-таки. Сэмми шмыгает. Он уже скрутил сигаретку, теперь закуривает. Я тебе одно скажу, говорит он, в бегах я никогда не был. Брали меня дважды, но от полиции я никогда не скрывался. Я в аккурат этим и занимался, когда меня взяли, шел на дело. Так что все по справедливости, я о том, что фараоны меня сграбастали. Но я от них не бегал. Они просто, на хер, знаю, о чем говорю, – просто взяли меня с поличным. На месте преступления. Ничего такого уж крупного, могу тебе сразу сказать, но разница тут есть. Сэмми пожимает плечами. Как бы там ни было, сам виноват. Так я ничего другого и не говорю; мне следовало затаиться. Потому как, если они не знают, что ты и где, так они этого и не знают. А стоит тебе пошевелиться, ты им словно бы извещение посылаешь. Приходите, ребята, берите меня, понимаешь? так что надо быть очень и очень осторожным, очень и очень… Сэмми облизывает губы, растирает шею, и там щетина.
Что происходит, па?
Да ничего. А что?
…
Сэмми затягивается, выпускает дым. Со мной вот какое дело, говорит он, ладно уж, тебе сказать можно, я собираюсь уехать.
Ух ты, пап.
Вернуться в Англию.
Пап.
Попробую найти работу, ну и так далее, понимаешь? Привести себя в порядок, глаза и все прочее.
Ух ты, пап.
Да нет, это все пустяки, просто сейчас так будет лучше всего, потому что при том, как оно здесь все складывается, понимаешь, о чем я, мне здесь ни хрена не светит, ни хрена, вот так, я о том, что, если тебя замудохали, значит, надо смываться, и все, я только об этом и говорю, сынок, надо уезжать, ты же не можешь всегда… Ну, что ты можешь сделать, понимаешь? ты же не можешь всегда делать, что тебе хочется. Ну вот, поэтому я и хочу уехать.
Пап, это не из-за той женщины?
Какой женщины?
Ну, этой, твоей подруги.
Вовсе нет, о чем это ты?
А почему же ты тогда уехать хочешь?
Так я уже сказал почему.
И она с тобой поедет?
Да; видишь ли, Питер, она и я, нам хорошо друг с другом. Как только я все улажу и прочее, то дам ей знать и она приедет. Нет, правда, нам с ней хорошо. Ну вот как твоей матери и тому мужику, с которым она встречается; тут ведь вся соль в чем, в отношениях между людьми, а это странная штука; вот погоди, подрастешь, сам узнаешь – и ты тоже, Кит, точно тебе говорю, странная штука, ничего в них понять нельзя, они просто складываются сами собой.
У меня старший брат развелся, говорит Кит.
А сколько ему?
Тридцать.
Тридцать? Угу – а ты самый младший, что ли?
Да.
Много у тебя братьев и сестер?
Пятеро.
Пятеро, да, это здорово. Целая команда, а? Сэмми улыбается. Ну вот, говорит он, главное, Питер, ты ведь теперь большой, так что я буду держать тебя в курсе, письма тебе буду писать.
…
Идет?
Пап?..
Что? Что такое?
Тебя избили?
Да нет, ничего подобного. Что за херня, Питер?
Я просто подумал.
Сэмми улыбается.
Когда ты уезжаешь?
Да скоро, скоро уже.
А сколько тебя не будет?
Это уж как получится.
Если ты ничего не видишь, как же ты работу найдешь? Никто ее тебе не даст.
Найду, как только видеть начну, я об этом и говорю. Конечно, первой работу найдет Элен, а я просто пособие буду получать, по болезни, пока все не выправится. А это может случиться и завтра, и на следующей неделе, и через неделю, кто знает.
А врач ничего тебе не может сказать?
Да в общем-то, нет; потому и нужен этот мой корешок, который звонил тебе насчет снимков, он ни одной мелочи из виду не упустит, ну, выходит, и хорошо, что он мне подвернулся.
Кит спрашивает: А он что-нибудь уже делает?
Что именно, сынок?
Я не знаю…
А, ну да, делает, конечно, помогает мне страховку получить.
А.
Потому как самому этого трудно добиться, Кит, и опять же, одна голова хорошо, а две лучше. Тут важно знать все их уловки, это ж такие хитрые ублюдки. Я в основном потому и хочу смыться – потому что они этого не ожидают. Питер вот спросил, не в бегах ли я, нет, я не в бегах, но убраться отсюда мне надо, иначе дело мое забуксует.
…
Понятно?
Да.
Понятно, Питер?
Это ужасно.
Ужасно, но надо – значит, надо.
…
Сэмми слышит вздох сына и пожимает плечами: Один из тех случаев, сынок, понимаешь, о чем я, когда ничего нельзя поделать.
Пап, помнишь, ты хотел показать мне на кухне одну вещь? Покажи сейчас.
Что?
Ты ведь хотел показать мне одну вещь, на кухне?
А, да, ну, если ты можешь ее починить, тогда пойдем, посмотрим… Сэмми идет к двери, Питер уже прошел на кухню, дождавшись, когда Сэмми войдет, он притворяет дверь. Пап, говорит он, я с тобой хочу.
О господи.
Пап, правда.
Ну да; но только тебе нельзя.
Я правда хочу, пап.
Нельзя, сынок, честно.
Почему?
Просто потому что нельзя. Не годится; но я был бы рад.
Почему же нельзя?
Потому что не годится. Года через два, если я там осяду, может, и раньше, кто знает. Надо посмотреть, что из всего этого выйдет.
Пап.
Послушай, я буду держать тебя в курсе, обещаю, серьезно; идет?
…
Теперь все по-другому, ты теперь подрос, в прошлый-то раз совсем малышом был.
…
Совсем малышом, Питер.
Да, пап, просто я думал, что мог бы помогать тебе, пока ты все улаживаешь; я не собирался остаться с тобой насовсем.
Конечно, Питер, но понимаешь какая штука, тебе лучше сначала школу закончить, потом профессию получить, а уж тогда. Потому что тебя они не тронут, не смогут тронуть. Плюс видишь ли, мне же нужно обосноваться, вот я о чем думаю, дело не просто в тебе, жилье надо найти и все такое, а одному это проще. Потому и Элен со мной не едет, я же должен сначала обосноваться. А после уж ее вызвать. Может, она приедет, может, нет. Думаю, что приедет, но ведь всего же не знаешь, в этом-то мире. Понимаешь, о чем я? Ты заканчивай школу, профессию получи, а тогда уж, если у тебя желание не пропадет. Хотя меня там, может, уже и не будет, я, может, домой вернусь. Ну а если буду, тогда все, конец истории: захочешь приехать, так и все, отлично, хочешь, на пару месяцев, хочешь, навсегда, отлично, не боись, это будет просто роскошно, точно тебе говорю. Я ведь о чем толкую-то, надо годок переждать, чтобы все устаканилось. А после я обговорю все с твоей мамой, это я обещаю. Обещаю. Я свое слово держу, Питер, особенно с тобой. Ну-ка, давай пять!
Они жмут друг другу руки, и Сэмми говорит: Я ж не знаю, может, я уже через пару месяцев вернусь сюда. Без шуток. Зависит от того, как дело пойдет. И еще одно: этот мой приятель, после того, как получит снимки, наверняка будет и дальше к тебе приставать. Но ты ему не рассказывай ничего, о том, что я тебе сейчас говорил, ничего не рассказывай. Насколько тебе известно, я все еще здесь. Договорились? А?
Да.
Плюс если кто другой полезет к тебе с вопросами, все то же самое. Ничего никому. Никому вообще. Идет? Никому, сынок, понимаешь?
Да.
И послушай, господи, если все-таки проболтаешься, не переживай, это еще не конец света; я ведь что говорю, если мы так все устроим, будет лучше, потому что позволит мне малость передохнуть, вот и все, и ничего тут больше нет. Но это не так уж и важно, это не проблема. Лады?
Да, пап.
И хорошо.
Пап, а деньги у тебя есть?
Деньги? А как же, деньги у меня есть.
Потому что у меня тоже есть кое-что. Они в моей спальне, их легко оттуда забрать.
Питер, сынок, спасибо, но мне и моих хватит, спасибо.
Пап, они же мне не нужны.
Сэмми вздыхает.
Честно. Возьмешь их?
Нет.
Почему?
Потому что я и без них обойдусь.
Так ведь и я тоже. Обойдусь, пап. Правда.
Сколько у тебя?
Восемьдесят фунтов.
Восемьдесят фунтов? Ты что, в тотализатор выиграл?
Нет.
Это ж большие деньги.
Да ну, пап, просто деньги, пришли и ушли. Я могу забрать их и отдать тебе. Честно. Это легко, они у меня в спальне лежат.
…
Хорошо?
Да; да, Питер, хорошо, они мне пригодятся. Но ты точно уверен?
Честное слово, пап. Мне только надо будет сходить с Китом пленку сдать, а потом вернуться к ужину домой.
Но после ты еще сможешь выйти, так?
Не раньше семи.
А сейчас сколько?
Сейчас около пяти.
Понятно… Ладно. Сэмми направляется к двери: Пошли обратно в гостиную.
Питер идет следом за ним.
Ты еще здесь, Кит! Сколько, говоришь, времени-то?
Пять часов, пап.
Уже больше, это Кит.
Отлично, говорит Сэмми, это отлично. Значит, у меня есть минут десять на сборы. Мы вызовем от старика Боба такси. Но прежде всего вот что: в кухне на столе лежит хлеб и пакет с сыром. Сделайте из них бутерброды; в холодильнике есть тюбик маргарина. Сделаете?
…
Ладно, как говорится, по местам стоять, орудия к бою.
Сэмми сразу же оставляет их, уходит в спальню. Штаны и куртка все еще сыроваты, да ничего не попишешь, надо будет аккуратно уложить штаны в сумку, все равно он думает джинсы надеть. Обидно, конечно, столько всего насобирал, а взять с собой ничего не может. Ну и не важно, бери только то, что сможешь. И быстро, быстро и толково. Одно определенно, если ты начинаешь вертеться, то и они тоже. Но не боись. Не боись. Снова в путь.
Музыка! Он кричит в сторону прихожей: Кто-нибудь, поставьте кассету!
Они небось и не знают, кто такой, на хер, Вилли Нельсон. Господи, и проголодался же он, сейчас бы бутерброд. Обожди минуту, будет тебе бутерброд.
Так. Носки и прочее. И поспокойнее, быстро, но толково, быстро, но толково. Правильно. Хорошо. Значит, носки и прочее, трусы и майки, трусы и майки.
Он уже укладывает их, когда кто-то стукает в дверь. Да? говорит он.
Пап, это я. Ты знаешь, что в стиральной машине всякие вещи лежат?
Да.
Ладно, а то я не был уверен.
Да ты не волнуйся, Питер, у меня здесь всего довольно, а те я в другой раз заберу.
Тогда я их выну?
Э-э, если хочешь, я к тому, что они ж все равно мокрые, так что и не важно.
Хорошо. Дверь закрывается.
Сэмми и забыл совсем об этом долбаном дерьме, друг, думал, что все уже вынул, Христос всемогущий, но это не проблема, это не проблема, не может же он обо всем, на хер, помнить, да и какого хрена, какая, ад задроченный, разница, никакой, когда отправляешься в путь налегке, забываешь про долбаную одежду, которая у тебя, друг, там где-то стирается, и ладно, и ладно; все едино это по большей части старье; ну, может, пара хороших рубашек, кто знает; ладно: он отлично справляется. Документация; все эти удостоверения личности, деловые бумаги.
Он присел на кровать. Одежда и прочее лежали в ящиках комода. Он перебрал их по порядку, так что все путем. Господи, одежды у него маловато, он же не всю ее взял. Но тут ничего не поделаешь, выбора нет. Нетути. Плюс надо оставить руку свободной, для палки. Так что ладно. Ну, что еще. Ничего еще. Тогда вставай. Он идет в прихожую, окликает Питера.
Да?
Сходи позвони. Скажи старине Бобу, что я собираюсь в бар «Глэнсиз». Бар «Глэнсиз», запомнил? Он вообще-то мужик хороший, не хочется мне ему врать; просто другого выхода нет, придется. Так что скажи – бар «Глэнсиз». И попытайся всучить ему пенсов двадцать – найдутся у тебя?
Найдутся.
Он не возьмет, но ты все равно попытайся. Да, и такси требуется сию же минуту. Идет?
Да.
Так куда мы двигаем?
В бар «Глэнсиз».
Правильно. Нет, лучше скажи, через четверть часа, такси понадобится через четверть часа. Теперь еще одно, это важно, в такси я поеду один, а вы с приятелем отправитесь на автобусе домой, чтобы поспеть к ужину. А я собираюсь кружку пивка пропустить. Это ты так Бобу скажешь, папе нужно такси, чтобы добраться до бара «Глэнсиз», ну правильно, вот ты и вызываешь его, чтобы оно меня в «Глэнсиз» отвезло, а сам автобусом едешь домой. Ты понял?
Да.
Важно, чтобы ты сказал ему именно это, Питер.
Да, пап, хорошо.
Ну давай, до скорого.
Сэмми выключил музыку. Потом съел бутерброд с сыром, а остальные сложил в два пластиковых пакета, один сунул в карман куртки, другой – в боковой карман сумки. И набил туда же кассеты, сколько влезло. Кроссовки стоят у камина, он обувается. Умывальные принадлежности. Сэмми забирает их из ванной. И два долбаных полотенца, друг, они тоже понадобятся. Толстые, черти, это плохо. Надо еще выходную рубашку достать. Хотя… Не одну, две. Ну ладно, что тут поделаешь; он застегивает молнию сумки.
Блокнот: он в гостиной, надо оставить Элен письмо. Абсолютно необходимо, ну, просто, абсолютно, на хер, необходимо. Он пишет крупными буквами, медленно, чтобы наделать поменьше ошибок. Справляется в два приема. В первый раз у него получилось: Дорогая Элен, я уезжаю отсюда. Нужно кое-что уладить. Прости меня за то, что произошло на прошлой неделе. Испортил все, как обычно. Это было недоразумение, мы просто не поняли друг друга. Не стоило тебе уходить из дому. Я еще напишу.
Это письмо он комкает и пишет другое: Дорогая Элен. Я ненадолго уезжаю в Англию. Необходимо кое-что уладить. Очень скоро напишу тебе, и пожалуйста, прости меня за случившееся на прошлой неделе. Не стоило тебе уходить из дому. Напишу, как только смогу. С любовью, Сэмми.
Хотел и это скомкать, но удержался. Какой смысл. Тем более он и не помнит, что написал. Суть правильная, хорошая суть; иначе и быть не может.
Сэмми шарит по столу в поисках скомканного письма и, отыскав, запихивает в задний карман джинсов. А хорошее складывает. Приписывает сверху: (помнишь ту песню Криса К, вынь эту ленту из волос).
А, мать-перемать, зачеркни! для какого хера ты это написал. Нет. Оставь. Оставь.
Исусе-христе. Не время, ну, не время же. На хрен, друг, долбаная
Табак, где он, куда он, к дьяволу: Кит! Кит!..
Да, мистер Сэмюэлс?
Ты не видишь, тут табак нигде не валяется?
Э-э… Может, хотите одну из моих сигарет?
Да; да, давай; спасибо, сынок.
Огоньку?
Да. Мальчик дает ему зажигалку, он закуривает и спрашивает: Ты вообще-то чем сейчас занимаешься, сынок?
Ничем, вам что-нибудь нужно?
Выпить, на хер, вот что мне нужно. Сэмми улыбается. Слишком много ругаюсь, да? Понимаешь, Кит, может, поищешь его, табак-то; он где-то валяется, не то здесь, не то в спальне; на кухне, я не уверен. А?
Хорошо.
Черт бы их подрал, мои глаза.
Мальчик уходит. Сэмми сидит с минуту, потом находит конверт, засовывает внутрь письмо, заклеивает и, надписав на конверте имя Элен, прислоняет его к стене на каминной доске. Кит возвращается с табаком. Сэмми говорит: Видишь письмо на камине, сынок, какое там имя написано?
Э-э… Элен Макгилвари.
Правильно. Так, сколько сейчас времени?
Около шести.
Исусе-христе! Куда, задроченный ад, Питер-то запропастился?
Еще не вернулся.
Небось, старина Боб его долбаным супом потчует.
Сходить за ним?
Да. Нет, принеси из спальни сумку, она на кровати стоит. И поставь ее у двери.
Алли писать бессмысленно, он собирался, да смысла нет; дело не в доверии, Сэмми ему доверяет, постольку-поскольку, постольку-поскольку, друг, доверяет; дело ни хрена не в этом.
Просто, чтобы ему объяснить. На хрен, друг, он не может думать, не может в это углубляться. Алли его отсутствие все едино не помешает, он так и будет дальше возюкаться с долбаным завещанием, или как его там: в случае, если, в случае, если. Ну и правильно. Вот тебе и случай.
Слышно, как открывается дверь, Питер вернулся. На хрен, друг, он встает, отключает камин. Ну все, время. Сэмми пожимает плечами.
Пап, пришлось несколько раз звонить, все время занято было.
Пустяки.
Я потому и так долго.
Да ладно, сынок, пустяки. Ну что, все?
Не знаю.
Кстати, насчет этого мужика, ему еще кое-что нужно сказать, ну, когда он за снимками придет, не помню, говорил я тебе, скажи ему, что я с тобой свяжусь; так и скажи, я обещал непременно с тобой связаться.
Ладно. Кит понесет твою сумку.
Хорошо, правильно.
Я сказал, что такси должно отвезти тебя в паб.
О, господи-боже, Питер, отлично, да, молодец.
Машина придет минут через пять-десять.
Хорошо, отлично… Сэмми проверяет карманы; деньги на месте. Ну что же, говорит он, тронулись, на хер. Выключите свет. Весь, по всей квартире. Плюс штепсели, их тоже выньте. Оставьте только холодильник. Знаете, пленку можно на проявку и завтра сдать, лады? Всей-то разницы один день.
Конечно.
Умница Питер, отличный ты парень, я это всегда говорил. Сэмми хлопает его по плечу. Ну, по местам, орудия к бою; свет, штепсели, да, сходите в ванну, краны проверьте. Плюс все окна – посмотрите, закрыты ли. И задерните шторы. Каждый берет по комнате. И вообще, все, что сможете придумать. Все. Кстати, там никого не видать? снаружи в коридоре?
Например?
А, не важно, вообще-то не важно. Ладно, по комнатам, по комнатам.
Сэмми надевает темные очки, берет палку с сумкой, стоит, ожидая мальчиков, у двери. Они выходят, Сэмми запирает замок на два оборота. Хорошо. Пропихивает ключи в почтовую щель. Так надо. Ну вот и все. Он пожимает плечами. Ветер все еще дует. Чертова сумка, тяжелая-то какая; хотя, в общем, не такая уж и тяжелая.
Мальчики идут впереди, дойдя до конца коридора, придерживают для него дверь открытой. Сэмми выходит. Черт, ну чисто полицейские и воры, а! говорит он, вот же дурь. Хотя запомните, если увидите кого, кого-нибудь, мне, по-вашему, незнакомого, подозрительного, кого угодно, свистните мне.
Пока они дожидаются лифта, Кит предлагает ему еще сигарету.
Нет, спасибо, сынок, не надо, но все равно спасибо… Сэмми стоит слева от двери лифта, у стены. Я вот тут буду стоять, понимаете, когда откроются двери…
Приходит лифт, Сэмми умолкает, но с места не трогается; двери открываются, внутри никого, Сэмми, тряхнув головой, входит внутрь. Да, так вот, говорит он, я просто хочу сказать насчет того, что уже говорил, ну, что если увидите кого и так далее – не берите в голову, такой уж я параноик.
А вот этого говорить не стоит, так что он затыкается. Плюс если они здесь, друг, так они, на хер, здесь, понимаешь, о чем я, для мальчиков это будет ужасно, ну да что уж, тут он ни хера помочь не может, ни хера ты тут не поделаешь.
Одно точно – как только ты смоешься, они тут же и объявятся. Можешь не сомневаться, объявятся, на хер, сбегутся с охеренной скоростью. Может, удрать через черный ход. Бессмысленно, на хер. Мы выйдем через парадную, говорит он, просто выйдем через парадную дверь. Понимаете, о чем я, ребятки, уйдем, как джентльмены. Он хмыкает. Годится, Питер? А? Кит? Гребаные полицейские и воры, а, без шуток!
Лифт останавливается, они выходят. Сэмми крепко держит ручку переброшенной через плечо сумки, голова опущена, палка постукивает то справа, то слева. Отлично. Как бы там ни было, отлично. Хорошо тоже, что он поспал, сон творит чудеса. Свеж, как долбаный огурчик, и даже в голове прояснилось. Нет, тут еще тот факт, что он упражнения регулярно делал, помаленьку, то одно, до другое, а это здорово помогает, держит тебя в форме. Плюс дождь перестал и ветра, почитай, нету; тоже хорошо; ну, неплохо, друг, совсем неплохо. Это такси, произносит он, оно должно ждать нас у аптеки. Так?..
Он говорит вполголоса, и мальчики прерывают разговор. Они, скорее всего, беседовали с той минуты, как вышли из дому. Сэмми не обращал внимания, слышал, что разговаривают, а о чем – не слушал. Да, кстати, сынок, говорит он, какой паб ближе всего к бабушкиному дому?
Таверна «Лебедь».
А, да, черт… старина «Лебедь»… так-так.
Вы в нем когда-нибудь бывали, мистер Сэмюэлс?
Пару раз, да; я и мама Питера, когда любовь с ней крутили; там по выходным музыка играла, хороший состав. Да, это здорово было. Понимаешь, о чем я, когда тебя знают в лицо, сынок, когда тебя знают в лицо. Да, старина «Лебедь»…
Теперь там шпаны полно, пап.
А, ладно, ее там и раньше хватало, Питер, но я ж говорю, если тебя знают в лицо… Ладно, теперь мы на минутку остановимся, мне надо сказать вам пару слов, вам обоим.
Слушай, пап, там какие-то люди у дома.
Не важно… Значит, так, вы просто послушайте меня, молча. Сэмми опять говорит вполголоса; он снимает очки, сует их в карман.
Человек шесть-семь, шепчет Питер.
И пусть их, не говори ничего, это не важно, мы им не интересны. Стало быть, Кит, начнем с тебя, ладно, просто слушай, сынок, как я уже говорил; где ты?.. Ага, отлично, возьми-ка у меня палку ненадолго… а я буду держаться за руку Питера… так, не волнуйся; порядок. Значит, Кит, просто неси ее, как будто это бильярдный кий или еще что; пика, понимаешь, о чем я, неси этак естественно и топай вперед, нас с Питером не дожидайся; и если увидишь там такси, не обращай на него внимания, вроде как ты его и не видел, иди себе мимо, потому что я в него все равно не полезу, так что проходи мимо, я не хочу даже знать, есть там такси или нету, поэтому не оборачивайся и ничего мне не говори, просто иди и иди, не оборачиваясь, к большой улице; встретимся на первой автобусной остановке, какая тебе попадется, потому как мы будем идти за тобой, а на такси наплюй, даже если оно уже ждет, все равно иди мимо, к улице; ну, давай, вперед, с тобой все, так что шагай… ходу!.. Так, теперь ты, Питер, остались мы с тобой, и, значит, мы что делаем, мы прогуливаемся, не слишком медленно, но и не слишком быстро, спокойненько так, спокойненько… Ну, вот, правильно… точно, как я сказал, если такси уже ждет, мы на него и не смотрим, а идем дальше, мы про такси знать ничего не знаем и знать не хотим. Так что не останавливайся, ничего мне о нем не говори, даже локтем меня не подталкивай, потому как не важно, ждет оно или не ждет, мы с тобой просто прогуливаемся, до остановки автобуса. Как там нынче мама-то, как она себя чувствует, хорошо…
Они уже сворачивают за угол у аптеки, если машина пришла, то должна быть здесь. Где-то поблизости урчат два автомобильных мотора, но точно ничего не скажешь. Идут дальше, Сэмми держится за локоть Питера, и когда ему кажется, что уже можно спросить, он шепчет: Слушай, сынок, мы где теперь? на главной улице?
Да.
Ты мне скажи, как до остановки дойдем.
Спустя недолгое время Питер шепчет: Дошли, пап.
Людей много?
Нет, только Кит.
Хорошо, не останавливаемся, топаем себе.
Сэмми негромко продолжает: Кит… Ты тут? топаем дальше, сынок. Ладно? Иди с другого бока от Питера и неси палку, я ее потом заберу, пока она мне не нужна, я тебе после скажу… Знаешь, это ведь швабра, я у нее головку отрезал, а Боб ее для меня покрасил… хороший старикан, не хотелось ему сказки рассказывать, да ничего не поделаешь, где-то находишь, где-то теряешь… Сэмми улыбается. Все это, что я сейчас делаю, похоже на бред; ну да не важно, совсем не важно, просто так надо, так надо. Ну вот, теперь нас интересует только одно – мотор, свободное такси, вот что нам требуется, так что, если увидите одно, крикните ему, потому как его-то нам и надо, и ничего больше, больше нас ничего не интересует, даже слышать ни о чем не хочу, ни о мужчине, ни о женщине, ни о кошках с собаками, ни о чем, кроме как о такси, такси мы возьмем, если оно свободно, а если нет, то и не возьмем; это ж очевидно, так – и кстати, какой нынче паб ближе всего к «Лебедю»?
Э-э…
Ладно, не важно.
Кит шепчет: «Лев и Барабан», мистер Сэмюэлс.
Хорошо; теперь, значит, палка, сынок; хотя нет, ничего, забудь, просто неси ее, как я тебе сказал, вот так, отлично… Ну, может, когда будем садиться в такси, когда увидим, что оно приближается, как будем в него садиться, ее хорошо бы спрятать, Кит, понимаешь, если у тебя, конечно, получится… потому что, если не получится, то и ладно, если не получится, она же большая; ну, просто, если сможешь сделать, чтобы водитель ее не увидел, тогда здорово, и когда вылезать будем, тоже, когда из такси вылезем, просто, если это возможно, а невозможно, так и пусть ее, все путем, волноваться не о чем. И еще, Питер, сумку ты из такси вынесешь, лады?
Да.
Хорошо… Господи, как повезло-то, дождя нет! Знаешь, меня этим утром промочило, к чертям, насквозь.
Скоро появляется такси. Сэмми садится впереди, велит водителю отвезти их на Центральный вокзал, к боковому входу на Хоуп-стрит, если можно. Питер залезает в машину последним. Хлопает дверца. Сэмми откидывается на спинку сиденья, вздыхает. Приятно хоть немного побыть в мире и покое, произносит он, тут и говорить не о чем, хорошо.
Когда такси останавливается у вокзала, Сэмми подталкивает сумку к Питеру, одновременно вручая водиле бумажку, а получив сдачу, дает ему пятьдесят пенсов на чай. Нащупывает ручку двери.
Порядок, пап, шепчет Питер и, пока Сэмми выбирается из машины на тротуар, придерживает его за руку. Стукает дверца. Мгновение спустя такси, визжа покрышками, уезжает.
Ну вы, ребята, молодцы! ухмыляется Сэмми; вы оба! Он хлопает в ладоши, хмукает. Вот и мы. Приехали. Давай сюда сумку, сынок.
Я понесу ее, пап.
А, ну ладно, ладно, оно и для мускулов полезно; пока за угол не свернем. Ну, где моя старая, верная палка, Кит, у тебя? Небось забыл ее, к чертям собачьим, в такси!
Вы шутите?
Какие тут шутки, ну-ка, давай ее сюда и нечего чушь-то молоть! Сэмми улыбается. А как твоя камера, сынок, при тебе?
В кармане лежит.
И правильно, и хорошо. Значит, теперь мы малость пройдемся, ребятки, малость пройдемся, до стоянки такси на Гордон-стрит. Дай-ка мне локоть, Кит, а твой корешок пускай волочется сзади с сумкой.
Да она не тяжелая, пап.
Нет? ну и прекрасно.
Когда они сворачивают за угол, Сэмми останавливается и бормочет: Ну, теперь снова полицейские и воры, давай сюда сумку… Он забрасывает ее за плечо. Так, еще пару шагов… Постукивая палкой, Сэмми отыскивает стену вокзала и негромко произносит: Вы сядете в первое такси, а я во второе. Вот тебе десятка, Питер, ее хватит и на то, чтобы пленку проявить. Много там машин ждет?
Да, пап, несколько штук.
Хорошо; значит, прямо до своих домов не езжайте, поняли, сойдите где-нибудь между ними. Лады? И кстати, могу поделиться с вами премудростью, задаром, все это полезная тренировка – перед службой на долбаном флоте; понимаете, когда вы туда попадете, вам придется тратить большую часть времени на то, чтобы уворачиваться от кретинов-начальников, точно вам говорю, они считают вас своими слугами, а это охеренно раздражает, так что лучше потренироваться загодя, научиться растворяться прямо в воздухе. Так… дальше: Кит – держи опять палку, возьми ее домой. Потом, когда встретишься с Питером, принесешь обратно. А я заберу ее у тебя в «Лебеде», потому как туда я и направляюсь, там пока что побултыхаюсь, так что, как сможете, сразу приходите туда. Только особенно не спешите, потому как я, ребятки, хочу по крайности две долбаных кружки уговорить, точно вам говорю, меня от всей этой беготни жажда замучила. Да нет, шучу; как сможете, так и придете. Ну и, ясное дело, это я насчет такси, – никаких имен; разговаривайте о футболе, о телике, о девчонках, понимаете? о чем угодно; этого вам можно и не объяснять, верно?
Он слышит, как фыркает Питер, и улыбается: Чего ты там, на хер, хихикаешь?
Ничего, пап, извини.
Потому как я эти хиханьки пуще всего на свете ненавижу; без шуток, сынок, лучше не заводи меня – никаких хлебаных хиханек! Сэмми все еще улыбается, потом становится серьезным: Кстати, сколько сейчас времени?
Двадцать минут седьмого, мистер Сэмюэлс.
Так, понятно. Значит, к ужину вы оба опоздали. Придется вам выдумать какое-то оправдание. Жаль, что так вышло, да ничего не попишешь. Знаешь, Кит, я передумал; давай-ка мне палку, сынок… спасибо. Понимаешь, пусть она лучше будет при мне; в пабе, может, народу полно, не хочется мне спотыкаться об ноги тамошних мудаков. Сэмми шмыгает носом. Ну так что? Всем все понятно? А?
Да, пап.
Хорошо, тогда топайте, увидимся позже; и помните, я жду вас в «Лебеде».
Он снимает сумку с плеча, ставит ее между ног, зажимает палку под мышкой левой руки, сворачивает цигарку. Но не закуривает; ждет с минуту, потом надевает очки, поднимает сумку и направляется к стоянке такси.
Таксисту он называет квартал, в котором живет Питер. Правду сказать, если бы не нужда в деньгах, он бы туда вообще ни хера носа не показал. Да выбора-то у него нет. Какой уж тут выбор. Плюс тот факт, что кому же приятно тянуть башли из собственного ребенка. Ни одному мудаку не приятно. Ну да раз надо, значит, надо; конец истории; такие уж дела, так что ладно; он наклоняется, говорит водителю: Слушай, друг, знаешь таверну «Лебедь»? отвезешь меня туда?
Название другой забегаловки он не запомнил. Что, собственно, и не важно на данном этапе. Сэмми наклоняется снова: Ничего, если я покурю?
Э-э, нет, вообще-то, не стоит – извините.
Ничего, не беспокойся, все в порядке… Сэмми шмыгает носом, откидывается на спинку, сует сигарету в карман. Гребаные ноги, друг, жмет и жмет, так и хочется стянуть с них эти шузы. Да и пропотели они, в нос так и шибает. Вот чем он точно обзаведется, можешь не сомневаться, как только деньжата появятся, парой приличных шузов. Много чего еще нужно. Да что уж об этом думать; особенно сейчас; без толку, на хер, точно тебе говорю, друг, без толку.
Сэмми вылезает из такси, надевает очки и направляется к пабу. Здесь вроде бы оживленно, люди то и дело уступают ему дорогу. Войдя в бар, он закуривает, ждет. Сумка так и висит на плече. Рядом стоят какие-то люди. Не то чтобы он из-за них сумку с плеча не снял. Люди его не шибко волнуют, не главная его проблема.
Давненько он здесь не бывал, друг, давненько. Охереть можно. Даже когда он навещал Питера и, погуляв с ним, приводил мальчишку домой, то сразу же возвращался в город.
Печальные воспоминания. Есть радостные, а есть печальные.
Может, это потому что он слепой, может, потому и приходится ждать так долго, он же ни с одним мудилой глазами встретиться не может, вот и ждет, когда его заметят, Христос всемогущий, на нем же долбаные очки и белая палка при нем, друг, какого хрена им еще нужно. Сэмми вздыхает, переступает с ноги на ногу, затягивается в последний раз и роняет окурок на пол. Вообще-то тут всегда было не протолкнуться. У этого местечка имелась-таки репутация. Сэмми откашливается и говорит: Кружку светлого, пожалуйста!
Он шмыгает носом, проводит ладонью по лямке на плече.
Кружку светлого? переспрашивает молодой голос.
Да, э-э, кружку светлого.
…
Так что вот, и ты даже не знаешь ни хрена, отчалил ли он для того, чтобы принести тебе пива, или просто направился к какому-нибудь ублюдку, постоянному посетителю, который торчит тут каждый божий день, или к одному из своих приятелей, или еще к кому, раздражающее поведение; раздражающее; но ты не заводись; потому как бессмысленно; бессмысленно, на хер. Есть веши и поважнее.
Получив кружку, а следом и сдачу, он спрашивает: Телефон тут есть?
Да, в конце бара.
Это куда идти, направо или налево?
Налево.
Спасибо, большое, большое спасибо; Сэмми шмыгает; поднимает кружку, от души отхлебывает и идет налево.
Добравшись до стены, нашаривает стойку бара, опускает на нее кружку и просто стоит.
Минуту погодя тот же паренек спрашивает: Не хотите присесть?
Да, друг, был бы не против… Сэмми слышит, как пододвигается табурет, тянется к нему рукой, похлопывает по сиденью. Спасибо, говорит он. Послушайте, вы не окажете мне услугу, не соедините меня с телефонной справочной?
Да, конечно, а вам какой номер нужен?
Центральный вокзал. Информация для пассажиров.
Сейчас, друг.
Паренек отходит, чтобы набрать номер, потом спрашивает: Хотите, я сам туда позвоню?
Да, господи, это было бы здорово.
А когда соединят, дам вам трубку.
Отлично, спасибо.
Вас что, кстати, интересует, время отправления?
Ага, да, на Бирмингем. Последний поезд, любой.
Сейчас сделаем.
Бог даст, я на него не опоздаю, а то придется до завтрашнего утра дожидаться!
Сейчас посмотрю, сейчас.
Сэмми слышит, как он опять набирает номер, лезет в карман джинсов, вытягивает оттуда мелочь: Слушай, приятель, возьми пару десятипенсовиков, или двадцаток, или еще что.
Да ну, не стоит.
Нет, ты возьми, и спасибо тебе…
Сэмми чувствует, как парень берет из его ладони две монеты. Потом он получает в справочной номер, набирает его.
Занято; попробую снова… парень пробует пару раз и вешает трубку: Через минуту звякну еще раз, говорит он; Держите… И возвращает Сэмми деньги.
В любом случае, спасибо. Сэмми забирается на табурет, пристраивает сумку на колени. Берет кружку, отпивает. Потом скручивает сигарету. Куда ни ткнись, сплошные добрые предзнаменования. Шут с ней, с автостанцией, его бы воля, он бы им и позвонил, да не важно, так даже лучше; он просто отправится туда и сядет в первый же автобус; куда б тот ни шел; чем южнее, тем лучше; господи, съесть бы чего-нибудь, друг, совсем он, на хер, оголодал, а день завтра предстоит долгий, это уж точно. Ну да ладно.
Кружка пива это здорово, он уж было и позабыл про нее. Еще и вторую возьмет, но не третью. Третья имеет дурное обыкновение ударять человеку в голову. А ему это ни к чему, для глупостей сегодня не время.
Пап.
Привет…
Мы снаружи ждем…
Отлично… Сэмми шмыгает носом, сидит, покручивая кружку, чтобы определить, много ли в ней еще пива; порядочно. Опускает кружку на стойку, слезает с табурета. Через минуту вернусь, говорит он человеку, стоящему рядом, кем бы тот ни был. Забрасывает сумку за плечо, идет, постукивая. Питер не стал его дожидаться. Может, мальчика вообще не хотели пускать – годами не вышел, – ну да, очевидно. Он ждет Сэмми прямо за дверью.
Порядок, пап?
А быстро вы, говорит Сэмми.
Ну да, мы же спешили.
Пойдем, пройдемся немного… Кит здесь? Сэмми уже пошел.
Да.
Все в порядке, мистер Сэмюэлс?
Да, сынок, не волнуйся, не волнуйся. Скажи, когда можно будет разговаривать, Питер, только не отходите слишком далеко, потому как я собираюсь вернуться и прикончить мою кружку, а тем временем и такси вызвать. Может, здесь?
Да, пап, тут хорошо, никого рядом нет.
Сэмми останавливается. Питер сует ему в руку конверт, но Сэмми тут же его возвращает. Лучше открой, сынок.
Питер открывает, передает ему деньги; Сэмми укладывает их в карман джинсов.
Пап, ты на Бьюканан-стрит собираешься?
Ага.
А потом куда?
В Англию. Вообще-то могу попробовать и поездом уехать, вместо автобуса, это уж что быстрей подвернется. Сэмми поправляет лямку на плече. Что подвернется, на том и уеду: идет? А?
Идет.
Это ж не проблема, а? Это не проблема.
Пап, можно я тебя провожу?
Нет, сынок, не получится; подойди-ка сюда; дай руку… Сэмми сжимает его ладонь. Самое во всем этом плохое прощаться с людьми вроде тебя, но что поделаешь, надо пробиваться, понимаешь, о чем я, надо пробиваться. Где твой дружок?..
Я здесь.
Сэмми жмет и его руку. Ладно, сынок, говорит он, ты молодец; рад, что познакомился с тобой. Всего вам лучшего.
Он снова поворачивается к Питеру, хлопает его по плечу. Ну что, порядок? орудия к бою,
Ну хорошо, вот и все, скоро увидимся, так что давай, иди. Сэмми широко улыбается.
Попрощавшись с мальчиками, он какое-то время остается на улице. Потом возвращается к двери бара, стоит за нею. А вот и такси подъехало; тут уж не ошибешься. Когда звук мотора замирает вдали, он водружает на нос очки, выходит на тротуар. Следующего ждать приходится недолго. Он идет к машине, помахивая в воздухе палкой. Машина свободна, Сэмми слышит, как она отъезжает, потом визг тормозов. Водитель открывает дверцу. Сэмми забрасывает внутрь сумку, влезает сам, дверца хлопает, и все, только его и видели.
(support [a t] reallib.org)