"Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]" - читать интересную книгу автора (Мордовцев Даниил Лукич)
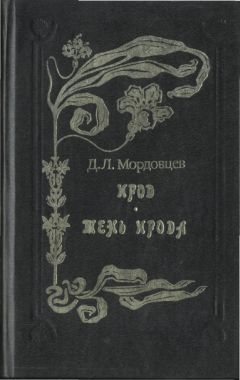 |
Даниил Лукич Мордовцев Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]
I ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ В КИЕВЕ
Весною 1711 года через Киев проезжал царевич Алексей Петрович, возвращавшийся из-за границы, где он, повинуясь указу сурового родителя, должен был дать согласие на брак с Шарлоттою, принцессою вольфенбютельскою[1].
Горек был этот год и для царевича, и для сурового родителя его, и для всей России. Россия, несмотря на страшное напряжение всех своих сил и на громадные всенародные жертвы, предшествовавшие несчастному «прутскому походу», должна была убедиться, что жертвы эти напрасны. Петр, в первый раз после нарвского поражения, давно забытого и стертого с народной и его личной памяти полтавской «викториею», — Петр в первый раз почувствовал, что и его сердце может ныть болью, что и у него есть нервы и слезы, что и его стальная воля может быть растоплена, перекована на наковальне, какую он встретил на Пруте. Робкий царевич, перед которым во все время его неохотного сиденья за границей над постыдною заморскою фортификациею и профондиметриею носился образ любимой, насильно отнятой у него девушки, олицетворявшей для него образ старой, не менее дорогой ему Руси, также отнятой у него в лице кроткой матери-царицы, — царевич должен был дать слово жениться на немилой «иноземке» и навеки «завязать свет очей своих», забыть своего «друга сердечного Афросиньюшку».
Это было то горькое время, когда царевич, махнув рукой на свое личное счастье, тайно от отца писал своему любимцу, духовнику Якову Игнатьеву, из Саксонии:
«Извествую вашей святыни: есть здесь князь вольфенбютельской, живет близ Саксонии, и у него есть дочь девка, а сродник он польскому королю, который и Саксониею владеет, Август, и та девка живет здесь в Саксонии при короле, аки у сродницы, и на той княжне давно уже меня сватали, однако ж мне от батюшки не весьма было открыто — таили; и я ее, ту девку княжну, видел, и сие батюшке известно стало, и он писал ко мне ныне — как оная девка мне показалась, и есть ли моя воля с ней в супружество. А я уже известен, что батюшка не хочет женить меня на русской — скорей де в гроб положу, чем на россейской тетехе женю, — но хочет женить на здешней, на иноземке, на какой я хочу. И я писал, что когда его воля есть, что мне быть на иноземке женату, и я его воли согласую, чтоб меня женить на вышеписанной княжне немке, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр, и лучше ее мне здесь из всех немецких девок не сыскать. Прошу вас, пожалуй, помолись, буде есть воля Божия, чтоб сие совершил, а буде нет — чтоб разрушил, понеже мое упование в Нем, все как Он хочет, так и творит, и отпиши, как твое сердце чует о сем деле».
А сердце самого царевича чуяло недоброе...
Въезд царевича в Киев не представлял никакой торжественности. Да до того ли тогда было? Казна, а вместе с нею князи и бояре, посадские и всякие «людишки с женишками, детишками и животишками» до того обнищали, что у царевича не только не было своего экипажа и корма для лошадей, но и обывальская животина вся пошла на ратное дело. Да и сам царь неохоч был тратиться на прогоны, коли не было горячего, дозарезного дела; так царевичу о торжественности и думать было нечего. Царя непосестного Русь узнавала и в простой телеге: так и сынка грозного батюшки узнавали...
При всем том царевича сопровождал отряд драгун. Начальник отряда, средних лет мужчина, в красивом мундире капитана гренадерского полка, невольно привлекал к себе внимание чем-то особенным, что теплилось в его глубоком, загадочно-задумчивом взгляде и перебегало неуловимыми тенями по его бледному лицу, более грустному, чем лицо царевича. И царевич действительно глядел грустно, устало. Отражалась ли грусть царевича на лице его проводника, или у каждого из них было свое заветное горе, только в толпе зрителей и богомольцев, толпившихся у Печерской лавры, когда царевич входил в нее, не могли не заметить чего-то особенного на лице царского сына и его проводника.
— Ох, родимушка! Какой же он с личушка-то щупленький да смутненький — словно бы и у них горе-то бывает, — говорила одна богомолка, стоявшая ближе к драгунам, оцеплявшим проход в лавру.
— Уж и не говори, матушка, за кем горе-то не гоняется горемычное, — говорила другая странница с котомкой. — Може дите по матери убивается.
— Как не убиваться, — заговорил стоявший с ними рядом седой старик, по наружности не то чернец, не то казак. — Там у них в Питере-то не ладно... Последние времена настали... Царевича-то махоньким у матери отняли, а ее-то саму силком в иноческий чин произвели... Сына к матери не пускают, не легко это.
— Кто же не пущает, касатик?
— Все он же.
— Кто, родимушка, не пойму я.
— Сам, говорю, — черный.
Бабы крестятся. «С нами крёсная сила... Свят-свят...»
— Три корабля из-за моря пригнал — полным полнехоньки... Пятнать людей будет: кто ему поклонится — печать назнаменует на ем, кто не поклонится — голову долой.
— Владычица, заступи! — в испуге проговорила первая богомолка.
— Хто се такій, дидушка, рубать головы буде — москаль? — спросила молодая чернобровая девушка, с косой в оглоблю толщиной и с полудюжиной разноцветных монист на загорелой шее.
Старик не отвечал, не отвечал, может быть, потому, что в это время позади толпы раздалось протяжное, тоскливое пение речитативом:
У ограды сидел слепой старик с чашечкой на коленях и пел эту всегда хватающую русского человека за сердце песню про «Алексея человека Божия». Иные из богомолок стояли около певца и плакали. Солнце светило ему прямо в открытые слепые очи, а он не видел этого света и как бы силился хоть одну светлую точку уловить в окутывавшем его вечном мраке. Рядом с ним сидел семи или восьмилетний мальчик с живыми черными глазенками и пресимпатичным личиком.
— Крошечка-то какой, поди сироточка, — говорила баба с кичкой на голове, подавая ему бублик. — На вот, родненький, бубличка. Откелева вы? А?
— Здалека, тетушка.
— А отец-мать есть у тебя?
— Нема. Мати вмерла, а татка на войни вбито.
А слепец продолжал тянуть за душу:
Между тем драгуны, из коих некоторые спешились, вели свой разговор, не обращая внимания на суетню, разноголосое пение нищих и смешанный говор толпы.
— Кабы ежели он не знал такого слова, не отскочила б от него швецкая пуля под Полтавой-то, — говорил один драгун. — Сам я, братец ты мой, видел ее, пулю-то ихнюю.
— Знамо, слово такое есть.
— Ну, а царевич вот-от не в его пошел.
— Не в его — это верно. А добер гораздо.
— Добер, что и говорить... Капитан наш души в ем не чает: уж такой, говорит, смирёна да скромник, словно девица красная... Ишь ты, хохол, штанищи распустил — точно он в сарафане.
Замечание это относилось к запорожцу, проходившему мимо и видимо гордившемуся своими шароварами, которые были такой неизмеримой ширины, что в каждую штанину, кажется, можно было посадить по шести человек. Поравнявшись со слепым кобзарем, он бросил ему горсть медных денег.
— Помяни, старче Божій, козака Пивторагоробця, коли вбьють, — сказал он и гордо прошел мимо драгун.
— Ишь ты, знай, дескать, наших, — заметил один из них. — А лихо молодцы дерутся.
— А Мазепка-то ихний как улепетывал от нас, — пояснил старый драгун.
— Что Мазепка! Тот от старости больше.
В это время из ворот лавры вышел начальник драгунского отряда. Лицо его по-прежнему было задумчиво, но менее грустно. Он скомандовал: «На конь, ребята, на конь!» — И все драгуны мигом сели на лошадей. — «Стройся»!
Говор в толпе утих, но тем явственнее слышалось стройное, в два голоса пение, отличавшееся от пения слепого кобзаря большею, хотя еще более мрачной мелодией:
Это пели два высоких слепых старика — «калики перехожие»[2], которых вел мальчик с длинной палкой в руках. Палка служила для защиты от собак и для измерения глубины ручьев и речек, через которые каликам перехожим часто приходилось переходить вброд. Они шли гуськом. Передний из них держал руку на плече поводыря-мальчика, задний — на плече переднего.
— Народу-то, народу, Господи! — шептала первая богомолка, та, что сокрушалась о царевиче.
— Народно — что говорить... со всего ведь российского государствия, аки пчелы... потому — чуют последних времен приближение, — тихо отвечал старик, который говорил, что «он людей печатать будет своей печатью».
Пение калик перехожих было покрыто вдруг церковным пением, раздавшимся в ограде лавры. Это братия провожала царевича.
— Идет, идет! — пронесся говор по толпе. Калики остановились как вкопанные. Капитан окинул взором своих драгун, толпу и вскочил на лошадь, которую держал под уздцы один из солдат.
Показался царевич. На лице была все та же усталость, вдумчивость какая-то, робость.
Вдруг неизвестно откуда выполз из толпы старик в очках, в подьяческом, затасканном платье и на коленях подполз к царевичу, держа обеими руками на голове какую-то бумагу. Царевич остановился, почти попятился назад.
— Кто ты? — тихо спросил царевич.
— Нижайший и подлейший раб вашего царского величества, приказу артиллерии подьячей Микишка Бортнев.
— В чем твое челобитье? — спросил царевич.
— Всемилостивейший, благороднейший, благоутробнейший государь царевич, сын святой матери нашей восточной церкви и сопрестольник всея российской державы, призри благоутробием щедрот милости своей, ради имени всещедрого милостивого нашего владыки высокопрестольного царя славы, подаждь ми, старцу убогому, милостыню — вели, государь, челобитье мое принять и по оному милость учинить! Государь, смилуйся, пожалуй!
Все это он проговорил одним духом, точно выпалил из своего беззубого рта, и когда царевич взял челобитную, подьячий поклонился и поцеловал землю.
— Лобызаю подножие ног твоих, — прошамкал он и снова пополз в толпу. Толпа расступилась перед ним как перед зачумленным. В то время, когда существовали застенки и пытки, когда одно произнесение «слова и дела» увлекало вместе с произносившим его десятки жертв на «дыбы» и «виски», а потом на виселицы, на колеса, на колья, подача челобитной казалась чем-то страшным.
Ползущий на коленях странного вида человек с бумагой на голове, странная, необычная речь его, целование земли — все это произвело такое сильное впечатление на толпу, повеяло чем-то до того страшным, словно вот-вот идет что-то неведомое, что-то случится, что-то как бы уж за плечами стоит, или выйдет из земли, из пещер что-то невиданное, неожидаемое... а тут сам царевич, сын того великана-царя, который творит что-то непостижимое, страшное, за моря неведомые ездит, по воде ходит, старину святорусскую гонит... а сколько крови-крови-крови... Все это неуловимое что-то, что-то безотчетное крыльями повеяло над толпой — толпа застыла...
— Ох, лишечко! Вже й поихали! — раздался вдруг голос в толпе.
Толпа очнулась от кошмара. Царевича уже не было.
— Ой, матинко! Треба доганять! — продолжал звонкий голос толстокосой с массою монист на шее киевлянки.
Действительно, кто смог — бросился догонять. Вдали виднелась пыль, а из нее выделялась, в профиль, поникнутая голова царевича да статная фигура скакавшего впереди своего отряда драгунского капитана. Толпа хлынула за бегущими. У лавры остались только нищие, слепые да старые.
— Се мимо иде — и се не бе... Буди благословенно имя Господне, ныне и присно и во веки веков, — произнес седой странник, говоривший о печатании людей, и перекрестился двуперстным крестом.
— О-ох, грехи наши тяжки... последние денечки приходят, конец светушка, — захныкала первая богомолка. — Поди и капустку осенью не успеем собрать, как свет переставится.
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |