"По следам дикого зубра" - читать интересную книгу автора (Пальман Вячеслав Иванович)
Запись восьмая
Погрешив перед собой, я без малого год не открывал книги в зеленом переплете. Так сложились обстоятельства.
Мы с Данутой провели два счастливых месяца в Псебае. Почти не расставаясь, мы исходили все предместья станицы. Я научил ее верховой езде, стрельбе из винтовки и револьвера. Учеником она оказалась способным, тогда как сам я, обучаясь у нее премудростям ботаники, не мог похвастаться особыми успехами: латынь давалась мне трудно еще в институте, так что я путал, скажем, примулу патенс с примулой верис и никак не мог произнести длинное название ромашки по-латыни — «триплеуроспермум», чем немало огорчал свою умную жену. По вечерам мы вместе читали «Песнь о зубре». Славная книга! Язык великого Гомера.
Единственно, в чем она отказала мне наотрез, — это поехать в глубь гор.
В Охоте за этот год к худшему ничего не изменилось. Жалованье нам присылали, хотя и нерегулярно, высокие гости дважды грозились приехать на охоту, но почему-то не приезжали. Обстоятельство не очень огорчительное.
Зима прошла удачно, звери сравнительно легко перенесли многоснежье. Мы еще летом заготовили в трех зубровых урочищах более сорока стожков сена. От них к началу апреля не осталось и следа.
Егеря из Закана за осень успели пересчитать зубров в бассейне Большой Лабы, на восточной стороне Кубанской охоты. Там в зиму ушло сто десять зверей, из них двадцать три одногодка. Выходило, что даже без основных зубровых урочищ — Мастакана и Умпыря — у нас насчитывалось уже двести сорок пять зубров. Телеусов утверждал, что в этих двух районах он наблюдал чуть ли не триста зверей. Если так, то но числу зубров мы совсем не отставали от беловежцев.
Ранней весной еще раз приехала Данута. В те дни я находился в долине Умпыря, где продолжала царствовать зима. Мы жили с Телеусовым в достроенном княжеском домике, ходили на разведку по долинам ближних рек, куда спустились с гор олени, зубры и даже серны. Четверо плотников в это время рубили в лесу, посреди долины, новый большой дом. Мы намеревались устроить здесь постоянный егерский кордон.
Во время одной из разведок в сторону Чертовых ворот мы обнаружили следы браконьерской охоты. А вскоре нашли и останки застреленного зубра. Вот тебе и последний… Полузасыпанная снегом лыжня уводила от места преступления к горе, напоминающей гнилой зуб.
— Работа проклятого Лабазана! — с несвойственной ему злостью выговорил Алексей Власович.
Мы переглянулись. Мы не сказали друг другу ни слова, но именно в эту минуту решили: дальше терпеть нельзя.
— Вот только вернусь из Псебая… — Я был оповещен о приезде жены и на другой день собирался домой.
— Ну и ладно, — уже миролюбиво согласился мой друг. — А я покамест попробую узнать, где этот бандит и кто с ним.
— Ты думаешь, он не один?
Вместо ответа Телеусов показал на лыжню: в одном месте след едва заметно раздваивался и тут же сходился.
Четыре дня Данута ожидала меня дома. Уж чего только не передумала! Я нашел ее у своих родителей беспокойную, побледневшую, испуганную. Родители встретили меня укоризненным молчанием, порицая за столь долгое отсутствие. Но уже через час атмосфера в доме высветлилась, послышался смех Дануты, начались перекрестные расспросы, обмен новостями. Сели обедать. За столом и вовсе развеселились, даже вино пили.
Среди новостей одна была совсем уж неожиданная. Отец сказал, не скрывая удивления:
— Знаешь ли ты, что старший из Чебурновых назначен лесником? Улагай взял его к себе! Ходит по Псебаю гоголем.
В памяти моей всплыла картина лабинской встречи. Не тогда ли они договаривались?..
— А что слышно о младшем? — спросил я.
— Его не видно, — сказал отец. — Я специально справлялся. Неизвестно где.
Эта семейка всерьез беспокоила меня.
Пять дней с Данутой показались одним мгновением. И вот опять дорога, станция, последний поцелуй у вагона. Когда поезд скрылся, я долго стоял на перроне, пытаясь понять, что же такое случилось с моей милой женушкой, какие-то почти неуловимые перемены. В поведении ее, во взгляде, в манере говорить, ходить, задумываться было что-то новое. Я никак не мог разгадать ее затаенного взгляда, улыбчивой нежности, странной недоговоренности, словно бы знала она нечто такое, чего не мог знать я. И когда вернулся со станции домой, тоже ощутил атмосферу заветной таинственности; дважды, когда я заходил в большую комнату, где сидели мои родители, они смущенно умолкали.
Но мысли мои теперь были заняты не только семейными делами, но и предстоящим рискованным предприятием, которое не могло быть отложено. Пока Лабазан не обезврежен, душе моей, совести не знать покоя.
Вместе со мной в Умпырскую долину поехал и Кожевников, суровый бородатый друг.
В Псебае с крыш свисали длинные сосульки, на солнечном припеке снег шумно оседал, ручьи пробивались по улицам, леса мажорно шумели под теплым ветром, и всюду в них виделись обтаявшие следы зайцев, лис, мышей. Все в природе готовилось к весне, морозные ночи никого не пугали.
Но уже за тридцать верст от станицы, на Уруштене, весенние приметы начисто исчезали. Тут белел нетронутый снег, свирепо ревел в ледяных закрайках поток, а наши следы замела недавняя поземка.
От местечка «Третья рота» тропа спускалась к берегу Лабенка, найти ее сейчас могли только чуткие кони; мы опустили поводья, лошади склонили морды и шли осторожно, но точно по тропе. Дважды мы с ходу пытались одолеть перевал, но не могли пробиться из-за глубокого снега. Приходилось подумать о ночлеге. Утро вечера мудреней.
Кожевников потоптался возле коней, прислушался к крику сойки. Что-то заинтересовало его. Бинокль ощупал берега Лабенка и высокий перевал.
— А ить наверху какой-то лихач бродит, — сказал он и засмеялся. — За нами, похоже, катится.
С перевала вниз, раскачивая кусты заснеженного жасмина, спускался человек. Зигзагами, от камня к камню, где на ногах, где лежа, толкая перед собой сугробы снега, смельчак делал тропу. Заметив нас, он пронзительно засвистел.
— Телеус! — закричал Кожевников. — Выручать бежит!
Через полчаса мы пожимали руку бесстрашному егерю.
— Пешком?
— Не-е… Коня пустил назад с первого перевала. Он у меня ученый, дойдет. А я пешки сюда. Знаю, как тяжко по снегу подняться с этой стороны. Так что… Ночуем, братья, здесь. Утром пойдем. По готовому следу не так трудно.
Мы расчистили в кустах площадку и зажгли костер.
— А с Лабазаном что-то стряслось, — сказал Телеусов. — Я выследил его, ночью бродил у той горы. Кровь нашел на следу. След такой, будто лошадь испугалась или споткнулась и понесла, он свалился, побился на скалах, но сумел одолеть горы возле логова. Ползком полз.
— Так ведь не один он. Помнишь?..
— Как не помнить. Второй-то, похоже, ручкой ему помахал. Уехал на юг. Добычу повез. Но это уже после Лабазанова падения. То ли лезгин сам приказал ему ехать, то ли просто бросил, посчитав, что тот готов. Завтра узнаем.
События неожиданные. Наша задача облегчается. С одним уже легче управиться. Мы еще немного поговорили об этом и, угревшись у огня, заснули.
Близко к полуночи нас разбудил испуганный храп лошадей. Они топтались у потухающего костра и косили глазом на скальную стенку, которая подымалась за густым жасминником. Там светились два зеленых глаза. И не исчезли, когда Телеусов встал, чтобы успокоить лошадей. Барс?!
— Смотри-ка, он здоровается с нами, — засмеялся Телеусов. — Точно, наш знакомец. Кто же другой осмелится вот так-то оповещать о себе? Я спробую сейчас…
Он вынул из сумы кусок вяленого мяса, накинул на себя плащ и пошел к зеленым огонькам на скале.
— Винтовку… — тихонько напомнил Кожевников.
— Пужать не хочу, — отозвался егерь.
Чернеющая ночь висела над горами, даже снег не светился. Телеусов как растворился в ней. Мы следили за глазами барса. Они пропали. Потом возникли, но уже выше. Зверь мяукнул, однако без угрозы. Услышали, как Алексей Власович что-то выговаривал зверю, как говорят со знакомым. И все смолкло. Я взял винтовку и пошел через кусты к скалам. Мало ли что…
Захрустел снег. Телеусов возвращался. Поравнявшись, улыбчиво сказал:
— Мясо забрал. Я, правда, не видел, просто кинул ему, он спужался и побег, а потом, слышу, вернулся и заурчал. Нашел, значит.
— Думаешь, тот самый, хромой? Может, еще придет?
— А что, и придет! Скорее всего, издаля понаблюдает за нами. Вспомнил. А может, и нечаянно нашел.
— Живет поблизости. До того мостика всего саженей двести.
— Интересно, поправил ногу ай нет?
Мы потоптались немного, но барс, по-видимому, ушел или залег в потайку. Лошади успокоились. Остаток ночи мы провели без просыпу. И утром, снимаясь с ночлега, не увидели и не услышали своего приятеля. Чтобы убедиться в ночной догадке, Алексей Власович сходил на скалы. Мяса там не оказалось. Взял.
— Помнит! — убежденно сказал Телеусов.
— Почему так думаешь?
— Зверь этот самый осторожный. А мясо человеком пахнет, не больно его возьмет. Страшно: вдруг капкан? Тем более, опыт есть. А этот взял за милую душу. Все потому, что наш с тобой запах не вызвал у него беспокойства, доброту в памяти оживил.
— Если голодный, тоже не постережется, — буркнул Кожевников.
— И это правда. Но мне по-своему думать как-то сподручней. Приятно, что дружок усатый завелся.
— Слушай, повторим опыт? Я пойду на мостик и положу приваду. Если барс возьмет и от меня, значит, дело не в голоде.
— А ну… — подзадорил Телеусов.
Я нарочно повалял подольше в руках кусок бараньего бока, взятого из дому, и побрел вдоль берега. Вот и мост. Девственный снег покрывал старые следы барса, когда он перешел на эту сторону до снегопада. Семь шагов сделал я по опасной переправе, мост скрипуче зашатался, в черную воду полетели пушистые лохмотья снега с перильцев. Дальше идти побоялся, положил мясо и, пятясь задом, сошел с хрупкого сооружения.
— С перевала увидим, раньше он побоится выйти, — сказал Телеусов, уже успевший оседлать коней.
Часа полтора мы карабкались наверх и, вконец измученные, остановились на верхней площадке рядом с мокрыми лошадьми. И сразу взялись за бинокли.
Каково же было наше удивление и радость, когда мы увидели барса! Он стоял перед входом на мост, но неотрывно смотрел в нашу сторону. Видел, конечно: на фоне неба фигуры просматривались четко. Он почему-то лег на живот и все смотрел и смотрел. Потом чуть приподнялся и пополз по мосту, как кошка за мышью. Взял мясо без раздумья, капкана не боялся. Крутанувшись на месте, спрыгнул с мостика и, уже не обращая на нас внимания, тут же, на моих следах, стал жадно есть.
— Ну, убедился? — Алексей Власович смотрел геройски.
— Точно. Свой зверь. Дикий дальше некуда, а помнит добро.
Только вечером мы пришли в долину к своей хижине. Плотники уже беспокоились, хотя Телеусов предупредил их, когда уезжал.
До полудня другого дня не снимались, дали отдохнуть коням, отоспались сами и лишь тогда, проверив оружие и снаряжение, поехали через Лабенок. На войну.
Едва успели подняться на первый склон, как увидели зубров. На опушке длинной лесной поляны отдыхало три стада. Бурые обсохшие туши отлично виделись на снегу. Семьдесят три головы! Похоже, они только что спустились из лесу на горном склоне, тропы их пропахали снег по всему редколесью. Мы не вышли из густого грушняка, сторожко объехали стадо по-над ветром и подались к месту недавней драмы.
Свежий снег призакрыл следы разбойников, но Алексей Власович довольно скоро нашел тот скальный прижим, где, по его предположению, Лабазан — или тот, другой, что был с ним, — упал и расшибся, скатившись глубоко в расщелину, полную крупных камней. Истоптанная конскими копытами покатость, брошенные лыжи, поломанные кустарнички, какая-то тряпица, почерневшая кровь на камнях. Что же произошло здесь? Какая беда настигла преступников?
Кожевников бродил вокруг, наклонялся, исследуя каждый камень, каждый надлом и вмятину на снегу. Вот сюда два негодяя сбросили мешки с мокрой от крови шкурой или мясом. А вот там поймали понесшую было лошадь: ее напугал шум небольшой лавины, след которой мы увидели сбоку тропы. Возможно, что всадника сбросила не лошадь, а воздушная волна. Да, топтались две лошади и два человека. Второй не в седле, а вел груженого коня за повод. Ну, а дальше?
— Дальше, ребята, раненый стал добираться пешком, — сказал Кожевников. — Вот, смотрите, он кинжалом срубил себе осинку на костыли. Вот тут садился отдыхать, сам перевязывал рану, следов другого человека нету. По всему видать, нога сломана. Потом ему похудшело, уже не шел, а ползком полз.
— Куда же девался второй? — нетерпеливо спросил я.
— Уехал с обоими конями. След по распадку вправо, там тропа на юг, я ее знавал. Повез поклажу.
— Значит, бросил сообщника?
— Видать, бросил. Если только не по согласию.
— Вот это друг-приятель!..
— У всех мерзавцев один закон: собственную шкуру уберечь.
Теперь и под свежим снегом мы без труда находили канавку, проделанную раненым. Куда он хотел добраться? До своей пещеры? Но туда верст пятнадцать, если не больше, и первое время всё на подъем, через камни перевальчика. Здоровому и то трудно.
Мы шли гуськом, лошади в поводу, но винтовки на руке. До вечера оставалось немного, воздух налился призрачной синевой.
На перевальчике остановились, Телеусов пошел осмотреть спуск в долину, над которой стояла та самая гора с пещерами, черная от векового пихтарника. Егерь осторожно переходил от камня к камню и часто посматривал в бинокль.
Как ни осторожничал Алексей Власович, тот, кого мы искали, все-таки первым увидел его, скорее всего, потому, что перевальчик с двигающейся фигурой рисовался на синеватом фоне неба, тогда как долина и подножие горы уже закрылись сумерками. Громко и неожиданно снизу щелкнуло. Пуля ударилась о камень, из-за которого выглядывал егерь, и, срикошетив, тонко пропела, уходя в небо.
Телеусов живо присел, а повременив немного, снял шапку, повесил ее на ствол винтовки и высунул уже с другой стороны. Раздался второй выстрел, шапку сбило. Мы увидели, как Алексей Власович поднял ее и сокрушенно покачал головой: испортил хороший треух…
— Ну вот, отыскался вражина, — сказал он, вернувшись. — Живой еще, коли стреляет. Продырявил мне шапку, окаянный. И все ж таки он у нас в руках. Не убежит. Затаился где-то на опушке пихтарника, до пещер своих не долез. Там-то он поводил бы нас, поиграл! А теперь и костра не запалит: мишень хорошая. Поморозим его ночь или сразу пойдем?
Посовещавшись, решили, как стемнеет, пробраться лесом в тыл к бандиту, отрезать путь к пещерам, а там видно будет.
— Только вместях, ребята. Поодиночке он нас запросто… Будет стрелять на каждый шорох в лесу.
Оставив коней за перевалом, мы шагом рыси спустились в полной темноте к лесу, углубились в него и уселись поудобнее за пихтовыми стволами в десяти шагах друг от друга. Лабазан должен ползти в глубь леса и тем выдаст себя. Понимает, что за ним охотятся.
Ждали, пожалуй, до полуночи, глаза заболели от напряжения. Да и замерзли так, что терпения уже не хватало. Но в лесу ни шороха, ни звука. Где он? Ведь тоже без огня, не слаще, чем нам. Надо идти к опушке, маскируясь как можно ловчей. Так и пошли, останавливаясь, прислушиваясь.
Лишь когда начало светать, жадный ворон помог нам. Видимо, он с вечера заприметил неподвижного человека и чем свет прилетел проверить. Раз, другой, третий пролетел он над лесом, сужая круги, и наконец пропал. Сел. Мы пошли смелей и уверенней. Теперь знали — где. К живому человеку стервятник не сядет.
…Лабазан так и не сходил с места. Он привалился к стволу толстой пихты, выставил винтовку в ту сторону, откуда ждал нас, и замер. Голова его бессильно упала на грудь, натянув со спины туго завязанный башлык. Побелевший палец застыл на спусковом крючке. Дешево жизнь отдавать не собирался.
Ворон, топтавшийся на снегу чуть ли не в трех шагах от застывшего человека, молча взлетел и уселся на близкой сухой вершине. Он еще надеялся на поживу.
С двух сторон мы схватили браконьера за плечи. Кожевников выхватил винтовку. И тогда пленник открыл глаза. Туманно глянул на нас и обмяк. Потерял сознание.
По сухим веткам пихты застучал кинжал Телеусова. Чиркнула спичка. Снег полетел в стороны. Почти у самых ног Лабазана занялся костер. Лицо Алексея Власовича преобразилось. Сейчас оно выражало только жалость и сострадание к человеку, хотя этот человек чуть не убил его.
Пока огонь разгорался, мы усиленно растирали снегом руки, лицо, грудь пленника. Но очнулся он только в тот момент, когда я нечаянно тронул его ногу. Раздался долгий стон. Лабазан резко дернулся и опять свалился без памяти.
— Легче, Андрей! — с досадой прикрикнул на меня Телеусов.
Глоток водки привел браконьера в чувство, он уже более осмысленно глянул на каждого из нас и гортанно проговорил:
— Нога…
Мы видели его ногу. Открытый перелом бедра, почерневшая, неживая ступня. Гангрена. Сколько времени прошло с того момента, когда он вылетел из седла? Три дня? Четыре? Какую же силу воли надо иметь, чтобы уползти за десять верст от места катастрофы?!
Узкое, орлиное лицо Лабазана, грязное, темное от копоти и щетины, в короткой черной бороде, загорелось больным румянцем. Коченея на морозе, он тем самым как бы сдерживал естественное развитие гангрены. Костер, растирания и водка вернули к жизни его тело, и заражение крови ускорилось.
— Где твой приятель? — прогудел над ухом умирающего Кожевников.
— Проклятый гяур бросил меня! — неожиданно окрепшим голосом произнес Лабазан. — Аллах да проклянет неверного и потомков его!
— Кто, кто? — торопил Кожевников.
Лабазан не ответил. Он в упор смотрел на меня.
— Ты хотел моей смерти? — спросил он. — Но смерть сама была рядом с тобой…
— Ты стрелял в меня у ручья? — Теперь я допрашивал Лабазана.
— Моя пуля не проходит мимо. К ручью не ходил. За деньги не убиваю людей. — Он говорил туманно, непонятно.
— Кто же, кто стрелял?
Лабазан закрыл глаза. Не хотел говорить.
Догадка осенила меня. Схватив Лабазанову винтовку, я передернул затвор. Браконьер встрепенулся, поняв этот маневр по-своему. Он поднял голову, и в горящих глазах его я вдруг заметил гордую радость. Он жаждал смерти, достойной воина. Он думал, что я убью его. И с радостью принял бы смерть.
Выстрел раздался. Вскинутая вверх винтовка дрогнула, затвор открылся. Я поднял выпавшую гильзу и осмотрел пистон. Вмятина была точно в центре. Не из этой винтовки стреляли в меня.
— Что же ты, хранитель домбаев? — насмешливо спросил Лабазан. — Стреляй! Пошли мне пулю в сердце. Я убил за свою жизнь пятьдесят шесть… Не промахнулся бы… Я могу еще… — Речь его сделалась невнятной, глаза подернулись тоской.
— Давай его на носилки, — почему-то шепотом заторопил Алексей Власович. — Похоже, бредить зачал. Быстро, ребята!
Коней мы поставили на расстоянии сажени друг от друга. Телеусов привязал к седлам две длинные жерди. Между ними Кожевников проворно и ловко натянул бурку, потом плащ. Лабазану стало совсем плохо, он тяжело дышал, то и дело закрывал глаза, но, когда Алексей Власович наклонился к нему и спросил, как ехать к пещере, сумел объяснить. Мы подняли браконьера на импровизированные носилки. Боль в ноге он, похоже, уже не чувствовал. Кони гуськом тронулись через лес, я вел своего Алана позади, время от времени ощущая на себе горячечный, быстрый взгляд лезгина, жизнь которого кончалась без нашей на то вины. Впрочем, мысли такого рода были здесь лишними: не отомсти сама природа, то же самое сделали бы мы.
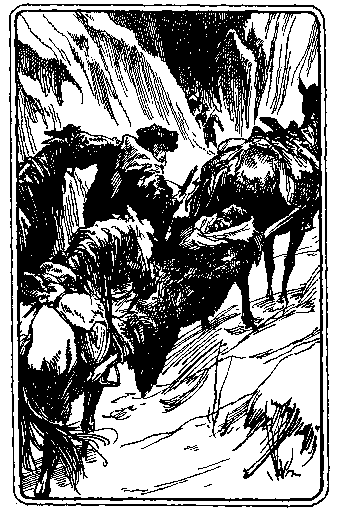 |
Кожевников нашел чуть видную тропу, она зигзагами шла наверх. Лабазан лежал головой вперед, умиротворенный, смирившийся с неизбежным. Он уже понял, что враги его не надругаются над ним, не бросят на съедение лисам.
Пещера открылась за густой можжевеловой зарослью — узкий, черный лаз в гору.
— Здесь? — спросил Телеусов.
— Нет, — слабо ответил Лабазан. — У старой сосны есть другая пещера, там я похоронил друга, русского. Там оставьте меня, здесь по ночам бродят тени убитых быков…
Оба егеря ушли искать пещеру Белякова. Мы с Лабазаном остались с глазу на глаз. Я подошел ближе.
— Доволен, джигит? — через силу спросил Лабазан. — Ты ведь шел убить меня?
— Я шел прогнать тебя, убивающего зубров. Мы хотели, чтобы ты ушел. Но мы могли убить тебя, ведь ты уже поднял руку…
— Зачем тебе домбаи?
— Они под защитой людей. Их очень мало на земле. Без нашей защиты они пропадут. Все до единого.
Лабазан как-то странно смотрел на меня. Не понял. Звери существуют для охоты — эту истину он знал с детства, впитал с молоком матери.
— Я тоже мог убить тебя, — тихо сказал он. — Из-за домбая… Ты не боялся смерти, такой молодой… Ты странный гяур. Ты смелый человек. У тебя смелые друзья. И сильные враги.
— Кто?..
— Я связан словом…
Вернулись егеря. Лабазан едва шевелил губами. Потом затих. Лицо его бледнело, какая-то странная синева наплывала со лба на щеки. Нос заострился.
Мы переглянулись. Кончается.
С носилок снимали уже мертвое тело.
А еще через час, оставив грешника в каменном склепе рядом с другим таким же грешником, мы вышли к сосняку у входа, посмотрели на светлое небо, на деревья, уже сбросившие с веток старый снег, и поняли, что вокруг жизнь, весна, а то, что произошло нынче, вот только что, — это печальный эпизод, горький случай, избавивший нас от тяжелой необходимости самим наказать врага Кавказа. Ведь мы охраняли жизнь в горах всей своей совестью, призванием, хотя и называлось это службой. Егерской службой.
Молча пошли к жилой пещере браконьера, осмотрели ее. Покойник довольствовался малым. Грязноватая постель, пробитая в камне печь, бурдюк с вином, много патронов, ножи, несколько выделанных ремней, запасная бурка и другая одежда. Копаясь в куче стреляных гильз, которые лезгин по-хозяйски собирал, я с удивлением увидел две блестящие, новенькие: пистоны у них были пробиты сбившимся на сторону бойком!
Вот оно, доказательство. Тот, кто жил с Лабазаном в последние дни, кто бросил его в ущелье, тот и стрелял в меня у ручья. Это его гильзы. Из его винтовки.
— Может, останемся, покараулим сообщника? — неуверенно предложил Телеусов.
— Он сюда не вернется, — сказал я. — Он убежден, что Лабазан погиб. Зачем идти на место преступления? Ведь бросить человека в таком положении — это все равно что убить самому.
— Неужто Семен? — вдруг воскликнул Телеусов.
— Семен был дома, в Псебае, — пробасил Кожевников. — Гулял у соседей с песнями-плясками. Ему можно гулять, он теперича при делах.
Винтовку Лабазана я приторочил к сумам. Особенная винтовка: на замусоленном, почерневшем ложе ее были вырезаны ножом пятьдесят шесть продолговатых зарубок.
Весна поднялась в горы.
Лес в Умпырской долине стоял тихий, напоенный прорвавшимся наконец солнцем, надежно загороженный хребтами от северных ветров. Теплый воздух съедал ноздреватый снег. Стволы кленов и дубов обсохли, понизу вокруг них вытаяли воронки. Вербы и осины на берегу Лабенка заголубели от потянувшихся сережек.
Стук плотницких топоров весело и дробно разносился по лесной поляне. Большой рубленый дом с двумя входами вырос чуть ли не до последнего венца. Свежий сарай белел сбоку. Гора желтого грунта означала будущий колодезь. Так начинался поселок егерей.
Расспросы плотников и рассказы о Лабазане оборвала лишь поздняя ночь. Наутро мы договорились сделать обход южных отрогов и посчитать, если удастся, тамошних зубров. Телеусов уверял, что, кроме уже встреченного стада, в этом районе обитает еще три.
Дальнейшее показало, что Алексей Власович не ошибся. Нам удалось увидеть три плотных, на зиму сбившихся стада. Близко мы не подходили, да в том и надобности не было: голый лес проглядывался в бинокль достаточно хорошо. Глубокие порой быков в снегу походили на свежевзрытые окопы — так зубры прорывали снег в поисках ожины и старой травы.
Стада оказались на редкость организованными. В этих трех мы насчитали сто сорок девять голов, из них почти пятьдесят голов молодняка.
— Прибавь, Андрей Михайлович, еще три десятка быков в четвертом, не найденном стаде, — сказал Телеусов. — За три десятка ручаюсь.
Я принялся было считать, но вспомнил последнюю охоту, приключения в этой долине и запоздало спросил:
— Как ты умудрился, Алексей Власович, провести всю охоту через такое плотное звериное население, да так, что никто не взял ни одного зубра? Ведь бойню могли устроить!
— Запросто могли, — согласился он. — Один вид крупного зверя вытравляет у охотника все доброе-хорошее. Такую пальбу могли учинить, никакой запрет не остановит. Убить не всех убьют, а вот изранить могли. Да еще напужать, с пастбищ согнать. В страхе зубра бегит куда попало — в ущелье, в реку, с обрыва… Ну, вот я и повел, чтобы, значит, мимо. На одно стадо, как ты помнишь, мы все-таки наскочили. Это когда осечка у твово генерала вышла. Теперь-то могу как на духу: я тому виновник. С вечеру перед охотой взялся генералов маузер смазывать, маленько сахарку в масло допустил, оно и того… заело.
Посмеялись над хитрецом. Потом я сложил в своей тетрадке все записи, и вышло у меня, что в одна тысяча девятьсот одиннадцатом году, в апреле месяце, на территории Кубанской охоты находилось всего четыреста девяносто семь диких зубров.
— Не густо, как я понимаю, — подытожил Телеусов. — А все Лабазан с Чебурновым. Ну, один-то уже покойник, земля ему прахом, а вот Семка по лесу бродит. Да и брательник евонный… Пастухи еще с юга опасные, Гузерипль у нас без охраны.
Справившись с одной опасной задачей, мы понимали, что впереди таких задач несчетно. Если бы только Семен Чебурнов бродил по территории Охоты! В бесчисленных винтовках затворы спущены с предохранителя. Люди неспособны жалеть дикого зверя.
Дела звали меня в Псебай. Предстояло доложить Ютнеру о положении с зубрами, написать рапорт о смерти самого опасного браконьера, прочесть почту, если таковая была. Конечно, была! Я ждал новостей от Дануты, которая обещала встретиться с зоологами Академии наук и узнать, что там с прошением на высочайшее имя об установлении охранной зоны. Ждал ответа из Екатеринодара, куда посылал запрос без команды свыше, по собственному разумению. Если Охота перейдет станичным юртам, то в канцелярии наказного атамана должны заранее принять меры к защите животных, всей природы Кавказа. Я уж не говорю о беспокойстве, когда вспоминаю своих старых родителей.
— Я провожу тебя, Андрей, — предложил Телеусов с таким небрежным равнодушием, которое само по себе раскрывало заговор егерей — не оставлять меня одного в лесу: знали о выстреле. Никита Щербаков сказал, конечно.
— У тебя и своих хлопот достает, — ответил я.
— Ну, до мостка хотя бы, — смутился он. — Барса проведаем, мясца ему захватим. Оттуда я возвернусь, и мы с Василь Васильичем сбегаем на Кишу, оленей в пути высмотрим.
— Разве до мостка, — согласился я, любопытствуя, что у нас получится с этой нечаянной задумкой — подружиться с барсом.
Алан резво вынес меня на первую возвышенность, ведущую к перевалу. Телеусов поотстал, потом догнал и спросил:
— Заночуем где? На Черной речке или у мостка?
Хитрец, он знал, что поведение барса занимало меня не меньше, чем его. Пусть не под крышей и не в тепле, а под открытым небом, но зато рядом с барсом. Разве это не интересно?
Словом, остановились мы на недавней своей стоянке. Мостик обсох, снега на нем не было. На перильцах по-домашнему уютно сидела и вертела головой отчаянная птица оляпка, ныряльщик, водолаз, не боящаяся даже ледяного Лабенка.
Алексей Власович отвел лошадей на поляну, где солнечный припек уже растопил снег. Тут было тихо и безопасно — ни веток, ни скал, где могли укрыться волки или тот же барс. А мы спустились ниже и разожгли костер в сотне шагов от мостика.
— Приманим? — Телеусов разрубил на три части большой кусок баранины и, подумав, бросил один близко от костра, второй дальше, а третий положил на самый край мостика.
— Побоится. Не придет, — вздохнул я.
— А он живет здеся, это я тебе точно говорю. Поди, уже смотрит на нас из-под камней.
И правда, стоило мне только отойти от костра шагов на пять да попривыкнуть к темноте, как на той стороне я нашел глаза барса. Без боязни крикнул Телеусову, барс услышать не мог — река грохотала весенним громом, начисто забивая все звуки.
— Давай ближе к мосту сядем и подождем, — предложил Алексей Власович и, не таясь, передвинулся так, что до мяса на мосту оставалось всего шагов тридцать.
Почти час зверь следил за нами из темноты скалистого берега, вставал, ходил, светящиеся глаза его раза два приближались к мосту с той стороны, он хорошо нас видел и мясо, конечно, чуял, но ведь так страшно ступить на узкую переправу, в конце которой люди! Западня?.. Впрочем, те самые люди, которые выпустили его из железных лап капкана. Он колебался.
И вот решился. Мы увидели длинное тело, прижавшееся брюхом к доскам, низко опущенную голову. Он не сводил с нас горящих глаз, а мы сидели, разговаривали, смеялись, не обращали на него никакого внимания. Он подполз ближе, еще ближе, в мерцающем свете костра мы различали пятна на его шкуре. Остановился, приподнялся на ногах, и тут Алексей Власович громко сказал:
— Э-э, лапа-то у него… Смотри, кривая!
Голос не заставил барса сдвинуться с места. Да и как? Узкий мостик. Через несколько секунд стойки зверь протянул к мясу кривоватую, видно плохо сросшуюся, лапу, когтями подтянул к себе приманку. Задом, задом переполз мост, лег там и спокойно занялся ужином.
— Теперь уверовал, — сказал довольный Телеусов. — Слопает и придет за другим куском.
— Ему мимо нас пройти надо, — усомнился я.
— Пройдет, не побоится. Свои.
И правда, барс гораздо спокойнее перешел мост, чуть помедлил на выходе и, мягко прыгнув шагов на восемь, кошкой прошмыгнул на таком расстоянии от нас, что я мог достать его длинной палкой.
Мы пошли к костру. Наш дикий приятель вскоре заявился за последней порцией, смело оттащил подарок дальше, съел и долго, завороженно смотрел то ли на костер, то ли на нас.
— Как бы его совсем привадить? — Телеусов раздумывал, весело щурясь. — Смотри, даже ружейного запаха не боится. Если чаще встречать его, вовсе подружимся. А ну, спытаю…
Поднявшись, он пошел к сытому зверю. Тот отступил, беззлобно заворчал. Алексей Власович стал говорить с ним тем добрым голосом, каким мы увещеваем неразумных детишек, а сам подходил все ближе. Но и барс пятился, так что меж ними все время сохранялось шагов десять. «Поговорив» минут пять, человек и зверь разошлись. Егерь выглядел довольным.
— Приручу! — уверенно сказал он. — Как буду здеся, так и свидимся; раз, другой, пятый, десятый. Глядишь, подружимся. А что? Ведь кошка тоже дикой была. Али нет?
— Была, конечно. И собака. И лошадь.
— Ктой-то начинал их приручать, так?
— Время другое, брат, — сказал я. — За века и тысячелетия люди причинили дикому зверю столько зла, что в памяти каждого из них только это зло и осталось. Загоны, пожары, ловушки, стрелы, копья, потом ружья. Смерть и смерть. Как им перешагнуть через такую память?
— Вот ты как хошь, а я с ним полажу! Только чаще видеться надо. И ты не забывай.
Мы завернулись в бурки и уснули. Барс, конечно, кружил поблизости, но ни нас, ни лошадей на поляне не потревожил. И утром не показался. Наверное, при ярком свете мы выглядели страшней, чем в ночной темноте.
С этого места Телеусов возвращался назад. Мы расстались.
В доме родителей ощущалась тревога.
Мама обняла меня и заплакала. Отец стоял в стороне, опершись на палку. По сведенным лохматым бровям, по суровому, даже осуждающему взгляду нетрудно было догадаться, что он недоволен мною.
— Что случилось? — Я отвел лицо мамы от своей груди и посмотрел в заплаканные глаза.
— Данута заболела…
— Что с ней?
— Откуда мы знаем! Заболела, и все. Прислала тете письмо, Эмилия забежала к нам сама не своя и тут же выехала к ней. Одна там, бедняжка, каково-то ей!
— Но вы хоть письмо читали? Что она написала?
— Ты лучше подумай, почему Данута пишет не мужу, а тете, — сурово и, на мой взгляд, не очень справедливо проворчал отец. — Жена у него на пятом месяце, а он, видите ли, не знает, что в таком положении, как у нее…
Так вот оно, таинственное перешептывание, перемены в настроении Дануты и все прочее, что так удивляло меня! Держать в неведении! И кого? Будущего отца!.. Теперь — болезнь. А вдруг…
Впервые я узнал, что такое внезапная слабость. Ноги не держали меня, пришлось сесть. На лбу выступил пот. Наверное, я очень побледнел, потому что мама бросилась к буфету, что-то там накапала в пузырек и подала мне. Но слабость уже исчезала. Два известия сразу: недоброе — болезнь и удивительное, радостное, недолго поборовшись, потрясли меня, но страшное уже отступило. Данута и болезнь? Это не совмещалось. Разве какое-нибудь случайное недомогание, душевное одиночество, столь понятное в ее положении. Меня она не рассчитывала застать дома, а ей требовалась немедленная поддержка близкого, особенно женская поддержка, и вот она пишет письмо, и тетя Эмилия мчится в Петербург. Не исключено, что об этом они договорились раньше. А если так…
Широкая, быть может, несколько самодовольная улыбка возникла на моем лице. Будущий отец! Я был готов смеяться, плясать. А мама, видно поняв мои чувства, сказала:
— Взрослое дитя! Боже мой, дитя!.. Михаил Николаевич, ты посмотри на него внимательно: сын просто не в себе. Удивительно…
Я обернулся к отцу:
— Дедушка! Не об этом ли мечтал ты все время? И ты, мама, бабушка. Не верьте в болезнь, это так. Чтобы наша Данута… А вот за другую новость спасибо огромное. Я ведь ничего не знал. И вы не сказали, хоть и знали. Ага, это заговор! Ждали внука и помалкивали!
— Так принято, Андрюша. — Мама и говорила, и плакала одновременно, и смеялась сквозь слезы.
Мы обнялись, отец улыбнулся. Но в душе моей все же жила смутная тревога. Я бросился из дома и пять минут спустя мчался в Лабинскую, на телеграф. Единственный способ: либо рассеять тревогу, либо последовать примеру тети Эмилии.
Лишь к следующему полудню телеграфист, которому моя физиономия предостаточно надоела, сунул мне бланк, на котором от руки и не очень разборчиво было начертано: «Не волнуйся, мне теперь хорошо. Тетя побудет со мной. Жди письма. Целую. Твоя Данута».
Пошатываясь от усталости, я вернулся к знакомым, у которых оставил коня, взял его и так, с Аланом на поводке, пошел пешком по станице; миновал Лабинскую, огороды, лесничество и все шел, шел, никак не решаясь перебить бесконечный поток мыслей, сесть в седло и поспешить домой.
У нас будет сын. Или дочь. Нет, сын. Сам поеду за Данутой, как только сообщит, что пора. Курсы ее кончатся. Всё! Нельзя больше жить порознь. Сын… Здесь родные, попросим доктора Войнаровского, он стар, опытен. Здесь и воздух родной.
Такие вот мысли занимали меня по дороге. Сын. Сын! Какой он будет? И как улыбнется, впервые и осознанно увидевши своего отца?
Усталость одолевала. Остановившись и глубоко вздохнув, я потрепал холку Алана, он ткнулся в плечо, теплые губы коня дотронулись до уха.
Какое-то время мы еще постояли на дороге. Ни души кругом, только зелень и чуть видные горы. Из степей наносило влажным ветром; похоже на петербургское лето. От телеграммы в нагрудном кармане исходило живое тепло. Мир устроен прекрасно. Сын…
Алан нетерпеливо встряхивал головой, гремел удилами, торопил. Перебросив поводья, я привычно тронул подпруги — не слабы ли — и занес ногу в стремя. Как раз в этот момент и послышалось тарахтение рессорной повозки. Пара коней неспешной рысью шла из Лабинской. Попутчики. Вот когда мне не требуются попутчики! Пусть проедут, нам спешить некуда.
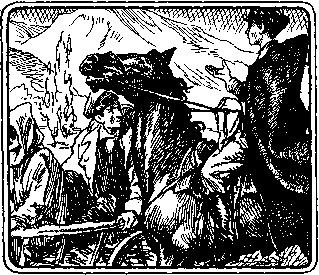 |
Повозка поравнялась. Я стоял за конем. Знакомый ездовой кивнул мне и, обернувшись, что-то сказал своим пассажирам, видно задремавшим на мягкой соломе.
— Стой! — услышал я голос, заставивший меня бросить Алана и шагнуть к повозке. — Стой!
Длинные ноги спустились на мокрую дорогу, человек сбросил с себя рыжий плащ, и длиннолицый, удивленный до испуга столь неожиданной встречей Саша Кухаревич бросился ко мне.
— Вот ты где! — прокричал он, воздев руки. Мы с ходу обнялись, поочередно приподнимая друг друга. — Ну, знаешь! Хорошо, что углядели! Ведь могли разъехаться, а? Могли же?
— Нет, Саша, не могли. Я в ту сторону, куда и ты.
— Домой?
— Вот именно. А ты, надеюсь, ко мне?
— Так точно, господин хорунжий! Или… Кто ты теперь? Может, уже подъесаул или бери выше?
— Как я рад, дружище! Такой гость! В отпуск? Или по делам своей Черноморской губернии?
Смущение на Сашином лице проявилось до очевидности ясно. Он погладил пальцами нос, бросил взгляд на повозку.
— Тут такое дело… — вполголоса начал он, но не договорил, схватил меня за рукав и потянул к повозке: — Знакомься.
Из-под капюшона на меня смотрело любопытное юное женское лицо. Оно принадлежало очень симпатичному смуглому созданию, курносенькому, пухлогубому, с удивительно яркими и большими темно-карими глазами.
— Катя. — Она улыбнулась и протянула мне руку.
— Моя жена! — В голосе Саши была нескрываемая гордость.
Боже мой, что делает с человеком время! Давно ли студент Кухаревич горячо уверял товарищей по институту, что жизнь во имя любой идеи или предприятия несовместима с семейной жизнью, привязанностью, даже с любовью! Он осуждал и меня, когда узнал о Дануте. У него хватило такта, чтобы не сказать этого вслух, но я-то помню взгляды, усмешки, вопросы… И вот пожалуйста, с этакой гордостью произносит: «Моя жена».
— Рад, очень рад, — бормотал я, и краснел, и больше не знал, что сказать, и видел, что Катя уловила мою растерянность и прямо-таки впилась своими блестящими темными глазами в мое лицо, потом в лицо мужа. Что такое?..
Саша потянулся к ней, бережно погладил по голове, сказал: «Едем, едем» — и полез в повозку. Я вскочил в седло. На подходе к Псебаю я сказал Саше, что поспешу, чтобы приготовить для них комнату, предупредил ездового ехать прямо к нам, и Алан обрадованно вынес меня вперед.
Смущение Саши, беспокойство его жены не производило впечатления простой поездки в гости. Было во всем этом что-то другое, а что — разве я мог догадаться? Почему он не предупредил?
Мое возбуждение, добрая телеграмма Дануты, сообщение о гостях — все сразу подняло настроение у домашних. Началась суета, какая-то передвижка, посыпались распоряжения, мама удалилась на кухню, и оттуда запахло вкусным. И тут к воротам подкатила повозка, мы вышли встречать гостей, и вот уже все за столом, Саша говорит, говорит, изредка бросая на жену взгляд, чтобы убедиться, все ли у него ладно, нравится ли ей это общество или не очень. Катя не гасила улыбку, иной раз вставляла фразу-другую, с юморком, очень удачно — словом, подбадривала мужа.
— Ну, а твоя работа? — спросил я. — По душе?
Саша схватился за нос, попытался что-то сказать, но именно в этот момент Катя осведомилась, когда я жду Дануту, и разговор ушел в другую сторону.
Когда Катя, извинившись, ушла в мою комнату, отведенную гостям, а родители принялись за повседневные дела, Саша потянул меня за рукав:
— Пройдемся?..
Мы вышли на темную улицу. Лицо друга выглядело необычайно серьезным.
— Слушай, — сказал он тихонько, — давай подальше от глаз людских…
Пока шли через мост, на луга, Саша растерянно молчал. Остановившись, он посмотрел мне в глаза.
— Ты обещал помочь мне, если обстоятельства… Так вот, Андрей, я приехал сюда в силу обстоятельств. Мы с Катей нуждаемся в приюте и в работе. Нам нужна жизнь без огласки.
— Что произошло, Саша? — с тревогой спросил я.
— Провал. Опасность. Ну, если все по порядку… От тебя скрывать нечего. Так вот, я еще в Петербурге был связан с Владимиром Старосельским. Может быть, ты слышал об этом «красном губернаторе» Кутаиса? Он большевик. Арестован. Но сейчас, насколько мне известно, ему удалось выехать за границу. Мы поддерживали связь до последних дней. В Новороссийске у нас крепкая организация. Но вскоре и тут арестовали наших друзей Газенбуша и Пухлинского. С ними мы встречались в Геленджике. Ты спросишь — чем занимались? Распространяли в городе «Звезду», «Дело жизни», печатали листовки.
— Печатали?
— Да, у нас свой станок. Сейчас он надежно укрыт. Так вот, на этих днях нам с Катей стало известно, что за одним из уцелевших друзей, который вернулся из сибирской ссылки, за учителем Федором Гладковым, охранка установила слежку. Уже выслали из Кубанской области моего наставника Виктора Лунина. Словом, я на очереди. И Катя, конечно. Последние дни шпики не спускали глаз с нашего дома. Кате грозит еще большая опасность, чем мне. Второй раз арестована ее подруга. Кубанский комитет Северо-Кавказского союза РСДРП принял решение — рассредоточить и укрыть отдельных своих членов, чтобы сбить с толку жандармское управление, создать впечатление, будто организация распалась. И я вспомнил о тебе, Андрей. Прими, устрой, если можешь. Год-другой надо пожить в самом глухом месте. Без связей, без посещения людных мест. Мы выехали тайно, никто не знает куда.
Так для меня приоткрылась новая сторона жизни, почти неизвестная. Нужно принять в ней участие — выполнить просьбу Саши. Дать ему приют — дело не трудное. Могут жить в Псебае сколько угодно. Но это на глазах у людей. Еще им надо работать. Где устроить?
Саша продолжал говорить, когда решение пришло мне в голову. Есть выход! Гузерипль. Требуется егерь на северный кордон Охоты, где по горам бродит небольшое стадо зубров, заповедные туры, олени. Полное безлюдье. Уж там-то действительно за семью замками. Но согласится ли Саша? Его жена?
— Ты что молчишь? — тревожно спросил Саша.
— Есть выход. Можно и принять и устроить.
Я рассказал ему о кордоне, не утаив трудностей, которые придутся на их долю.
Он потрогал нос, подумал. Спросил:
— Кто утвердит назначение?
— Никита Иванович Щербаков, он исполняет обязанности управляющего Охотой. Человек добрый и честный. Ответственность за Гузерипль пока на мне. Как тебе это предложение?
— Понято и принято, — уже весело отозвался Саша и заторопился домой. Ему не терпелось поделиться новостями с Катей.
— Слушай, — спросил я, — где ты отыскал такую дивную женщину, о ненавистник слабого пола! С твоими-то принципами, с твоими взглядами на семейную жизнь…
— Наверное, всему свое время, — не без смущения признался он. — Любовь… Катя работала в геленджикской больничке, она фельдшерица. Ну, а взгляды ее, сам понимаешь, у нас одни. Встречались на собраниях, познакомились.
Тут Саша остановился, строго посмотрел на меня и положил руки на мои плечи:
— Понимаешь ли ты всю опасность для себя и своих близких, когда оказываешь нам поддержку? В случае нашего ареста тебе не простят. Офицер, сын заслуженного офицера…
— …и твой старый товарищ. Этого достаточно. Оставь мрачные мысли. За что тебя арестовывать? Ты приехал работать егерем, будешь работать, как все егеря. За это не наказывают.
Видимо, вопрос мой — за что? — показался ему наивным. Но он только вздохнул.
— Ладно, Андрей. Спасибо. Действуй.
Больше на эту тему не говорили. Мы вернулись домой.
Когда все затихло, я вынес лампу на веранду, где устроился на ночь, положил перед собой четыре нераспечатанных письма и прежде всего вскрыл конверт, надписанный рукой жены.
Читал — и будто разговаривал с ней, вернее, слушал ее рассказ, ощущал ее близость, чувствовал ее мысли, даже наперед, что Данута сейчас скажет.
Письмо она писала до болезни. Из него я узнал об успехах ее в учении, немного о славной подруге Вале, коротко о столичных новостях. Одно было новым: «Мы никуда теперь не ходим по вечерам, разве просто пройдемся по ближнему бульвару, подышим свежим воздухом». Доселе они не пропускали почти ни одной премьеры, слыли завзятыми театралками, в письмах Данута так и сыпала именами актеров, солистов, музыкантов. Теперь-то я знал причину этой перемены. О здоровье она не упоминала, вообще никогда не жаловалась, не болела и считала это естественным.
Но вот еще строчки: «Кожевникова ты не знаешь, зоолог, меня познакомили с ним в университете. Так вот, этот милый человек сказал мне, что он лично считает судьбу зубров проблематичной. На мой вопрос, почему, Григорий Александрович ответил, что особенности зубров таковы, что только стадо в две-три тысячи голов обеспечивает продолжение вида. А в нынешних условиях, когда среда обитания резко ограничена человеком, для такого количества просто не найдется места. Я указала Кавказ, он позволил себе не согласиться. Пишу его адрес. Он просит тебя убедить науку, доказать способность территории обеспечить такое стадо пищей и спокойным обитанием».
Все это показалось мне очень интересным. Задача обширная. Но я плохо представлял себе, сколько десятин пастбищ и леса нужно одному зубру. И как это определить?
Второе ее письмо было целиком личным. Конечно, скучала, хотела быть вместе. Может быть, уже сказывалось недомогание и чувствительнее стало одиночество?.. И ничего не писала, как там решают с заповедником, хотя я просил узнать. Ну что ж, причина у нее более чем уважительная.
Письмо из Екатеринодара, поразительное по строгости и холодности, напоминало выговор. Смысл ответа из канцелярии наказного атамана сводился к тому, что не дело вам, господин хорунжий, просить каких-то разъяснений по предмету, не касающемуся вас по роду службы. Судьбу Охоты будут решать люди, коим это положено чином и должностью. Щелчок по носу.
Письмо от зоолога Шимкевича не затрагивало зубров. Доброе письмо наставника. Сообщал названия новых книг по зоологии, кои советовал прочитать. Просил, если можно, написать, как у нас дела с куницей, много ли ее. «Николай Яковлевич Динник, — писал он, — побывал в ряде станиц и в ближних к Большой Лабе дубравах. Он очень обеспокоен тем, что увидел в продаже огромное количество шкурок куницы. Так недолго и потерять этого ценного пушного зверя. К вам он не заехал по причине нездоровья…»
Еще раз прочитав письма жены и вспомнив о телеграмме, о тете Эмилии, я решил сегодня не писать ответа. Усталость брала свое. Завтра. Или даже лучше, когда вернусь из Гузерипля, чтобы рассказать ей обо всем сразу.
На другой день с согласия родителей я пригласил Никиту Ивановича Щербакова и представил ему Сашу. Сокурсник, лесничий по образованию.
— Кухаревич? — переспросил Щербаков. — Вы, случаем, не родственник Якова Ивановича Кухаревича, того офицера Войска Кубанского, что держит мастерскую на Дубинке?
— Сын, — коротко ответил Саша.
— Ну, свой человек! — Щербаков повеселел. — Якова Ивановича мы все знаем. Считайте, половина амуниции в Лабинском полку из его рук. Мастера у него первоклассные. Что седла, что сбруя али там чехлы, кобуры и все такое. Как это вы догадались к нам? Понятно: поближе к другу. Только вот супруга ваша не заскучает ли одна, коли придется жить в горах и в лесах?
— Летом она будет со мной в Гузерипле.
— Да, конечно, — просто сказала Катя. — Будем жить там. А на зиму переберемся поближе к людям. В Хамышки, например, если там нужен фельдшер.
— Еще бы не нужен! Ну, смелая вы, как видно! — И Щербаков с возросшим интересом осмотрел ее.
— Какое-нибудь жилье на кордоне есть? — спросил Саша.
— Сторожка, — ответил я. — Ее надо расширить, обиходить. Хуже дело с дорогой. Только в сухую погоду, летом.
Словом, мы очень быстро договорились, и на вопрос Щербакова, когда Александр Яковлевич приступит к делу, Саша без раздумья ответил:
— Немедленно.
Старший егерь посмотрел на меня.
— Снаряжение, проводы беру на себя. Попросим Кожевникова, он сейчас на Кише, там недалеко.
— Тогда и лошадок возьмем с Киши, — решил Никита Иванович. — Ютнера известить надобно, как считаешь, Михайлович?
— Непременно, — ответил я, решив, что тут спешить не следует.
Пока мы подбирали утварь, продукты, материалы, наши гости старались не выходить из дому. Лишь вечером мы втроем уходили за реку и там наговаривались обо всем на свете.
На Кишу послали хлопца с письмом. Через пять дней кони стояли на нашем дворе. Кожевников велел передать, что встретит караван в Хамышках. Также, передавал он, сюда прибыли гости из Петербурга, у них письмо от Ютнера, чтобы помочь и проводить. Фамилия того ученого… Тут посланец растерялся. Запамятовал.
— Динник? — подсказал я, вспомнив письмо Шимкевича.
— Не-е… Фамилия его… Филатов, вот какая фамилия, — обрадовался хлопец.
Филатов?.. Этого зоолога я знал по Гатчине. Ну что ж, пройдем по горам одним заходом. И новый егерь узнает свои владения, и гость увидит зубров с оленями и турами. Экспедиция не на один день. Значит, сегодня непременно письмо Дануте.
О том, что путешествие займет больше недели, сказал родителям. Огорчились, конечно. В такое-то время…
— Если что от Дануты, — добавил я, — тогда сообщите Никите Ивановичу, он отправит посыльного.
Саша тщательно готовил винтовку. Подумав, я отдал ему свой револьвер. К моему удивлению, он тотчас передал его Кате.
На мой немой вопрос она сказала:
— Обучена. Не беспокойтесь.
И, уверенно прокрутив барабан, осмотрела патроны, ствол, привычным движением вложила в кобуру. Как заправский военный.
Еще пастух не выводил станичное стадо, когда наш караван миновал последнюю станичную улицу и стал подыматься на пологую возвышенность по левому берегу Лабенка.
Катя ловко сидела на коне. Она была в брюках, сапогах; на широком ремне тяжело обвисала кобура. Саша наездником мог считаться лишь по званию казака, сидел неловко, гнулся вперед, винтовка у него съезжала чуть ли не поперек спины, он без нужды дергал повод. Караван вытянулся гуськом по той самой тропе, где покушались на мою жизнь.
Захламленный лес поразил Сашу.
— Что это? Похоже, лесорубы берут одни толстые комли в шесть — восемь аршин длиной, а остальную древесину бросают. Так?
— Клепку из дуба делают, с тонкомером возиться не хотят. А пихта идет на дрань. Станичники лес не любят. Вот поохотиться…
— Но есть же лесничий, лесники?
— За бутылку самогона десятину леса отдадут эти лесники, — сказал я, вспомнив Семена Чебурнова, на которого, по слухам, Улагай переложил все свои дела.
Мы шли с одной ночевкой, через Даховскую, стараясь приехать в Хамышки к темноте, чтобы не привлекать особого внимания. Это удалось. Проехали безлюдной улицей, завели коней во двор Телеусова, и тут, на крылечке, я увидел Филатова.
Он выглядел бравым, сильным, руку пожал крепко, широко улыбнулся, показав прекрасные зубы. Умный и пытливый взгляд доказывал, что человек он незаурядный. Словом, понравился; в моем представлении ученый и должен быть таким. На вопрос, как он проехал через Блокгаузное ущелье, ответил иронически:
— Как сквозь Дантово чистилище. Справа — ад, слева — ад. Пронесло. Зажмуркой. И далее предстоит такая же дорога?
— Случается и похуже.
— Но с вами, я вижу, едет женщина! Бесстрашное существо!
Мы тут же поговорили и о деле. Выяснилось, что он имеет поручение Академии наук хотя бы приблизительно определить поголовье горного зубра на Кавказе, а если удастся, убить одного-двух для Петербургского музея. О содействии Филатову в этом поручении писал Ютнер в записке на мое имя. С Филатовым для этой цели приехал и препаратор.
— Вы были в Боржоме? — спросил я.
— Ютнер сейчас в Петербурге, мы виделись там, — сказал Филатов. — Очень болен.
Когда я предложил Филатову наши последние подсчеты зубров, он откровенно обрадовался. Дело сделано! И тотчас согласился ехать с нашей экспедицией на северный кордон. Там ведь тоже можно поохотиться, раз есть зубры?
Мы переглянулись с егерями. Телеусов даже отвернулся. Лишь потом, наедине, сказал, что на примете у него есть больной бык в кишинском стаде; может, пожертвовать? Я кивнул: можно.
За поздним ужином Филатов рассказал, что происходит с давним предложением академии об устройстве заповедника на Кавказе.
— Обоснование по письмам вашего Шапошникова составил академик Насонов, документ получился убедительный. Великий князь возражений не высказал. Знаю, что посылали бумаги в канцелярию наказного атамана Войска Кубанского. Не знаю, читал их генерал Бабыч или нет, но ответ из Екатеринодара получили более чем странный. Станичные юрты не против передачи горных лесов заповеднику, но при этом требуют выполнить два условия: передать им взамен лесов казенные плавни в устье Кубани, богатые рыбой и зверем. А также все высокогорные луга для летнего выпаса скота. Тем более, что Охота уже предоставляла им эти луга.
— Далеко не все, — уточнил я. — У южной границы. И на плато Лаго-Наки.
— Ну подумайте сами, какой это заповедник, если зубровые и оленьи пастбища все лето будут наводнены домашним скотом! Вооруженные пастухи, жилье. Насмешка над заповедностью. В общем, стороны к согласию не пришли, нужное для России дело годами остается нерешенным.
— А если подать на высочайшее имя? — Это спросил Телеусов. Он верил высочайшему имени.
— Ах, да! Было и это, — вспомнил зоолог. — Эдуард Карлович Ютнер рассказывал, как Шильдер, Андриевский и другие лица из приближенных к особе государя подготовили ему на подпись указ об учреждении Кавказского научного заповедника. Все честь честью, визы, согласования, решение Межведомственной академической комиссии. Говорят, император прочитал лишь заголовок и отложил в сторону, не сказав ни слова. Напоминать ему сочли непочтительным. Так и повис наш заповедник в воздухе.
— На тонкой ниточке висит, — проворчал Телеусов. — Прослышат в подгорных станицах, что хозяина нет, осмелеют браконьеры до наглости. И уж тогда нам не сладить.
Я вспомнил и о нашем зубренке:
— Вам не приходилось слышать о том малыше-зубренке, которого вы смотрели в Гатчине? Мы увезли его тогда в Беловежскую пущу. Какова судьба?
— Что-то такое мне говорили, — не особенно уверенно молвил Филатов. — Кажется, этот зубренок уже в другом месте. Точно не скажу, но именно в связи с ним упоминали имя Гагенбека. Такая фамилия вам известна?
Кто из натуралистов в те годы не знал Карла Гагенбека, величайшего знатока животных, основателя знаменитого Гамбургского зоологического парка!
До сих пор зоологи так и не определили, кого называть основателем совершенно новой системы содержания диких животных в неволе: Карла Гагенбека или хозяина не менее знаменитого русского степного зоологического парка Чапли в Херсонской губернии — Фридриха Фальц-Фейна. Скорее всего, независимо друг от друга два натуралиста пришли к одному решению — создать для пойманных или купленных ими диких зверей условия более свободного содержания: не в тесных клетках, а в просторных загонах, напоминающих естественные ландшафты, конечно, в уменьшенном масштабе. Усилиями двух людей в разных местах Европы были созданы, как писали тогда газеты, «райские уголки для животных». Штеллингенский зоопарк под Гамбургом открылся 7 мая 1907 года. Парк Чапли, или Аскания-Нова, как потом все время называл свое детище Фальц-Фейн, был организован намного раньше. Нам было известно, что первых бизонов — родичей зубров — туда завезли еще в 1897 году. Позже в обоих парках появились и равнинные зубры. Но горного, кавказского зубра не имел ни тот, ни другой парк. Неужели Гагенбек сумел-таки перехватить нашего Кавказа?
Телеусов сердито слушал Филатова. Видно, и ему не очень-то приятно узнать об утрате «крестника».
— Но все это слухи, только слухи, — еще раз повторил Филатов, заметивший наше неудовольствие. — Вернусь в Петербург, выясню и, если угодно, напишу вам.
— Премного благодарны, — быстро сказал Алексей Власович.
В районе северной караулки наша экспедиция провела семнадцать дней.
Василий Васильевич Кожевников, знающий, в каком положении сторожка, договорился с плотниками. Два мастера из Хамышков, Саша с женой, мы с Филатовым и препаратор со своим помощником первые четыре дня занимались устройством жилья: перебрали пол и крышу, приделали сени, поставили навес, сарай, укрепили мост через Белую и два перехода над ее бурными притоками. И все дни не переставали восхищаться Катей, ее ладной работой, хозяйской ухваткой и присутствием духа. Даже топором владела! Когда мы взялись косить траву, шла в ряду с мужчинами, да еще подгоняла.
— Откуда это у вас, Катя? — спросил я.
— Жизнь научила, — просто ответила она. — Я крестьянка, в нашей семье каждый при деле вот с такого возраста. — Она показала ладошкой аршина на полтора от земли. — А фельдшерское училище уже потом, в Ростове окончила. Четыре года назад.
— А ребенка вы принять смогли бы? — не без тайной мысли спросил я, вспомнив о Дануте.
— Ну конечно! — И засмеялась.
На шестой, кажется, день мы ушли наверх, оставив Катю в утепленном домике. Две вьючные лошади стояли в сарае. Хозяйка решила перевозить сено. Уж как только Саша не наставлял ее! Не отходи далеко. К реке близко нельзя. Запирайся. Смотри, чтобы медведь… Без револьвера — ни шагу! Но мне кажется, можно было обойтись и без советов подобного рода.
Снова Абаго, Тыбга, Молчепа. Нам удалось увидеть два стада зубров в пять и семь голов, однако далеко за пределами выстрела. Филатов не обижался. Телеусов обещал ему быка в другом месте.
Сашу Кухаревича я снабдил подробной картой-схемой района. С особенной настойчивостью он тянул нас на юг и запад, за пределы охраняемого места: уж очень хотел осмотреть старую черкесскую тропу на перевал, у южного подножия которого находился когда-то Бабук-аул. Оттуда к морю шла довольно приличная дорога.
— Дался тебе этот путь! — недовольно заметил я.
— А как же! Ты говорил, что там пастухи и скот, значит, опасность, — напирал он.
И нам пришлось поехать еще к Фишту.
С вершины Черкесского хребта Саша углядел внизу зеленый разлив непроходимых лесов и синее море за этой зеленью.
— За что его назвали Черным? — удивился он, увидев синеву.
На пастбище в верховье Тепляка, где мы заночевали рядом с шалашами пастухов-армян (среди них были и браконьеры), Кухаревич собрал всех от мала до велика и почти час искусно вел беседу о природе и диком звере, о роли людей в природе и о будущем, которое он рисовал в духе утопизма Кампанеллы. Он напирал на охранительную роль человека и с таким волнением поведал известную повесть Сетона-Томпсона о мустанге и о трагедии с бизонами в прошлых веках, что вызвал благостные раздумья у этих детей гор. Упомянул, конечно, об охране зубров, оленей и туров, незаметно стал строгим и напомнил, что любое покушение на заповедного зверя обязательно приведет к возмездию.
В тот день разговор с упором на совесть человеческую показался мне и другим егерям наивным, пустой тратой времени. Но как бы там ни было, Кухаревич завел здесь знакомых и завоевал их расположение. Мы прощались с пастухами приятельски.
Назад Саша спешил. И на коне сидел ловчее, и винтовка у него как бы приросла к спине. Освоился, поверил в себя. А спешил потому, что боялся за Катю. На виду Гузерипля Саша поскакал рысью, остальные поотстали. Встретил он нас на мосту вместе с Катей. Она выглядела совершенно спокойно, а из Сашиных очей брызгал огонь войны.
— Понимаете, тут чужой бродит. — И указал за спину, на правый берег Белой.
А Катя сказала:
— Я придумала небольшую хитрость. Как вы отъехали, вот над этим мостом на высоте груди протянула ниточки. Может, это смешно, по-женски… Но прошлой ночью они оказались порваны. Следы сапог и коня на съезде, где я нарочно пригладила глину. Человек направился к сторожке, но саженей за сто свернул вверх по Молчепе. Идти за ним я побоялась, день провела в лесу, но никто не показался. Вот, собственно, и все.
Искать человека в дебрях у Молчепы — дело трудное. Все-таки скорее для очистки совести мы побродили на версту-другую от караулки, свежих следов не обнаружили и сошлись на том, что Саше, когда мы уедем, придется проявить особенную осторожность. Это был недобрый человек. Будь у него честные намерения, попросил бы приюта, как и положено в горах.
Ночью что-то не спалось, я встал и вышел. Саши не было. И постель Кожевникова в пристройке пустовала, матрац холодный. Значит, они ушли с вечера, как только мы заснули. Ясно — куда.
Тревога удержала меня во дворе. Свежая, влажная ночь, наполненная гулом реки, укрыла горы. Черные пихты стояли у самой сторожки. И люди в ночном походе… Понятно. Если в лесу бродит неизвестный, без костра он не обойдется. А костер далеко заметен. Потому и пошли в темноту.
И тут далеко-далеко едва слышно хлопнул один, потом второй и третий выстрел. Я нервно заходил возле домика, не зная, что предпринять.
Вышел Филатов, спросил, почему не сплю. Сказал ему о выстрелах.
— Может, пойдем поищем?
— Разойдемся. Троп много. Только силы растратим.
Он сел, чиркнул спичкой. Шел четвертый час.
На сеновале завозились остальные. Потянуло махорочным дымом. Плотники закурили.
Лишь около восьми, когда солнце пробило туман, а завтрак остывал на столе, из лесу вышли Кожевников и Кухаревич. Катя бросилась им навстречу:
— Где вы были? Что произошло?
— А ничего не произошло, — пробасил Кожевников, искоса глянув на плотников. — Оленей твоему муженьку показал.
— А выстрелы? — очень некстати спросил Филатов, далекий от наших лесных дел. — Отыскали этого неизвестного?
Вот святая простота! Теперь будет известно в Хамышках да и в Псебае.
Когда мы остались вдвоем, Саша огляделся и вполголоса сказал:
— Знаешь, где накрыли незваного? На лесном перешейке перед лугами. Кожевников точно знал… Увидели отблеск костра, но он не спал, мерзавец, и конь наготове. Ветка под ногой у меня треснула, он на звук выстрелил, вскочил в седло — и как растаял во тьме.
— Но и вы стреляли!
— А как же! Раз он начал… Честный человек не побежит. И знаешь, кровь на кустах нашли. То ли в коня угодили, то ли в самого. Поискали кругом, на луга вышли, там след по росной траве видный. Ускакал к Холодной.
— А у костра?
— Чисто.
Развернули карту. Куда поедет, если ранен?
— Скорее всего, самого поранили, а не коня, — предположил Саша. — Коня бросил бы.
— Если так, то выйдет он в Хамышки. Но там долина трудная, да и побоится, что встретим его, опередим. Значит, в Псебай подастся.
— Чего ему надо? — задумчиво произнес Саша.
Пожалуй, он подумал, что выслеживают их с Катей. Я думал совсем о другом человеке.
Выехали мы с большим опозданием, лишь ночью прибыли к Телеусову. Здесь распрощался с Филатовым, который готовился добыть зубра на чучело. Алексея Власовича отдельно попросил послушать, нет ли у них или в Сохрае разговора о раненом человеке, и уже утром поспешил в Псебай.
Дом тети Эмилии стоял сиротливо, с закрытыми ставнями. Еще не приехала. Едва я зашел к себе, как отец подал депешу. Ютнер вызывал меня в Петербург.
И от Дануты было короткое и ласковое письмо. Придвинулось время каникул, она готовилась ехать с тетей домой.
Я пошел к Щербакову доложить, как устроились в Гузерипле новые работники. Естественно, похвалил Кухаревича за энергию, рабочее настроение. И сказал о ночном поиске, выстреле по егерям, их ответном огне.
Никита Иванович долго молчал, почесывал в смущении затылок, потом, что-то решив, сказал:
— А пойдем-ка мы с тобой к Ванятке Чебурнову. Прямо сейчас.
— Зачем?
— А затем, что Ванятку этого сегодня раненько повезли на Лабинскую в лазарет. Толкуют, ногу разбил где-то в горах. Операцию будут делать, а то и отрежут. Такое, знаешь ли, совпадение.
У младшего Чебурнова, недавно женившегося и отделенного, дом поражал угнетающей тишиной. Заплаканная супруга встретила нас недоверчиво и даже испуганно. Никита Иванович ласково пошутил с ней и, когда она успокоилась, осведомился, что там такое у Ивана стряслось.
— Коленка у его… Распухла до ужасти.
— И кровь есть?
— И кровь была. Рассек, бает, об камни. Горит огнем. Чем свет Семен прискакал на рессорке, уложил — и к дохтору.
Щербаков головой покачал, пожалел:
— Носит его нелегкая…
Винтовка висела на стенке.
— Хозяина? — спросил я и, не дожидаясь ответа, снял ружье, открыл затвор.
Никита Иванович лениво, как бы нехотя, вынул из кармана один патрон, протянул мне:
— Поди-ка, Михайлович, бабахни за двором.
— Ой, зачем же? — Жена даже присела от испуга.
— Да ты не той… Проверим. Жаловался он, осечки случаются. Если так, попросим Павлова, пусть отдаст в починку. Вернется из лазарета твой хозяин, а винтовка как новенькая.
Я вышел в огород, выстрелил. И подхватил выпавшую гильзу. Вмятина на пистоне оказалась чуть в стороне от центра.
Возвращались молча. Ощущалась непомерная усталость — не физическая, нет! Ванятка Чебурнов… Я знал о нем понаслышке, от Семена. И вот поди же, этот самый Ванятка, земляк, станичник, подкарауливает меня на тропе и стреляет, хотя я никогда не сделал ему ничего плохого. Наемный убийца? Рядом, через две улицы… Неужели Улагай пошел на сделку с ним? Ну, а завтра? Пусть не Ванятка, но кто-то другой, получив сребреник, будет караулить меня в лесу…
Ясно, что Лабазан тоже на его совести. Пока опытный браконьер преуспевал, этот бездельник, изгнанный из Охоты, присосался к нему, помогал бить зубров, сбывал шкуры и мясо, позвякивал нечестно добытой монетой. Но как только Лабазан попал в беду, Ванятка повернулся к нему спиной. Ушел от беспомощного, раненого человека, бросив его на верную смерть. Ушел, чтобы продать шкуру и мясо последнего убитого ими зубра, а заодно и Лабазанова коня. О какой совести или чести можно тут говорить? Что это за человек? И как они похожи друг на друга — братья Чебурновы!
— Чего голову повесил? — добродушно спросил Щербаков. — Уяснил теперь, кто в тебя стрелял? Клокочешь гневом, мщения просишь! Возьмешь две стреляные гильзы и понесешь в суд? Вот вам, господа судьи, доказательство, засадите убивца в тюрьму, чтобы я мог жить без опаски… А мало ли винтовок со сбитым бойком? Почем знать, где подобрал ты гильзы? Посоветуются господа судьи и вернут тебе эти самые доказательства. А Ванятка будет ходить гоголем. — Щербаков как-то странно засмеялся. — Только будет ли он ходить гоголем, это вопрос. Вдруг дохтур отпилит ему ноженьку? Тогда Ванятке не до леса. Кто стрелял-то в него?
— Оба стреляли. В темноту.
— Придется Ванятке сидеть на бревнышке у дома и придумывать, как извести бородатого Василия и твово дружка Кухаревича. А заодно и тебя, как бы вроде зачинщика. Никак я только не пойму, чего Ванятка в Гузерипль подался, по какой надобности? Уж не за тобой ли следом? А может, вспомнил, что караулка пустая, поживиться на зубрах?
Нечего мне было ответить Никите Ивановичу. Только у самого дома вспомнил о депеше Ютнера, показал. Щербаков прочитал.
— Надо ехать. Не иначе о зубрах разговор, раз тебя вызывает. Узнаешь заодно, как нам-то дальше жить, что с Охотой. Поезжай с богом. И супружницу свою привози. Извелся, поди, без нее.
Через день я был в Армавирской. Еще через три в Петербурге.
На столичном перроне меня встречали тетя Эмилия, Валя и Данута. Как бросилась она ко мне, как прижалась! Я почувствовал ее отяжелевшую фигуру, всмотрелся в родное изменившееся лицо.
— Я подурнела, да? — тревожно спросила Данута.
Поцелуй рассеял опасения. Нам обоим стало хорошо, так хорошо, что все плохое отошло в сторону, стало таким мелким, что и думать о нем не хотелось.
— Через неделю едем домой, — сказала Данута.
— А меня возьмете?
— Как, тетя? Заберем этого молодого человека?
— Ну, если вы знакомы…
И засмеялась, смутившись.
Как я знал, Ютнер снимал квартиру где-то на Мойке, в центре города. Этот дом я нашел лишь к середине следующего дня, красивый трехэтажный дом со львами у подъезда. Львы удивляли очеловеченным выражением на мордах и разверстыми пастями. От них веяло не силой — мольбой.
Долго пришлось ждать. Эдуарда Карловича как раз смотрел доктор. В доме ходили неслышно, опустив глаза долу. Так ходят возле тяжелобольного.
Вопреки ожиданию, Ютнер принял меня на ногах, в кабинете. На нем был красивый домашний сюртук. Но выглядел он плохо, тени под глазами казались совсем черными. Пахло лекарствами.
— Вы такой бодрый, загоревший, сильный, — глухо сказал он, протягивая мне руку. — Чувствую дух Кавказа. Какое это счастье — молодость! И горы. Увы, мне уже не видеть наших гор…
Он вздохнул, сделал паузу и заговорил о деле.
К Западному Кавказу тянется много рук. Об этом известно, как он полагает, и в Псебае. Рождаются всевозможные толки, предположения, они вызывают неуверенность, ослабляют строгость в охране. Чтобы положить конец всяческим разговорам, он, Ютнер, твердо заявляет, что Охота пока остается. Деньги на охрану, содержание дорог и кордонов он приказал перевести в банк Екатеринодара. Ведать средствами поручено капитану Калиновскому, который живет там же. Старшим на месте остается Щербаков. В ближайшее время будут, как он считает, попытки массовой охоты, наезды разных лиц из Петербурга.
— Ваша задача, — тут он улыбнулся, — не отказывать в содействии, но и не содействовать стрельбе. Не мне учить своих егерей… А вот о зубрах разговор особый, почему, собственно, я и пригласил вас, а не Щербакова. Мы должны сделать все возможное, чтобы заповедность их на Кавказе осталась. Как и в Беловежской пуще.
Он заговорил строго, по-военному:
— Зубров надо сохранить, Зарецкий. И приумножить. Гордость русской природы. В Европе насчитывают по зоопаркам несколько десятков зубров. Утерять последнее дикое стадо нельзя. С нас достаточно печального опыта Северо-Американских Штатов. Я пригласил вас, чтобы лично подчеркнуть эту важную задачу. Вам будет нелегко. Не отступайте, не страшитесь ответственности. Познакомьтесь с Шапошниковым, он вам поможет. Я заготовил письмо для Щербакова. Калиновский извещен об этих планах. Вот его адрес. Обращайтесь к нему, если потребуется помощь… Что я еще хотел сказать вам?.. — Он устало закрыл глаза.
Речь его походила на прощальную. Словно завещание диктовал.
— Да, вот: доложите обстановку, — коротко приказал он.
Я рассказал о подсчете зубров, хотя уже писал об этом. Ютнер удовлетворенно кивнул. Упомянул о кончине Лабазана и об изгнании Семена Чебурнова. Ну и, конечно, обо всех повседневных делах наших: ремонте дорог, постройках, новом егере. Кажется, он остался доволен. Не перебивал, не хмурился.
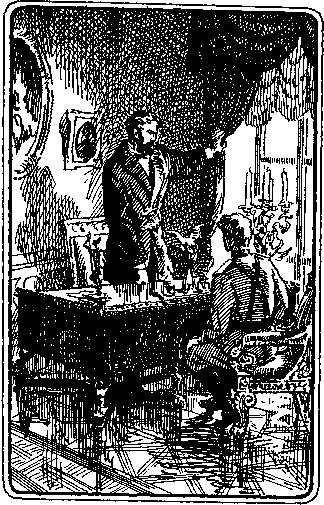 |
Потом была долгая пауза. Ютнер так и сидел с закрытыми глазами, словно позабыв обо мне. Не открывая глаз, спросил:
— Чувствую, вам хочется узнать о судьбе кавказского зубренка. Я не ошибся?
— Об этом меня просил егерь Телеусов. И сам я…
— Вашего зубренка в Беловежской пуще нет. Он у Гагенбека. В Гамбурге.
— Плохая новость, — вырвалось у меня.
— Как знать. — Ютнер открыл глаза. — Как знать, Зарецкий. Время покажет.
Мы простились. Он приказал навестить его завтра.
Назавтра я пришел примерно в то же время. Ждал около двух часов. Наконец вниз сошел грустный молодой человек, видимо родственник, и сказал, что ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни Эдуард Карлович принять меня не сможет. Врач запретил ему заниматься всякой работой.
— Мне можно возвращаться домой?
— Конечно. Если нет других дел в Петербурге.
Больше я не видел Ютнера. Никогда.
На этом заканчиваются записи в темно-зеленой книге дневников Андрея Зарецкого. Ниже последней строки стоит дата: июль 1912 года.
Не уверен, что все описанное во второй части дневников произошло именно до июля 1912 года. Какие-то события могли случиться немного раньше, другие — позже лета того года.
Это мнение укрепилось, когда я обратил внимание на начальные страницы третьей, синей книги. Там стояла дата: март 1917 года. Разрыв во времени у аккуратного летописца, как видим, довольно велик, около пяти лет. Почему Зарецкий так долго не открывал своего дневника, понять трудно. За эти годы, конечно, многое могло измениться, тем более что тучи над головой Андрея Михайловича сгустились после выстрелов на северном кордоне. За эти годы началась война, потом революция. К счастью, в синей книге нашлось много разрозненных листков — сделанные на скорую руку записи военных лет.
Одни события удалось восстановить по статьям, книгам и журналам — этому бесценному дару минувшего, прикоснуться к которому позволяют наши исторические библиотеки. В частности, это относится к положению кавказских и беловежских зубров в год перед империалистической войной, во время войны, затем в годы революции 1917 года и гражданской войны.
Другие события пусть не полностью, но все же оставили след в военных записях Зарецкого и в письмах, обнаруженных, как уже говорилось, между страниц во второй книге дневников.
Их оказалось восемь, все на имя Зарецкого, все без конвертов, аккуратно развернутые листки тонкой почтовой бумаги форматом меньше обложки книги. По этой причине они, наверное, и сохранились: письма оставались незаметными, они не вылезали в стороны и не подымали обложки. Они стали как бы частью сшитых страниц, слегка приклеившись к ним, и потому не выпали, когда старый дневник переезжал вместе с другими вещами из дома в дом.
А между тем письма эти проливают свет как на жизнь Андрея Зарецкого и его семьи, так и на историю с зубрами, которая очень органично вошла в повседневность нашего героя и всех его окружающих — и друзей и недругов.
Скажу еще раз, что чтение записок Зарецкого я начал не с красной книги, содержание которой теперь уже знакомо читателю, а именно с этих писем, обнаруженных тотчас же, как только в руках у меня оказались дневники и я, любопытствуя, начал листать их, привыкая к чужому почерку и останавливаясь то на одной, то на другой интересной для меня фразе.
Трудно было удержаться от желания в первую очередь перечитать именно письма. Если не все, то хотя бы некоторые, написанные более разборчиво. И если не всё подряд, то хотя бы выборочно, чтобы уловить информацию, сокрытую в строках письма.
Разве не так поступаем мы и теперь, так сказать, уже в новое время, когда получаем из рук почтальона письмо; бросив взгляд на обратный адрес или штамп почтового отделения, нетерпеливо обрываем кромку конверта, разворачиваем листки и бегло — со страницы на страницу — просматриваем строки, имена, последние фразы и подпись. А уж потом, успокоив тревогу, надежду, радость, просто любопытство, позволяем себе не спеша, вдумчиво и без пропусков перечитать письмо еще и еще раз от начала и до конца.
И вот теперь, обнаружив досадный пропуск длиной почти в пять лет, беру на себя смелость рассказать о том, что нашлось в письмах давно ушедших людей, в военных записях Зарецкого, дополнить их изысканиями по печатным источникам тех лет и по разговорам с немногими людьми, оставшимися в живых до семидесятых годов.
Если я не привожу дословного текста оригиналов, то делаю это не для того, чтобы изменить сущность давно прошедших событий или как-то приспособить факты истории к ходу действия по книге. Вспомним, что сюжет, все развитие романа строятся не на чистой авторской выдумке, а на основе записей в дневниках главного героя. Единственная цель пересказа писем взамен дословного изложения их — сохранить усвоенный автором стиль произведения, особенность изложения мыслей, пусть несовершенных и не всегда гладких, но уже привычных для читателя, обнаружившего терпение дочитать множество страниц до этого самого места.
Итак, рассказ о событиях, не попавших в дневники Зарецкого, которые составили целую главу, и его записи уже с войны до февральских дней 1917 года, тем более интересные, что из них мы узнаем о судьбе беловежских зубров…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |