"Альтернатива" - читать интересную книгу автора (Семенов Юлиан Семенович)
МОЛЧИ И НАДЕЙСЯ
Встречи с эмиссарами Павелича, которые сразу же после переворота ринулись в страну, обходя пограничные посты, Веезенмайер не доверял никому, ибо сам взвешивал и соизмерял силы, которые представляли легальный Мачек и нелегальные усташи. Путь к его, Веезенмайера, победе был именно в этих двух силах: бескровной — мачековской и кровавой — усташеской. Выдавая авансы на будущее тем и другим, Веезенмайер поступал как политик «нового типа» — сначала привязать к себе людей, а уж потом выдвигать того или иного; причем тот, кого он выдвинет на авансцену, уничтожит своего политического соперника, а он, Веезенмайер, останется в стороне.
Со Славко Кватерником, доверенным Павелича, полковником бывшей австро-венгерской армии, Веезенмайер виделся почти ежедневно на двух конспиративных квартирах в пригороде Загреба Тушканце.
С писателем Миле Будаком, ближайшим соратником Павелича, Веезенмайер толком поговорить не смог: тот лежал в больнице. Он вернулся в Югославию открыто, сразу после амнистии тридцать восьмого года, и власти не арестовали его, ибо книги его читались нарасхват и умные люди в министерстве внутренних дел справедливо решили, что суд привлечет к Будаку, а следовательно, и ко всему усташескому движению чрезмерное внимание. Его связи тщательно контролировались, но жил он на свободе, и постепенно интерес к нему пошел на убыль не только в Белграде, но даже и в Загребе.
Именно Будак познакомил Веезенмайера со своим лечащим врачом Нусичем.
— Это наш друг, — пояснил он, — хотя официально состоит в партии Мачека. К нему приходят все наши связные от Павелича.
…Веезенмайер отложил альбом с рисунками Леонардо и поднялся из-за стола.
— Да, мой дорогой доктор, вы правы: живопись, и только живопись — первооснова анатомии. Талантливый врачеватель должен уметь рисовать. Но в таком случае истинный художник обязан снимать боль, не так ли?
Доктор Нусич поморщился.
— Высший стимул развития — боль. Страх перед болью дал анестезию; страх перед болью породил практику межгосударственных отношений, ибо война — это собранная воедино боль миллионов. Боль надо уметь отвлечь, притупить, но ликвидировать боль преступно по отношению к прогрессу.
— Вы когда-нибудь высказывали эту теорию пациентам?
— Когда я пломбирую зуб губернатору Шубашичу, он покрывается потом. Он полон страха. Мой голос действует на него вне зависимости от того, что я ему говорю. Торжество технического гения — скорость, сообщенная электричеством сверлу бормашины, — пугает его куда как больше, чем мои теории.
— Но ведь «сначала было слово», доктор. Сначала надо придумать идею, потом увлечь ею своих соратников, а уже потом идея может стать силой, которая перекорежит мир.
— С моей идеей никто и никогда не согласится. Чем дальше, тем заметнее человечество помещает самое себя в вакуум блаженства. К добру это не приведет…
— А вы боитесь боли?
— Конечно. Но я боюсь ее так, как боятся обожаемого отца. Я боготворю ее.
— Наверняка кое-кто из коллег обвиняет вас в том, что вы привезли из рейха не только оборудование для своего кабинета, но и идеи.
— Почему кое-кто? Все обвиняют меня в этом. Все, кроме русского эмигранта Николаенко, тестя адьютанта здешнего главнокомандующего, — многозначительно добавил Нусич. — Николаенко меня понимает… А нашим невдомек, что, лишь исследуя степень боли, можно понять течение болезни и научиться управлять ею. Вкатывая раковому больному морфий, мы думаем, что оказываем ему услугу. Ерунда! Больной обречен на смерть с того мгновенья, как в нем родился микроэмбрион опухоли. С этого мгновенья человек должен принадлежать не себе, а медицине. Я должен иметь право заглядывать в его глаза, мять его живот, слушать его вопли и спрашивать: «Куда отдает? Степень отдачи? Где и как болит?» Тогда я спасу — бог даст, в будущем — тысячи и тысячи жизней другим людям.
— Вам страшно заглядывать в глаза страдальцам, доктор?
— Надо п р е с т у п и т ь г р а н ь. Сначала надо преступить грань. Тогда вы почувствуете в себе «откровение», ощутите свою высоту и свое право.
Веезенмайер откинулся на спинку стула, лицо его побледнело.
— Что? — спросил Нусич. — Не выспались?
Веезенмайер покачал головой.
— У меня высокий сахар в крови. Внезапные головокружения…
— Диабет?
— Не находят. Видимо, начинается рак… А?
— Вы имеете право носить оружие, так что рак вам не страшен. Он страшен тем, кто должен вымаливать цианистый калий или тащиться к окну, чтобы прыгнуть на асфальт. А еще страшнее он для жизнелюбов: те готовы на любое предательство, лишь бы спасти жизнь.
Веезенмайер потер лоб своими детскими пальцами, на коже остались жирные красные полосы.
— Нервишки надо укреплять, — сказал Нусич, — вегетативная система у вас ни к черту.
— Это потому, что начальство теребит, — вздохнул Веезенмайер и открыл глаза. Лицо его приняло обычный цвет, чуть желтоватый, нездоровый, но не мраморный, как минуту назад. — Требует точного ответа: провозгласит Мачек независимую Хорватию или нет?
— Об этом спросите Евгена. Только дайте ему поспать еще полчаса, — осторожно глянув на немца, сказал Нусич. — Он всю ночь беседовал с нашими боевиками. Он вам ответит точно. Лично мне кажется, что Мачек на такой шаг не решится… Трус! Мы все, правда, трусы, но хоть скрывать умеем.
— Почему Грац остановился у вас?
— Самая надежная явка. Врач выше подозрений.
— А может, все-таки разбудим? — виновато сказал Веезенмайер. — У меня времени нет, доктор.
Нусич провел Веезенмайера в комнату, где спал Евген Грац — связник Дидо Кватерника, помощника Павелича, организатора убийства Барту. Евген Грац лежал, разметавшись на широкой тахте, и улыбался во сне, как младенец.
Веезенмайер приложил палец к губам и шепнул:
— Полиция…
Грац, продолжая улыбаться во сне, сунул руку под подушку, вытащил «вальтер» и, легко вскинувшись с тахты, открыл большие круглые глаза. Лицо его еще какой-то миг хранило улыбку, потом губы сжались в серую резкую линию, и, лишь узнав Веезенмайера, Грац потянулся, заломив жилистые руки за шею.
— Вот всадил бы вам пулю в живот, профессор… Здравствуйте, наконец-то пришли, я тут без вас тоскую.
— Здравствуйте, дорогой Грац, рад вас видеть.
Веезенмайер действительно был рад встрече с посланцем Евгена Дидо Кватерника, которого — по всем нормам партийной этики — он обязан был ненавидеть из-за его происхождения. Хотя, согласно выводам института «чистоты расы», еврейская кровь деда оставалась в крови внука в незначительной пропорции, врачи СС считали тем не менее, что и такие люди являются носителями вредного духа и подлежат «безболезненной ликвидации». Придумывая легенду для Иосипа Франка, согласно которой он был всего лишь пасынком еврея, Веезенмайер тем не менее знал, что это то желаемое, которое лишь на какое-то время может быть выдано за сущее. Однако, несмотря на то, что он знал правду о Дидо Кватернике, несмотря на то, что он вынес несколько крутых выволочек от Розенберга: «Неужели среди миллионов хорватов надо обязательно выискивать какого-то еврея?! Неужели нельзя было создать другого человека, не испачканного грязью?!» — Веезенмайер тем не менее испытывал к шефу Граца странное чувство, похожее на постоянно удивленное обожание. Чувство это было противоестественным в своей первооснове, ибо к нему примешивались брезгливость, снисходительность, жалость, но никогда в его отношении к Дидо Кватернику не было недоверия. Он верил этому человеку, как себе. Даже больше, чем себе. Он помнил, как Евген Дидо Кватерник, отвечавший за группу боевиков, привезенных во Францию для ликвидации Барту, охранял своих питомцев, как заботливо покупал им дорогие костюмы и полотняные голландские рубахи, как экономил на себе, но для боевиков заказывал самые вкусные блюда в ресторанчиках, куда они изредка заходили. Он делал все это с любовью, как настоящий друг, зная, что эти люди должны быть выданы им властям и кончат свою жизнь на гильотине. Веезенмайер помнил, как Кватерник бился в истерике, когда пришло сообщение о гибели Владо — шофера в Марселе, растоптанного толпой, и об аресте остальных трех участников покушения. Павелич успокаивал его, гладил по спине, говорил о том, сколь труден и горек путь политической борьбы, а Дидо Кватерник повторял все время: «Они молочка просили, парного деревенского молочка, а я им — кофе, кофе, кофе… Надо было им из-под земли парного молочка достать — когда человек идет последней дорогой, трава на обочинах должна быть мягкой…»
— Я приготовлю кофе, — предложил доктор. — Или, может, хотите кофеина, Грац?
— Не надо, спасибо. Мечтаю о чашке крепкого кофе. В кофеине нет естества, и это сразу же пугает — а вдруг болен?
— Грац, друг, у меня времени в обрез. Давайте обсудим ситуацию, — сказал Веезенмайер.
— Не боитесь, что в Риме станут землю рыть? Итальянцы ревнивы.
— Ничего. Земля для того и существует, чтобы ее рыли. Давайте подумаем, как нам организовать работу в Югославии…
— В Югославии пусть работают англичане. Мы работаем в Хорватии.
— Надо быть реалистом. До тех пор пока вы не создали независимой Хорватии, нам суждено работать в Югославии. Разве не так?
— Такое уточнение устраивает и Павелича, и Дидо Кватерника, и меня. Когда все случится?
— Скоро.
— Я умею разговаривать с моими агентами и поэтому никогда не даю размытого ответа на точный вопрос — я боюсь, что мне перестанут верить.
— Грац, я штандартенфюрер СС, сиречь полковник, если перевести на язык здешней армейской субординации. А план вторжения у нас и план обороны у вас готовят министры. Скоро — это самое доверительное. Это то, что знаю я. Как скоро? Думаю, в течение двух недель, судя по тому, как меня торопят в Берлине.
— Мы успеем. Мы успеем даже за неделю.
— Рассказывайте, Грац. Тут, кстати, надежно? Аппаратуру установить не могли?
— Дом проверил наш человек, инженер-электрик. Телефон, видимо, ненадежен, но он на первом этаже. Можно говорить спокойно.
Грац сбросил простыню, снял со спинки стула брюки и рубашку, положил их рядом с собой, натянул носки и снова хрустко потянулся.
Веезенмайер поймал себя на мысли, что завидует той уверенности, с которой Грац одевается, не смущаясь своего тела, сильного и натренированного. Веезенмайер представил себя на его месте: он стыдился угрей на плечах, смущался, если кто-то мог увидеть его слабые плечи и неестественно широкий таз, словно насильственно прикрепленный к сухощавой фигуре.
— Штурмовые отряды усташей сейчас организовываются в десятки, — начал Грац. — Эти боеспособные единицы могут выступить в день X повсеместно.
— Оружие?
— Поставили итальянцы.
— Имейте в виду, итальянское оружие надо сначала опробовать. Бывает, что их автоматы во время атаки не стреляют.
— Мы уже опробовали оружие. Теперь второе. Списки тех, кто подлежит уничтожению, составлены, в день Х они будут ликвидированы.
— Это все?
— У вас есть дополнительные предложения?
— Да, Грац. То, что вы сделали, очень важно. Однако сейчас надо отладить связь с армией. Выяснить: кто, где, когда. То есть меру боеготовности, новые места концентрации войск, персоналии командного состава. На кого можно положиться и кто будет верен Белграду? Далее, связь с прессой и радио. Необходимо развернуть широкую кампанию дезинформации и распространить слухи, которые вызовут панику, страх и неуверенность. Не улыбайтесь, Грац, не улыбайтесь. Пропаганда — это оружие, которое в определенные моменты оказывается сильнее пушек… Кстати, кто такой Николаенко?
— По-моему, гениальный псих. Доктор вам сказал о его зяте? Адъютантик. Попробуйте. Может получиться.
— Спасибо. Теперь вот что… У вас с русской эмиграцией надежных связей нет?
— У меня лично нет.
— Понятно. А у вас лично, — улыбнулся Веезенмайер, — есть связи с теми, кто знает все о хорватских коммунистах?
Доктор Нусич вошел, держа в руках поднос, на котором были чеканный кофейник и три маленькие чашки на серебряных подставках. Горьковатый аромат турецкого кофе был густым и зримым, казалось, что воздух в комнате стал коричневым.
— Не голодны? — спросил Нусич Веезенмайера.
— Нет. Спасибо. Я стараюсь поменьше есть.
— Зря. Организм сам по себе откажется от того, что ему мешает.
— Я бы съел кусок мяса, — сказал Грац. — Или сыра.
— У меня великолепный соленый сыр. Вам принести, господин Веезенмайер?
Грац поморщился.
— Зачем спрашиваешь? Неси, и все. Буржуазная манера — угощать вопросом. Хорваты угощают, не спрашивая…
— Неприлично навязывать еду, — сказал Нусич, выходя.
Грац проводил взглядом доктора.
— Что касается хорватских коммунистов, то здешние большевистские агитаторы уже в тюрьме, их не выпустили, несмотря на амнистию…
— Я знал об этом в тот день, когда Мачек отдал приказ об аресте. Он арестовал их, чтобы показать нам свою силу… Серьезные люди?
— Очень. Особенно Август Цесарец.
— Талантлив?
— Да. — Грац внимательно посмотрел на Веезенмайера. — Нет, — поняв его без слов, сказал он, — Цесарец на контакт не пойдет. Он фанатик.
— Вы знаете, что Тельман не расстрелян?
— Почему?
— Будет очень славно, когда он обратится к немцам и скажет о правоте фюрера. Поддержка бывшего врага подчас важнее, чем славословия друга…
— Цесарец не согласится…
— Попробовать можно?
— Можно. У нас надежные подходы к тюрьме.
— Майор Ковалич?
— Ого! Сам признался или он уже давно с вами?
— Ковалич действительно верный человек, — усмехнулся Веезенмайер. — Попробуйте, а? Цесарец во-первых писатель, а уж во-вторых коммунист. Творческий человек, если он талантлив, всегда сначала «я», а потом «мы».
Грац покачал головой.
— Я не верю, что он согласится…
— А остальные? Которые взяты с Цесарцем? Что это за люди?
— Кершовани и Аджия — профессора, публицисты, теоретики. К их слову прислушиваются, и слава богу, что они лишены возможности говорить.
— Ну а Прица, например?
Лицо Граца стало презрительным.
— Он же серб. Серб, понимаете?
Веезенмайер медленно закурил, не отрывая глаз от Граца.
— Встречаемся завтра вечером. Здесь же. Да?
— Да. Погодите. Попробуйте сыр. Нусич скряга и дает домашним гроши на еду. Но ему присылают с гор великолепный сыр пациенты, которых он спасал от зубной боли.
После встречи с Грацем Веезенмайер вернулся в отель, где у него была назначена беседа с Фохтом. Проинструктировав оберштурмбанфюрера на ближайшие сутки, Веезенмайер поднялся к себе в номер, а Фохт отправился в город.
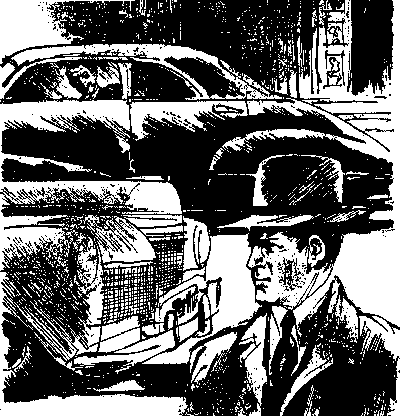 |
Он пересек улицу возле стоянки, где бросил свой маленький ДКВ.
— Господин Фохт, — окликнул его человек, сидевший за рулем большого синего «паккарда», — не откажите в любезности сесть на минутку ко мне в машину.
— С кем имею честь? — спросил Фохт, хотя сразу узнал полковника Везича: он только что внимательно разглядывал его фотографии, сделанные в разные годы.
— Да полно вам, — сказал Везич. — У меня личный разговор. Хотите, могу пересесть в вашу колымагу.
— Простите, но я не знаю вас.
— Знаете, знаете. Везич я, господи. Задержу на полчаса, не больше.
…Какое-то время Везич молча вел машину по маленьким улочкам Загреба. Лишь выехав из центра, он обернулся к Фохту.
— Здесь никто не помешает — ни ваши, ни наши.
— Я с детства мечтал о таких романтических поездках, — сказал Фохт. — Но никогда не думал, что соседство Турции может наложить столь заметный отпечаток на южнославянский характер.
— Что вы имеете в виду? Роскошь, храбрость, жестокость?
— Вы убеждены, что Турция — синоним жестокости? По-моему, Византию характеризует усложнение самой примитивной хитрости.
— Занятная трактовка Византии. — Везич посмотрел на часы. — Я уже отнял у вас девять минут. В моем распоряжении двадцать одна минута.
— Могли бы по дороге объясниться.
— Господин Фохт, чтобы не водить коня за хвост, хочу вам сказать, что запись беседы, которую ваш агент проводил с майором Коваличем, у меня в сейфе.
— Мой агент?
— Скажем, агент из вашей группы.
— Кто этот агент и чем занимается майор Ковалич?
— Вашего агента зовут Бранислав Йованович, он человек Евгена Граца, а Ковалич ведает оперативной работой среди политических заключенных. Адрес квартиры, где проходила беседа, нужен?
— Не обязательно.
— Если этот материал ляжет на стол министра внутренних дел, вас всех вышвырнут из Югославии как шпионов. А газетчики напишут, что ваши руководители поторопились: ведь в Словакию ваш шеф, доктор Веезенмайер, приехал уже после того, как танки господина Гитлера заняли Прагу…
— Шантажируете?
— Это не деловой разговор. И потом вы не тот человек, чтобы вас шантажировать. И я не такой человек. И характерами мы с вами отличаемся от несчастного Косорича, не так ли? Хотите ознакомиться с его посмертным письмом? Фотографии вашего сотрудника Дица и покойного Косорича подшиты к делу.
— Вы уже начали дело?
— Начал.
— Но это в а ш е дело? Оно ведь не санкционировано свыше? Вы вправе распоряжаться им так, как подсказывает здравый смысл?
— Именно. Поэтому я и хочу предложить вам помочь мне, господин Фохт.
— В чем именно?
— Я хочу знать цель вашей поездки в Югославию и то, какие инструкции вами получены в Берлине.
— Будем считать, что разговор наш не получился.
— Этим вы даете мне полную свободу действий?
— Полную. Только советовал бы вам руководствоваться в своих действиях немецкой пословицей: «Поспешай с промедлением».
— Я как-то больше тяготею к латыни.
— Вы имеете в виду «промедление смерти подобно»?
— Да.
— К вопросу о том, кто медлит, а кто спешит. Видимо, ваше ведомство ознакомилось с тем, кто я есть, перед тем как выдать мне визу?
— Конечно.
— Теперь давайте рассуждать дальше: переговоры, которые ведутся в Белграде и в Берлине по линии министерств иностранных дел, сейчас в самой серьезной фазе. Вас об этом не информировали? Всегдашняя узость бюрократических ведомств: «Это твое, а то мое». Переговоры идут, и это очень серьезно. От них многое зависит в судьбе Балкан. Всякая попытка ошельмовать меня и моего шефа будет рассматриваться Риббентропом как акт вражды по отношению к рейху. Переговоры будут прерваны. И вина ляжет на вас, полковник Везич. Позволят ли вам вершить судьбы войны и мира?
— А вопрос стоит о войне и мире?
— Бесспорно.
— И что же, с вашей точки зрения, более выгодно в данной ситуации — война или мир?
— Для кого?
— Для Югославии.
— Политику Югославии определяют ее лидеры. Вот мы и хотим понять, чего они хотят: и те, которые сейчас у власти, и те, кто в оппозиции, тайной или явной.
— А что целесообразней для Германии?
— Это зависит от того, каковы намерения — мы имеем в виду истинные намерения — Югославии.
Везич взглянул на часы.
— Мы уложились как будто?
— Как будто.
Через семь минут Фохт пересел в свою машину и сразу же отправился к генеральному консулу Фрейндту, а оттуда в торговую фирму «Юпитер» (эта организация была в свое время куплена ведомством Канариса, но сейчас по договоренности Гиммлера с Кейтелем офицеры абвера, сидевшие «под крышей» торговцев, оказывали самую широкую помощь Веезенмайеру и его людям).
А Везич поехал в резиденцию заместителя премьер-министра Мачека.
— Русская нация — не устоявшаяся, в отличие от саксов и латинян, — сердито повторил приват-доцент Родыгин, — это говорю я, русский, до последней капельки русский.
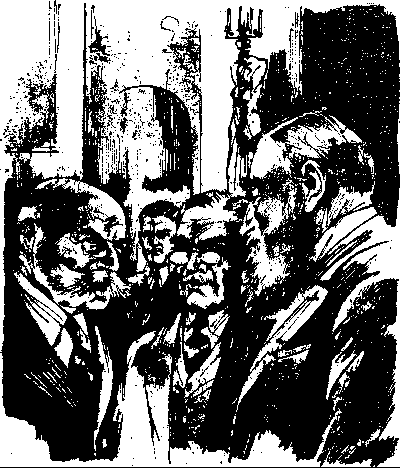 |
Он то и дело раскланивался со знакомыми, и Штирлиц с усмешкой наблюдал, как злился Зонненброк, считая неуважительной такую манеру вести беседу. Но Ивана Антоновича Маркова-второго это не смущало, он, как, впрочем, и большинство из тех, кто по предложению Зонненброка пришел сейчас в дом генерала Попова, слушал самого себя, говорил для себя и занят был более всего самим собою.
— Неустоявшаяся нация не могла бы сотрясать континент! — сказал Марков-второй. — Индусы и всякие там арапы воистину не устоялись; и поныне бродят, как брага; а мы…
— Будет вам, — перебил его Родыгин, «сделав ручкой» лейб-гвардии корнету Василию Макаровичу фон Розену, — статистика вас опровергает. У русской нации генофонд подвижный, а посему огромное количество флюктуаций при рождении. Из десяти немцев — пусть наши германские друзья не сердятся — рождается пять умственно крепких особей, пять средних и ни одного идиота. На миллион — один гений. А русскую семью отличает громадная отклоняемость от среднего уровня, — он взял Маркова-второго за лацкан пиджака и приблизил к себе, — либо гении, либо идиоты. Поэтому в России всегда было трудно гению и легко идиоту — общенародное сознание-то ориентировалось на человека слабого, который сам не пробьется, силенок мало. Отсюда русский культ богоматери, которая спасет и прикроет. В отличие от готического культа воспарения вверх нас отличает культ земли, культ прикрытия малого великим.
— Иоанн Грозный и Петр Великий — это тоже «малое»?
— Господи, Иван Антонович, — поморщился Родыгин, — не путайте божий дар с яичницей. Вы говорите об аристократах духа. Все они — даже при том, что княгиня Ольга была псковитянка, — все они, как правило, по крови европейцы. Только смешанная кровь и могла придать фактурность нашей хляби, нашему гениальному славянскому болоту.
— Европейская кровь — слишком общее понятие, — заметил Зонненброк, — вы же сами говорили об «устойчивости» саксов и латинян. Но помимо саксов и латинян существует еще такая кровь в Европе, как германская…
— Я предпочитаю оперировать категорией духа, а не крови, — ответил Родыгин. — Латиняне и саксы — нации металлические, их дух ковкий, быстро восстанавливаемый. Возьмите итальяшку: то он, как петух, распушит перья — и в атаку, а то бежит в панике, ну, думаешь, не очухается, а он, глядишь, отряхнулся и снова на рожон прет. А германо-славянский дух кристалличен, ковке не поддается. Он верен себе, противится динамике, изменению, пластике. Консервативный у нас дух, понимаете, в чем фокус весь.
— Я бы все-таки не объединял германский я славянский дух воедино, — сказал Зонненброк, — это несоизмеримые понятия…
— Отчего же, — перебил его Штирлиц, — соизмеримые, вполне соизмеримые. Продолжайте, пожалуйста, господин Родыгин, это крайне интересно, все, что вы говорите.
Штирлиц взглянул на Зонненброка, словно говоря: «Слушай, слушай внимательно, спорить потом будешь…»
Здесь, в доме генерала Попова, где собрались белогвардейцы, те, кто уповал сейчас на Гитлера как на единственно серьезную антибольшевистскую силу, надо было слушать все и всех. Штирлиц умел слушать и друзей и врагов. Конечно же врага слушать труднее, утомительнее, но для того, чтобы враг говорил, он должен видеть в твоих глазах постоянное сочувствие и живой, а отнюдь не наигранный интерес. Понять противника, вступая с ним в спор резкий и неуважительный, нельзя, это глупо и недальновидно. Чем точнее ты понял правду врага, тем легче тебе будет отстаивать свою правду.
— И славяне, и германцы — великие мистики, — продолжал между тем Родыгин, — а ведь ни англичане, ни французы таковыми не являются, хотя у них и Монтень был, и Паскаль. Они семью во главу угла ставят, достаток, дом, коров с конями. А славянину и германцу идею подавай! Революцию — контрреволюцию, казнь — помилование, самодержца — анархию с парламентом! Только если для славянина все заключено в слове, в чистой идее и он ради этого готов голод терпеть и в шалаше жить, то германец пытается этой духовности противопоставить Вавилон организованного дела!
— Почему же тогда наши с германцами доктрины столь различны? — спросил Марков-второй. — Отчего воюем?
— А это историческая ошибка. Славяне и германцы — два конца одного диаметра.
Почувствовав, что Зонненброк готовится возразить Родыгину, Штирлиц, быстро закурив, спросил:
— Почему вы считаете это ошибкой?
— А потому, что с нами воевать невозможно. Русский народ особый, да и талантлив избыточно. Его, как женщину, победить нельзя. Изнасиловать можно, но разве это победа? Женщину надо победить, влюбив в себя. Россию можно только миром взять, лаской, вниманием. Немка Екатерина взяла ведь. Всех своих царей поубивали, дворян сослали на север, а приехала Софья Ангальт-Цербстская и взяла нацию голыми руками, потому что добром увещевала. И создала государство на немецкий манер: ведь наши губернии — не что иное, как русский вариант германских федеральных земель.
— Вы думаете, славянин хотел этого? — задумчиво спросил Штирлиц.
— А бог его знает, славянина-то. Лично я бога хочу, справедливости я хочу, только я не умею государство построить, потому что Обломов я и всякое дело мне противопоказано!
— Что значит «дело»? Это вторично. Сначала идея. А в высшей своей идее государство должно быть абсолютной формой справедливости, — заметил Штирлиц.
— Это по Платону. — В глазах Родыгина появился интерес, он перестал раскланиваться с гостями и впервые за весь вечер внимательно и колюче осмотрел Штирлица. — Но ведь в России не было государства! Не было его на наших болотах! Какое государство на сибирских болотах? Там ведь и дорог не проложишь! Государство — это не просто идея, это обязательно нечто реальное, это воплощение замысла. А того, что в Европе воплотилось в разных вариантах, в России не смогли сделать ни орда, ни немцы. Сколько вы на нас свою «структуру» ни насылали, она в наших болотах по горло тонула. Но задача-то оставалась! Кто-то наше болото должен поднять! Да, мы такие, мы люди пустыни, люди схимы; это не хуже и не лучше, это очевидность. И не воевать вам против нас, а деловито цивилизовывать, ласково приобщать.
«Занятно, он производит впечатление человека, который играет одновременно на гуслях и на тромбоне, — подумал Штирлиц, — пытается быть угодным и махровым черносотенцам, и тем, которые начали прозревать…»
— Вы из дворян? Барон? — спросил Штирлиц.
— Я барон! — Родыгин залился быстрым, захлебывающимся смехом. — Какой же я барон?!
— Уж такой барон, такой барон, — хохотнул и Марков-второй, чем дальше, тем больше злившийся оттого, что немцы обращают на него так мало внимания, выслушивая бред блаженного Родыгина.
— Я разночинец, милостивый государь, разночинец.
— Разночинец — это русский мещанин? — заинтересовался Зонненброк.
— Ну, это весьма вольная трактовка, — не согласился Родыгин, — русский разночинец совершенно не похож на немецкого мещанина, ибо тот подчинен категории дела и мечтает стать буржуем, а русский разночинец тянется к аристократам духа, чтоб от работы, которая мешает рассуждать, подальше, подальше.
— Это именно то, что я хотел услышать, — сказал Штирлиц. — Поближе к аристократу. Но ведь русская аристократия тяготела к французской мысли. К английской…
— Нет. Англичане с их невероятным, непостижимым аристократизмом куда как больше обижали нас, чем немцы. Они тонко обижают, а ведь наш аристократ, дворянин наш, натура артистическая, обиду чувствует остро. Мужик — нет, он английскую обиду и не поймет, потому что слишком изощренна, но ведь не мужик иноземца в Россию звал; варягов князья звали, на немках и англичанках цари женились. Любовь к французам была, это вы правы. Но мы, дворяне наши, любили их только потому, что с ними о с о б о соприкасались. Они для нас вроде прекрасной дамы были. С немцами-то общались непосредственно, а француз за вами; француз — настоящий иностранец, к нему через всю Европу надо переть. Когда Наполеон к нам пришел, что вышло? Вода и кислота. Не соединилось, синтеза не вышло. Мужик мгновенно в леса ушел, потому что француз для него — цыган, европейский цыган.
Зонненброк вдруг рассмеялся и повторил:
— Европейский цыган! Великолепно сказано!
— Именно цыган, — не понимая внезапной веселости Зонненброка, сказал Родыгин. — Он ведь отдельно живет, хоть и не табором, он не смешивается. А немец смешиваться был согласен, он готов был по уши в наше болото влезть, хоть порой и по заднице дерется, хоть и груб. Вон корнет фон Розен — какой он немец, он же русский до последней кровинки!
— Эти ваши слова можно ему передать? — спросил Марков-второй.
— А вы не в дядюшку, милостивый государь, — заметил Родыгин. — Дядюшка ваш промеж глаз бил, а вы норовите сбоку. Прав был Павел Первый, который говорил, что в России тот аристократ, с кем в настоящий миг говоришь. Стоит только отвернуться, он бабой становится.
— Господин Родыгин, я просил бы вас подыскивать… — начал было Марков.
— Господин Родыгин, — Штирлиц перебил негодующую тираду Маркова-второго, — вы пытаетесь доказать наше родство со славянами, оперируя категорией духа. Но ведь матерь духа — философия. А наши философские школы разностны.
— Разве? Русская философия при том, что она с Кантом бранится, ветвь любопытная, своеобычная, но это вам не британский сенсуализм, они все сенсуалисты, хоть и фокусничают; это вам не французский прагматизм, а проявление высокой мистики. Германцы и русские во всех своих философских школах — высокие мистики. Поэтому-то вы нам в Европе родные, вы да эстонцы. Латиняне — люди другого духа, мы с ними ни в чем не сходимся.
— А испанцы? — улыбнулся Штирлиц. — Они ведь похожи на русских, хотя и духом, по вашим словам, ковки, и не кристалличны вовсе.
— Испанец — странное исключение в латинских народах. Точно так же, как норвежцы — близкие нам — странное исключение среди скандинавов. Действительно, испанцы на нас похожи, только они еще более дурные, чем мы. Они азартны, безудержны, они анархисты все. Нас хоть лень спасала, а они что? Уж они-то крови не жалели. Но испанский народ, у которого была величайшая миссия в истории, перешагнул свой пик в пятнадцатом веке, когда Филипп цивилизовал полмира и создал великую католическую систему. Теперь они в странном состоянии находятся. Франко — это временное; из Испании, как из куколки, новая бабочка родится, как новый немец при Бисмарке родился или новый русский при Ленине.
— А какой же этот новый русский? — сразу же спросил Зонненброк, и в вопросе его явно слышалась настороженность.
— Великий, — ответил Родыгин. — Он одержим идеей дела, этого в России никогда ранее не было.
— Значит, вы ленинист? — поинтересовался Зонненброк.
— Господь с вами! — Родыгин защитно выбросил перед собой маленькие розовые ладони. — Я русский настоящий, каким он и должен быть! Я русский, который герань на окнах любит и чтоб самовар в трактире пыхтел! И чтоб мысль главенствовала, мысль! А не запах пота, столь приятный латинянину или саксу.
Генерал Попов вышел на середину большой комнаты, которая вдруг показалась очень тесной из-за того, что здесь собралось так много народа, и поднял руки.
— Господа, попрошу минуту тишины. Слово для сообщения имеет наш друг из Берлина господин Зонненброк.
— Уважаемые господа, — сказал Зонненброк, когда аплодисменты (любит русская эмиграция аплодировать, спасу нет!) стихли и воцарилась напряженная тишина. — Моему другу и мне поручено сообщить, что правительство великого фюрера готово оказать помощь вашим детям и братьям…
По комнате пошел шепот:
— Наконец-то! Вспомнили, слава богу!
— Мы окажем вам помощь в сохранении знаний, в бережном отношении к тем традициям, которые привели вас к столь горестному шагу, каким по праву считается эмиграция. Мы заинтересованы в том, чтобы профессора и офицеры могли переехать в Берлин, чтобы помочь нам в создании сети учебных заведений для несчастных русских детей.
Генерал Попов снова поднял руки.
— Господа, запись во второй комнате.
Здесь, в Загребе, где русская колония была малочисленна и гестапо имело весьма жидкое досье на белую гвардию, Зонненброк повел работу иначе, чем в югославской столице, где можно было открыто говорить с людьми, завербованными СД прочно, надежно и давно.
Он решил «поиграть» в Загребе, составить подробную картотеку на эмигрантов, проверить ее через врангелевцев в Белграде, а потом уже начать работу с наиболее серьезными и перспективными людьми.
Воспользовавшись тем, что русские эмигранты, разбившись на группы, начали шумные дискуссии, Зонненброк подошел к Штирлицу.
— Ну как? — спросил он. — Сразу все и определим. А? Генерал Попов всех приглашенных зарегистрировал. Я пойду принимать заявления, а вы бы поговорили еще, Штирлиц. Я просил господина Родыгина познакомить вас с инородными националистами — резерв против сталинского интернационала.
Родыгин подвел к Штирлицу Ниязметова и Сухоручко, которые открыто афишировали себя как национал-социалисты.
— Вот, — сказал Родыгин, — ваш коллега хотел побеседовать с нашими инородцами. Один — в большей мере, другой — в меньшей, прошу любить и жаловать: господин Ниязметов — бухгалтер НАРПИТа, эмигрант второй очереди, бежал после дела мусульманского оппозиционера Султан Гирея. Господин Сухоручко — попович из Станислава.
— Очень приятно. Штирлиц.
— Я с удовольствием поеду в Берлин, — сказал Сухоручко. — Сейчас запишусь у вашего коллеги, и мы потолкуем.
Ниязметов взял Сухоручко под руку, и они пошли во вторую комнату, Штирлиц посмотрел им вслед.
— Ниязметов верит в ислам? — спросил он Родыгина, наблюдая за его вихляющей походкой.
— Ислам для него — некий символ духовной самостоятельности, не более.
— Значит, в России возможен новый исход? Мусульманский?
— Вряд ли. И потом — смотря где. В принципе-то каждая нация должна на чем-то зиждить свою самостоятельность. Хоть плохонькая, но своя литература, хоть плохонькая, но своя музыка. Что, думаете, нашему мусульманину сам по себе ислам нужен? На что ему три жены? Это нам кажется, что он счастливый, а вы думаете, ему легко с этими дамами управляться?! Или обрезание? Вы считаете, он искренне жаждет сыну своему крайнюю плоть резать?! Все эти фокусы символизируют национальное чванство, и ничего больше.
— Наш кайзер думал о создании мусульманских легионов.
— Когда перекраивается карта мира, когда замышлено великое переселение народов, тогда любая нация может оказаться в ситуации, при которой можно выторговать государственность для своих власть имущих. Думаете, здешние усташи не этим живы? Война — особая статья, господин Штирлиц. Вообще-то достоинство личности — главная проблема мира. Человек всегда заплеван и замордован, поэтому в революции и прет. А если не революция, то каждый свою особенность защищает: кто водку лакает, кто за красивой бабой гоняется, кто стихи пишет, а кто суры ислама поет. Центр ислама — Аравийская пустыня, самое непривлекательное на земле место! Другое дело у католиков — Рим, у лютеран — Германия, у православных — Москва. Почему католика в Рим тянет? Тепло там, красиво и еда недорогая. Западноукраинские католики, львовские униаты от века считали себя большими европейцами, чем все остальные славяне, и католицизм для них означал тайную национальную идею, не более. Играть этой своей «национальной идеей» униаты играют, несмотря на то что она иллюзорна, а католицизм для них — некий посошок в дороге, не более.
— Только ли посошок? — спросил Штирлиц, помедлив.
Чем дольше он слушал Родыгина, тем непонятнее был ему этот странный человек, который словно бы жонглировал идеями, словами, понятиями.
«Он хочет казаться блаженным, — подумал Штирлиц, — и ему это удается, но он похож на актера, который так вжился в роль, что сам не отличает, где игра, а где жизнь».
— Современный католический интеллигент стремится понять Эйнштейна, Жолио, Фому Аквинского, — продолжал между тем Родыгин, — а униат скользит по касательной. У них не тот католицизм, который рождает религиозный дух. Это не католицизм Франциска, Доминика, Бонавентуры. Униаты никогда не выдвигали новых идей.
— Если мне не изменяет память, украинцы дали миру великого философа. У него очень трудная, странная фамилия… Ско…
— Сковорода, — подсказал Родыгин и настороженно глянул на Штирлица. — Вы имеете в виду Сковороду?
— Именно.
— Так ведь Сковорода был материалистом — не униатом и не католиком. Вообще украинцы — это люди, мыслящие очень реально: они мыслят не вверх, а вокруг себя, вширь, точнее говоря. Для них католицизм не органичен, поверьте мне. Карта в игре, именно карта в игре.
— А униатские пастыри понимают это?
— Конечно. Они великолепно понимают, что католицизм на Украине — явление искусственное, форма драки за уголь и марганец. Поляки — те другое дело. У них есть душевная склонность к католицизму, потому что польская душа более вертикальна, она постоянно воспалена, утонченна. А украинцы по характеру ближе нам, русским; православию они ближе. Они ведь братья наши: они и поэтичны вроде нас, они больше язычники, они склонны обожествлять вещи, природу, мать. У них нет того, что создает великую теорию классического католицизма — Данте, например, — надменности. Они люди крепкие, земные, им понятно православие с его лоном, с материнской его укрытостью, с близостью к земле. Ведь Ярослав Мудрый не был ни русским, ни украинцем. Это все азиаты нас расшибли. Не погрязни в распрях орда с туретчиной, не испугайся они прогресса, не цепляйся за свои допотопные завоевательные догмы, глядишь, юг России остался бы под ними. Ан нет, здравый смысл подсказал: «Европа вперед ушла, она технику чтит, на нее и равняйтесь». И появился католицизм. А потом большевики Днепрогэс построили — и россы и хохлы к коммунистам откачнулись…
— Вот моя визитная карточка, — сказал Штирлиц, — тут берлинский номер, но я и здешний напишу. Позвоните, пожалуйста, господин Родыгин.
— Спасибо, будет время — непременно позвоню.
— Позвольте мне записать ваш телефон…
— Так у меня его нет, милостивый государь. Откуда же у русского эмигранта телефон?! Я не Манташев какой или Юсупов-Эльстон! Я снимаю квартиры без телефона, какие подешевле…
— Василий Платонович, — окликнул Родыгина высокий, наголо бритый старик с пышными седыми усами, — пойдемте отсюда скорее, меня стыд жжет.
— Познакомьтесь, господин Штирлиц, — сказал Родыгин, — это профессор Ивановский.
Ивановский руки Штирлицу не протянул, только поклонился, но повторил на великолепном немецком:
— Мне совестно за некоторых соплеменников моих. И вас жаль: собираете в Германии злобных неудачников.
— Мы бы с радостью собирали в Германии наиболее достойных, профессор, — сказал Штирлиц, — но без вашей помощи трудно отличить белое от черного.
— Это вы в порту себе поищите, — брезгливо осветил Ивановский, — там много потаскух, они вам помогут.
Ивановский был бледен, на висках его серебрился пот, глаза лихорадочные.
— Вы должны понять профессора, — пояснил Родыгин, — все происходящее здесь напоминает аукцион. Наиболее уважаемые люди из русской эмиграции не пришли к нам и не придут.
— Мы думали и мечтали об обновлении России, — добавил Ивановский, — это наше дело и наш долг, но служить на потребу иностранной державе мы не станем. Возможен союз равных, мы не против союза России и Германии, как и не против союза России с Францией или Америкой. Но то, на кого вы собираетесь опираться в вашей деятельности, ставит под сомнение искренность Германии в отношении нашей родины.
— Вы имеете в виду Россию?
— Я имею в виду Советскую Россию, вы совершенно правы.
— Почему бы вам не вернуться в Москву? — спросил Штирлиц, и глаза его сузились.
— Если бы меня пустили, я бы вернулся, господин Штирлиц, я бы вернулся. Я готов отдать знания родине, но торговать моими знаниями я считаю ниже моего достоинства. Вехи сменятся сами по себе, евразийское изначалие России — гарантия тому.
— Профессор, мне бы не хотелось, чтобы вы считали меня слепым чиновником. Ваша точка зрения представляется мне благородной. Я не стану оспаривать вас не потому, что не хочу, а оттого, что невозможно…
Ивановский и Родыгин переглянулись, и в глазах профессора Штирлиц заметил недоумение.
— Сколько я помню, — сказал Штирлиц, — евразийство не предполагало национального примата русских над немцами, да и вообще к вопросам крови относились как к вопросам третьего или пятого порядка. Лично меня привлекло в евразийстве отношение к культуре мира — уважительное отношение.
— Привлекает всегда то, чего лишен, — не удержался Родыгин.
— Если я сейчас лишен Томаса Манна, то, право, меня лично это огорчает, — сказал Штирлиц. (Его счетный мозговой центр сразу же разработал оправдание этой крамольной фразе, допусти он, что один из двух его собеседников — осведомитель гестапо: «Я говорил с врагом, и я должен был предложить ту игру, которая его увлечет. Если армия побеждает врага в схватке, то разведка может победить лишь в том случае, когда противник стал другом».
— Уж если немец интеллигентен, то он интеллигентен до конца, — сказал Ивановский.
Штирлиц молча пожал руки Родыгину и Ивановскому и пошел в другой зал, взглянуть, чем занят Зонненброк.
«Пусть собирает подонков, — удовлетворенно подумал он, — пусть собирает старых корнетов и выживших из ума генералов. Ивановский здесь не одинок, и это замечательно, что он не одинок. Очень будет обидно, если мне не поверят дома».
— Поехали к Николаенко, — Зонненброк повернулся к шоферу, — это на Медвешчаке; Слесарка, дом семь.
Шофер — немец, постоянно живущий в Югославии и завербованный СД еще в тридцать третьем году, — вертанул руль так, словно выкручивал руки врагу.
Зонненброк похлопал себя по карману, где лежал список русских эмигрантов.
— Мы неплохо поработали, Штирлиц, а? Я, признаться, не ожидал, что улов будет таким интересным.
— А что это за Николаенко? Наш человек?
— Нет. В том-то и дело, что нет. Им интересуются ученые из «седьмого института» СС. Но меня он сейчас занимает с иной точки зрения. Веезенмайер рвет и мечет, ему срочно понадобились люди из армии.
— При чем же здесь Николаенко?
— Его дочь замужем за адъютантом здешнего командующего.
— Ну, тогда другое дело. А то я не мог понять, зачем нам русская эмиграция.
— Эти русские будут работать на нас. Надо было, между прочим, сказать о школах для переводчиц — не подкладывать же в конце концов немок под н у ж н ы х нам красных?
— А во имя служения нации? — чуть улыбнулся Штирлиц.
— Нельзя портить кровь и мозг.
— А мозг-то при чем?
— Они же будут что-то чувствовать. А с иностранцами всегда иначе чувствуется, острее, что ли.
— У вас язык Петрарки, — сказал Штирлиц. — Каково с эдаким-то языком писать справки? Наверное, начальство ругает за словесные излишества. Нет?
— Наоборот. Мои справки зачитывают молодым офицерам как образец: начальство любит элемент таинственного, обожает ужасные подробности и интимные пикантности.
— Смотря какое начальство.
— Всякое начальство это любит, — убежденно сказал Зонненброк. — Внимательно понаблюдайте за их глазами, когда вы докладываете о какой-либо сложной операции, связанной с ликвидацией или похищением: у них глаза становятся как у детей, которым читают страшную книжку. Между прочим, вы перекусить не хотите, Штирлиц?
— Я перехватил бутерброд, сыт.
— Ели у русских? Мужественный вы человек. Я не могу. Ничего не могу с собой поделать. Понимаю, что ради дела надо уметь есть дерьмо, но, как доходит до того, чтобы положить в рот хлеб, нарезанный русским, меня выворачивает.
Николаенко жил во дворе маленького домика, во флигеле, который летом наверняка утопал в зелени, сейчас вокруг него торчали голые кусты жасмина и сирени с тяжелыми, набухшими уже почками.
Комната, которую занимал Николаенко, была крохотной, не повернуться; теснота была ощутимой еще и потому, что повсюду — на столе, подоконнике, стульях и даже на полу — лежали книги, а вдоль по стенам развешаны самодельные клетки с канарейками.
Выслушав Зонненброка, Николаенко усадил гостей на маленькую скрипучую тахту и, забормотав что-то странное, рассмеялся, глянув на себя в разбитое зеркало, висевшее над старомодным комодом.
Продолжая быстро и путано говорить, Николаенко насыпал корм в резные деревянные блюдечки, укрепленные в каждой клетке. Канарейки у него были диковинные, крупные и до того желтые, что казалось — только что из мастерской химического крашения. Потом внезапно бормотать он перестал, обернулся и другим уже голосом медленно произнес:
— Я рад, что на вашей родине меня верно поняли, друзья. Ум германцев настроен на мою проблему точнее, чем все другие умы мира.
«Господи, как же мне жаль его, — подумал Штирлиц, глядя на старика в стоптанных шлепанцах и лоснящихся брюках, — как мне жалко всех этих несчастных, живущих вне России… Хотя, попадись я им лет двадцать назад, вздернули бы на первой же осине. Да и сейчас бы вздернули. Трудней им сейчас, удали в руках нет, но вздернули бы. Кряхтя и потея, но вздернули. А мне их жаль, как жаль обреченного, с которым говоришь, зная, что диагноз уже поставлен и медицина бессильна».
— Я спрашиваю вас: отчего композитором может быть только мужчина? — без всякой связи говорил Николаенко. — Музыка — это венец творчества, это высшее проявление гениальности, ибо если каждый второй уверен в своей потенциальной возможности написать «Карамазовых» или «Вертера», то на музыку замахиваются лишь полные кретины. Нормальный человек понимает: «Мне это не дано, это удел человека иной духовной конструкции». Так вот, отчего композитор, — спрашиваю я — всегда особь мужского пола?
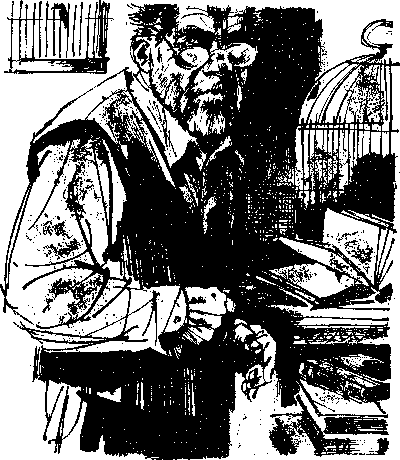 |
Николаенко оглядел Зонненброка и Штирлица из-под толстых стекол очков, свалившихся на бугристый конец большого носа. Глаза Николаенко показались Штирлицу бездонно голубыми островками донского неба, такими же чистыми и стремительными.
— Отвечаю, — продолжал Николаенко торжествующе. — Поскольку у птиц пение присуще лишь самцам и является симптомом полового чувства, у мужчин музыкальный гений — в этом я согласен с Мечниковым — составляет вторичный половой признак, вроде усов и бороды. Но если музыкальный дар прямо связан с половой психикой, то отчего же нам отвергать эту гипотезу в приложении к литературе, живописи, политике, наконец?!
— При чем здесь политика? — насупился Зонненброк. — Законы политики питаются иными посылами.
— Ну?! — удивился Николаенко. — А, по-вашему, литератор — это не политик? В его голове рождаются кабинеты министров, он выдвигает своих вождей, он дает миру идеи, которые приводят к социальным катаклизмам, он милует или убивает людей — своих героев, вызванных из небытия силой его духа, — он выжимает у вас реакцию сострадания, интереса, ненависти, и вы говорите, что он не политик?! А Бетховен — не политик? Вагнер? Или Глинка? Чайковский? Скрябин? Они больше, чем политики, они провозвестники чувственной идеи нации!
«Если бы сейчас Зонненброк сказал, что лишь фюрер — единственный провозвестник чувственной национальной идеи, — подумал Штирлиц, — разговор со стариком можно было бы считать оконченным. Но Зонненброк вещает то, что ему предписано партийным долгом, лишь тем, в ком не заинтересован. Где осталась хоть капля интереса, он сдерживается».
Умение слушать — редкостное умение. Как правило, люди склонны слушать себя, даже когда говорит собеседник, «пропуская» его мысли и доводы через себя.
Штирлиц научился слушать не вдруг и не сразу. Лишь уверовав в то, что каждый человек — это новый, неведомый мир, который предстоит ему открыть, он приучил себя к тому, чтобы слушать непредубежденно и лишь потом, по прошествии времени, выносить окончательное суждение.
Поэтому сейчас, слушая Николаенко, он не торопился считать его слова навязчивым бредом маньяка: «поспешать с промедлением» было вторым качеством Штирлица, которое много раз помогало ему прийти к оптимальному решению после разбора всех возможных вероятий.
Он видел и чувствовал, что у Николаенко не сходятся концы с концами в его системе, но тем не менее сама постановка вопроса казалась Штирлицу интересной. Талантливое, став всеобщим, обязано служить той или иной идее. Какой именно? Кто преуспеет первым? На что будет обращен талант как категория создаваемая? Кто станет управлять ею? Во имя каких целей? Отсчет в цепной реакции начинается с единицы, а она так важна, эта отправная единица, так важна… Штирлиц привык впитывать всю поступавшую к нему информацию, всю, ибо только время может определить, какая именно информация будет самой важной.
— А чем же — физиологически — объяснить инструмент гениальности? — продолжал Николаенко. — Лишь тем, что возбудитель семенных телец, таинственный и могучий сок простаты, входит во взаимодействие с мозговыми клетками особенно активно, когда на человека воздействует близость прекрасной женщины. Возбуждаемое представлениями половое чувство переходит в эффект творчества! Изящная словесность обезвреживает эти горячие, изнуряющие представления, предлагая творцу выход: строку или музыкальную фразу! Мир находится в смятении оттого, что любовь неуправляема, ибо ученые не поняли скрытого механизма физиологии любви. Платон уверял, что каждый человек — это лишь половина человека; и лишь «мы» — суть «два из одного». Поэтому каждый всю жизнь ищет вторую свою половину, которая и восполнит его тоскующее, одинокое «я». А если не восполнит, если человек так и не осуществит своего идеала в другом человеке, не угадает себя в нем, тогда он сопьется, кончит с собой или же напишет о своем идеале, пропоет его, изваяет. Это относится к творцам, которых единицы. А как быть с теми, кто должен таскать кирпичи и сажать хлеб? Как быть с сотнями миллионов обычных людей?
— Как быть с ними? — полюбопытствовал Штирлиц.
Николаенко торжествующе потер руки, отошел от клеток с кенарями, которые трещали и свистели на десять голосов, и присел на краешек стола. Зонненброк чуть отодвинулся — от Николаенко разило чесноком.
— Очень просто, — сказал он, приблизив свои пляшущие губы к лицу Штирлица. — Все донельзя просто. Надо пойти на жертву. Человек, признанный гением — в любой области творчества, это не суть важно в какой, — должен согласиться на изоляцию от общества. Он должен лечь в специальную клинику. Причем желательно, чтобы этот гений был стариком… Мы должны получить право исследовать механизм работы желез внутренней секреции, которые постоянно рождают таинственные частицы эроса, подстегивающие мозг: «Твори, ибо ты жаждешь!» Мы должны получить право брать посевы будущей гениальности из этих его желез, и тогда мы научимся управлять толпой, подчинив ее созданному нами сверхчеловеку.
— Ваше предложение рассмотрено в Берлине, — перебил его Зонненброк. — Мне поручено передать вам приглашение одной из наших клиник. Вы готовы ехать в Берлин?
— Хоть сейчас.
— Но это может быть неверно воспринято семьей вашей дочери.
— Галей? Тином? Что вы? Тин так же верит в германское «рацио», как и я.
— Уж не он ли посоветовал вам написать в Берлин? — посмеялся Зонненброк, и по тому, как наигранно он смеялся, Штирлиц понял, что это и есть тот вопрос, который интересовал оберштурмбанфюрера больше всех остальных.
— Именно он, — сказал Николаенко.
— Да, но отношения между Германией и Югославией сейчас обострились, — продолжал Зонненброк, — впрочем, я убежден, что это ненадолго. Как он отнесется к тому, что вы уедете в рейх? Может быть, устроить все-таки семейный совет?
— Знаете что, встретимся сегодня у меня вечером, попозже. Я приглашу Тина и Галю, побеседуем все вместе.
— А удобно ли высшему офицеру армии встречаться с иностранцем? — спросил Зонненброк.
— Вы же не шпион! Я всегда отделяю для себя политику от народа. Вы же не фашист, вы научный работник из Германии. Повторяю, Германии, а не какого-то рейха! — воскликнул Николаенко. — Нет, нет, пусть вас это не тревожит. Итак, сегодня в семь прошу ко мне. И, коли не шутите, я начну помаленьку собираться…
— Поменьше вещей с собой берите, — посоветовал Зонненброк, оглядев еще раз комнату. — В рейхе вам предоставят все необходимое.
— А рукописи?! Книги?! Записи бесед?!
— Скажите, пожалуйста, господин Николаенко, — негромко спросил Штирлиц, — вы чувствуете в себе силу работать с гением, которого придется изолировать?
— Вы прямо будто мои здешние русские оппоненты вопрос ставите. — Николаенко даже головой замотал. — Интонационно так же. Сложный вопрос вы мне задаете. Но я отвечу. Как известно, Сухово-Кобылин — был такой великий русский драматург — просидел два года в крепости по обвинению в убиении любимой женщины. В крепости, заметьте себе. Так, может, вместо того чтобы в крепость, его в клинику? Оскар Уайльд? А? А как Ван-Гог страдал в доме для душевнобольных? Или Ги де Мопассан? Поднять потерянное — вот в чем вопрос. По Чернышевскому надо жить — разумный эгоизм. Все остальное — сапоги всмятку! Тем более я не о себе думаю — о человечестве…
«Вот ведь сукин сын, а? — изумился Штирлиц несколько даже растерянно.
— Экую исключительность старикашка себе отбивает… Вот оно ницшеанство в его чисто злодейском виде».
— Очень своеобразно, — сказал Штирлиц, поднимаясь, — я получил истинное удовольствие от беседы с вами, господин Николаенко…
«Штандартенфюрер!
Операция, проведенная по выяснению плана мобилизационных мероприятий югославской армии, была, согласно вашему совету, замыслена как «сопутствующая» приглашению в рейх русского эмигранта Николаенко. Я рассчитывал, что он окажется невольным помощником в той беседе, которую мне предстояло провести с его зятем, адъютантом генерала Зинича. На ужине, который состоялся в доме Николаенко, адъютант генерала Зинича майор Тин Усич, услыхав о желании тестя уехать в рейх, согласился с этим его решением. (Лично я считаю поездку Николаенко нецелесообразной, о чем уже сообщил в «седьмой институт» СС. Странная неуравновешенность Николаенко показалась мне несолидной. Приглашение уже отменено.) В результате дальнейшей беседы с Усичем, которая носила доверительный характер, майор сказал, что, с его точки зрения, война между нашими странами была бы безумием. «Я отдаю себе отчет в том, что военная мощь Германии неизмеримо выше югославской военной мощи. Ваша авиация, — сказал он, — предпринимает налеты на Лондон, в которых участвуют сотни современных бомбардировщиков, прикрытых мощными истребителями. Мы не сможем противостоять вашей воздушной атаке. Вы бросили на Францию тысячи танков, прорвав оборону мощнейшей европейской армии. Нам не под силу сдержать ваш натиск». Такой откровенный разговор показался мне подозрительным. Когда мы вышли во двор с Тином Усичем, я спросил его, не боится ли он так открыто говорить с иностранцем. «А разве я говорил открыто? — понизив голос, спросил Усич. — Я ведь не сказал вам ни слова о том, что я знаю. А знаю я все. В случае войны мне понадобятся деньги, чтобы уехать отсюда, я понимаю, что моя армия обречена. Я готов сказать вам все, если вы уплатите мне деньги». Такой откровенный цинизм показался мне еще более подозрительным, но, поскольку во дворе, как мне казалось, не было возможности наладить подслушивание, а в руках у него не было портфеля, и карманы пиджака не были оттопырены возможной звукозаписывающей аппаратурой, я спросил Усича, сколько он хочет получить денег за мобилизационный план и копии оперативных карт. Он сразу же назвал сумму: пять тысяч долларов. С санкции оберштурмбанфюрера Фохта я вручил ему эту сумму взамен за портфель с документами, который он мне передал. В нем находились план обороны Р-41, мобилизационный план, данные о численности танков и самолетов, находящихся на вооружении югославской армии. Усич также сообщил мне, что получено предписание проводить подготовку к скрытой мобилизации. В первую очередь должно быть отмобилизовано 11 дивизий, из них две кавалерийские, что составляет, по словам Усича, около трети всех вооруженных сил Югославии.
Таким образом, поставленную передо мной задачу я выполнил, о чем и докладываю.
Хайль Гитлер!
Оберштурмбанфюрер Зонненброк».
Веезенмайер пролистал рапорты Штирлица (беседы с директором департамента продовольствия и начальником загребского узла телефонной связи) и новых сотрудников Кунце и Вампфа (пропагандистская и разъяснительная работа среди местных фольксдойче, организация «пятерок», назначение руководителей групп, изучение стратегических объектов, подлежащих захвату или уничтожению).
Работа велась секторально, были охвачены все стороны общественной жизни Югославии. Он, Веезенмайер, знает, что ему делать и о чем писать. Он напишет в Берлин так, чтобы люди, которые станут читать его письмо, поняли всю важность проведенной им, штандартенфюрером СС Веезенмайером, работы.
Поскольку генеральный консул рейха в Загребе Фрейндт был офицером политической разведки РСХА и его шифровальщики связывались прежде всего с Гейдрихом, Веезенмайер решил убить сразу трех зайцев, отправив рапорт и Риббентропу, как своему формальному руководителю, и Розенбергу, являвшемуся идеологом «хорватской операции», через имперское управление безопасности.
«Группенфюрер Гейдрих!
Встреча, состоявшаяся с доктором Мачеком, дает возможность предполагать, что в его лице мы имеем осторожного союзника. Вопрос заключается в том, какую форму примет его согласие оказывать помощь: либо немедленное обращение к нам с открытым призывом ввести германские войска для сохранения правопорядка, либо консультации и контакты с ним после завершения оккупации Югославии. Окончательный и мотивированный ответ я дам в течение ближайших двух-трех дней.
Отправляю Вам мобилизационный план югославской армии, а также самые последние данные о численности войск, возможных направлениях контрударов и технической оснащенности армии противника. Документы эти получены мною из вполне надежного источника.
Встречаясь с представителями деловых кругов Югославии, как сербской, так и хорватской и словенской национальностей, я вынес твердое убеждение, что «национальный момент» в наших с ними отношениях будет играть подчиненную роль. Представители трех этих — внешне враждующих между собой — групп будут, как я убежден, довольны нашей акцией, поскольку мы сможем надежно гарантировать продолжение их работы, сохраняя личную заинтересованность в проводимых ими банковских операциях, а также в индустриальном производстве, которое будет надежно выполнять наши заказы и предписания.
Контакты с представителем Евгена Дидо Кватерника позволяют надеяться на то, что в день X все потенциальные противники национал-социализма будут изолированы. Ведется работа со всеми проживающими в Югославии фольксдойче.
P. S. Подробную запись беседы с Мачеком прилагаю, рассчитывая, что Вы найдете возможность ознакомить с ней рейхслейтера Розенберга и рейхсминистра Риббентропа.
Штандартенфюрер СС Веезенмайер».
Веезенмайер не мог представить себе, что с этой его шифровкой Гейдрих поступит так же, как сам он поступил только что с рапортами Дица и Зонненброка. Замыкание «на себя», оценка происходящих событий через призму собственного «я» играет, как правило, злую шутку с людьми, которые используют общественную идею для того, чтобы с ее помощью делать собственную карьеру, эксплуатируя мозг и труд нижестоящих. Когда доктрина становится и н с т р у м е н т о м в руках тех, кто прежде всего озабочен собственной судьбой, тогда неминуемо начинает развиваться необратимый процесс гниения идеи изнутри.
…Гейдрих внимательно прочитал рапорт Веезенмайера, запер его в свой сейф, а стенографисту продиктовал следующее:
«Рейхсфюрер!
Рад сообщить Вам, что работа, проведенная мною в Югославии, дает возможность передать в штаб ОКВ мобилизационный план армии противника. Убежден, что эти документы позволят Гальдеру и Листу внести последние коррективы в план «Операция-25».
Хайль Гитлер!
Ваш Гейдрих».
А потом Гейдрих вызвал к себе Шелленберга.
— Мой дорогой Вальтер, — сказал он, — доктор Веезенмайер начинает раздражать меня. Этот розенберговский ставленник хвастлив и тщится на первое место выставить собственную персону. Кто из ваших людей работает в его группе?
— Штирлиц.
— Думающий человек?
— Вполне.
— И вы убеждены в его порядочности?
— Бесспорно.
— Отправьте ему личное письмо. Пусть внимательно присмотрится к тамошней сваре честолюбий.
— Я уже инструктировал его таким образом, группенфюрер.
— Свяжитесь с ним через генконсула Фрейндта. Шифровку отправьте лично.
— Я могу дать ему полномочия?
— Какие?
— На самостоятельность. На определенную самостоятельность.
— Не занесет его?
— Думаю, что нет.
— Хорошо. И попросите, чтобы он размышлял не только о сегодняшнем дне, но и впрок — югославская операция скоро кончится, а нам еще предстоит работать вместе с людьми Розенберга…
(support [a t] reallib.org)