"Васька" - читать интересную книгу автора (Антонов Сергей Петрович)
9
Почти с пеленок Гошу Успенского убеждали, что он необыкновенный. Изысканный, душистый отец его посвятил жизнь древним остским языкам. В оставшееся от остских языков время он мылся и чистился. Он был брезгливый чистюля. А мать курила пахитоски, обожала футуристов и работала в Музее изящных искусств у знаменитого Цветаева. В ту пору было модно работать.
Салон Успенских был известен в Москве. У них бывали Гершензон, Бахрушин, Бердяев. Они слушали, как пятилетний Гоша декламировал по-немецки стихи из «Путешествия на Гарц», пророчили: «Этот ребенок далеко пойдет», — и пили чай с сухариками. Сухарики подавались особые, аристократические. Для приготовления их с Патриарших прудов привозили мамину сестру. Сестра была баптисткой. Ее стыдились и гостям не показывали.
Учиться Гоша пошел сразу во второй класс. В первом учиться ему было нечему. Грянула революция. Наступил голод. Гоша хорошо помнит, что бывал сыт один раз в месяц. По двадцатым числам отец приносил из университета паек: мешочки с крупой, а иногда коровью голову без языка (язык отрезали для пайщиков высшей категории).
В образцовой школе имени Бебеля Гоша без всяких усилий оказался первым учеником, а когда Гоша заметил, что лозунг «Кто не трудится, тот не ест» принадлежит библейскому апостолу Павлу, обществовед до судорог возненавидел профессорского заморыша и прозвал его мосье Жорж.
Бесноватые школьники раскачивали мосье Жоржа на канате до рвоты, подвешивали на трапеции, стягивали с него трусы. Гоша растерялся. Все то, за что его хвалили дома, в трудовой школе жестоко осмеивалось.
Однажды он проснулся ночью. Чужие мужчины перетаскивали его вместе с кроватью в папин кабинет.
Позже стало известно, что самодеятельная «трудовая группа» постановила оставить профессору Успенскому три комнаты, а в остальные две вселить работника чаеуправления Наумова. Профессор не согласился, и уплотнение проводилось ночью в принудительном порядке. Мама билась в истерике. Папа сидел в кабинете и подравнивал пилкой ногти.
Бывший политкаторжанин Наумов был известен всему дому. Его называли ходячей совестью. Он неколебимо стоял за справедливость в большом и малом и часто спасал Гошу от дворовых мальчишек. Тем не менее суд Хамовнического района решил вернуть самовольно занятые комнаты интеллигентному труженику профессору Успенскому, а незаконную «трудовую группу» распустить.
Адвокат настоял, чтобы на процессе в зале суда присутствовала вся семья. Сиренево-бледный Гоша и несчастная мать изображали, так сказать, вещественное доказательство — притесненные личности. И действительно, контраст был разителен. Наумов, фанатик с упрямым лбом, с горящими черным огнем глазами, кричал о несправедливой жилищной политике, дерзил и ругался. Оказалось, что судится он не первый раз. В 1918 году он застрелил из браунинга приведенного ему на допрос князя Меншикова. Ревтрибунал приговорил его за самосуд к общественному порицанию и запретил носить оружие в течение года. Теперь же ему было предписано освободить занятые комнаты и вернуться на прежнее место жительства.
Суд кончился. Гоша вышел с родителями на улицу. Отец шел немного впереди, размахивая палисандровой тростью, и слушал болтовню адвоката. У поворота в Штатный переулок его окликнул Наумов, сказал: «Тебе квартира нужна — вот получай!» — и выстрелил. Гоша хорошо помнит: после выстрела отец брезгливо посмотрел на крахмальную, набухшую кровью манишку и упал как срезанный. Наумов подошел к нему вплотную, подул в ствол и выстрелил еще два раза.
С тех пор Гоша стал нервозно относиться к прямолинейным борцам за справедливость, и эта черта характера осталась в нем на всю жизнь.
Отца хоронили с оркестром. Кто-то посоветовал превратить квартиру профессора в музей. Но вскоре их уплотнили еще раз, официально и по правилам, а в мемориальный кабинет вселили семью из шести душ. Это несчастье сразило мать окончательно. В четырнадцать лет Гоша остался сиротой. И к нему переехала тетка-баптистка.
А учиться становилось все мучительней. Старшеклассники считали Гошу юродивым. Ребят смешило, что он знает, кто такой Тутанхамон, и умеет говорить по-немецки. И Гоша бросил бы школу, если бы его не взял под свое покровительство староста группы, второгодник Курбатов.
После школы друзья покойного отца устроили Гошу в Институт восточных языков. Там он поражал студентов робостью и удивительными способностями. Его считали лентяем. Но это была не лень, а страх сделать что-нибудь такое, что насмешит людей.
Гоша не ходил ни на лекции, ни на коллоквиумы. Целыми днями валялся он на продавленной кушетке и сочинял стихи.
Изредка, когда на душе становилось особенно тошно, Гоша ходил в Каретный, в садик «Эрмитаж» играть в шахматы. Там встречал однокашников. Некоторые питомцы образцовой школы стали образцовыми начальниками, директорами. Курбатов выдвинулся в редакторы молодежной газеты. Услышав эту новость, Гоша расстроился. Как же так? Ему, необыкновенному Гоше, приходится существовать на жалкую долю родительского наследства, а невежда, уверявший, что турки живут в Туркестане, раскатывает на персональном «газике».
Гоша ожесточился, принялся изучать итальянский и через полгода запросто декламировал терцины «Ада». Между тем наследство было проедено, а тетка стала запирать свой хлеб на ключ. Стипендии Гоше, как обеспеченному сыну профессора, не полагалось. Тетка глумилась над его стихоплетством и настаивала, чтобы он «оформлялся».
Разозлившись, Гоша снес в комиссионный магазин мамин пуховый платок, присвоенный теткой. Тетка расстроилась, простудилась, и ее увезли в больницу. Гоша залег на кушетку и стал сочинять автобиографическую поэму «Розовый омут». Дело продвигалось туго. Гошу раздражало, что строчки самовольно складываются в терцины. Давало себя знать пресыщение «Божественной комедией».
Пока он мучился, голодный кот Марсик ходил по комнате и орал так, что пришла соседка из смежной квартиры. Это и была Тата. Затаив дыхание, выслушала она начало поэмы и предрекла Гоше путь, усыпанный розами. Он улыбнулся и напомнил, что гению уготована трагическая судьба.
Гоша знал, что ему суждено сгореть, как сгорел Джордано Бруно. Он ждет своего часа. Ждет с нетерпением, даже с радостью. Лишь бы найти достойную защиты идею или встать на защиту гонимого, ибо любой неординарный человек — уникум, мистическая идея… Тата перебила его: трагедия гения, сказала она, типична для капиталистического общества. А в нашей стране, в героическое время пятилетки, поэзия нужна не меньше, чем хлеб и сталь. Они поспорили и остались в восторге друг от друга.
После ухода Таты он с новой силой принялся за поэму, но ненадолго. Из больницы пришло извещение — скончалась тетка. Для захоронения надо было сдать ее хлебную карточку. Гоша перерыл всю комнату — карточки не было. Он взломал шкатулку. В шкатулке не оказалось ничего, кроме пузырька с хлороформом и записки: «Когда Господь призовет меня — усыпи Марсика. Не то буду являться». Каждый день к Гоше ходили люди с портфелями и значками, про тетку говорили, что она преет, грозили судом, заставляли писать объяснения, подписывать какие-то бумаги. Кот сбежал, будто и он прочел теткину записку, и Гоша растерянно слонялся по комнате в полном одиночестве. Первого числа тетку разрешили хоронить без карточки. А у Гоши не оказалось ни копейки. В смертельной тоске валялся он на кушетке, проклиная свою недолю, и в голову лезли слова великого флорентийца: лежа на перине, счастья не найти. Ночью он ни с того ни с сего вспомнил своего бывшего заступника, редактора молодежной газеты Курбатова, и к утру сочинил стихи:
И так дальше — всего восемь терцин.
Курбатов встретил Гошу скифским гоготом. Машинистке было приказано подать чай.
Гоша протянул редактору свое произведение.
— Чего это все кинулись стишки писать? — сказал Курбатов. — Даже бабы пишут. Читал эту Веру Инбер — с души воротит. Слабовасто пишет. Губной помадой.
— Поэзия требует известной культуры, — заметил Гоша.
Гошины стихи редактор просмотрел, прикуривая папиросу. А прикурив, сказал:
— Слабовасто. У Инбер и то лучше.
— Что ж, — Гоша, бледнея, поднялся. — Не в коня корм.
— Слабовасто, слабовасто, мосье Жорж. Навряд ли твой стишок принесет угнетенным звезду освобождения. И учти, из вагранки течет не сталь, а чугун. Тысячу двести градусов вагранка не выдержит. Расплавится.
— Буду иметь в виду, — слегка поклонился Гоша.
— Слабовасто, слабовасто… — бормотал Курбатов. — А, была не была! Тиснем в подборке «Молодые голоса»… Ты же меня все-таки ливерной колбасой кормил. Немного мутатис, мутандис, как говорится, и тиснем.
Суровая машинистка принесла чайник, стаканы с подстаканниками и сливочное печенье.
— Садись, пей. А подписывать стишки как будем — «Мосье Жорж»?
Гоша был возмущен до того, что не мог поймать подходящего ответа. Сглотнув голодную слюну, он проговорил:
— Я пришел не чаи распивать, а предлагать стихи. Вместо того чтобы получить официальный отзыв, я слышу дурацкий смех и не менее дурацкие мутатисы… Вызубрил два латинских слова и думаешь, что этого достаточно для…
— Ошибаешься, — сказал Курбатов. — Еще знаю. Альма матер.
— Ну альма матер. А еще?
— Идефикс.
— Это по-французски, полиглот!
— Тогда больше не знаю.
— Ну вот. А берешься судить, что слабовасто, что не слабовасто… Вызубрил мутатис мутандис… в легковушке раскатываешь!..
— Тебе денег надо? — просто спросил Курбатов.
— Это не имеет значения. Я стихи на ливерную колбасу не меняю. Вопрос исчерпан.
Так бы и оборвалась встреча школьных приятелей, если бы в кабинет не влетел секретарь редакции. В руках его колыхалось жирное полотнище газетной полосы. Только что позвонили, что героиня очерка, приготовленного специально для Восьмого марта, сбежала с Трехгорки и оформилась в продовольственном Торгсине.
Материал придется снимать. Полоса, посвященная Международному женскому дню, горит.
— Твое предложение? — оборвал Курбатов.
У секретаря предложений не было. В запасе, правда, имелся очерк о комсомолке, чистой по всем статьям (выдвиженка, делегат съезда), однако, по полученной справке, на днях автор очерка взят, и публикация его творений, какими бы они ни были, естественно, исключалась.
Курбатов велел свистать всех наверх и через четверть часа представить новый макет.
Секретарь исчез. Курбатов остановил отсутствующий взгляд на Гоше и спросил внезапно:
— У тебя случайно знакомой комсомолочки нет?
— Есть, — сказал Гоша заносчиво.
— Врешь! Где работает?
— На почтамте. Продает марки.
— Слабовасто.
— Зато она дочь челюскинца.
— Врешь! Бери командировку, скачи к ней. Сгоношишь читабельный очерк, проведу во внештатные. А потом… потом видно будет. Да ты не пузырись. Советую соглашаться.
— Когда доставить материал? — спросил Гоша официально.
Курбатов сострил:
— Вчера! — и загоготал победным скифским гоготом.
Через полчаса Гоша с казенным «кодаком» прибежал к Тате. Она оценила суливший удачу случай, отсоветовала углубляться в сюжеты, имеющие отношение к наркомпочтелю, и убедила непрактичного гения окунуться в рабочую гущу.
И Гоша окунулся в шахту 41-бис.
Чугуевой не было. Гоша пошел искать ее и дошел до забоя, В банном тумане под дождем, льющимся с кровли, ребята отваливали пласты жирно-черной глины заиндевевшими от сжатого воздуха отбойными молотками. Мокрые девчата в лифчиках и брезентовых штанах грузили породу и гнали вагонетки к стволу. А навстречу везли стояки — бревна около полуметра толщиной. Антрацитово-черный лоб забоя, прикоснувшись к воздуху, бледнел на глазах, принимал мертвенный оттенок тлеющей золы.
На вежливые вопросы Гоши, поглощенные битвой за девять и четыре, ребята дико кричали «Посторонись!» или не отвечали вовсе.
Гоша вернулся к Осипу и покорно стал дожидаться.
Капала вода. Волокнисто пахло гнилушками. Как муха в паутине, гудел на столе жестяной ящик с черепом.
— Вот она, — сказал Осип.
Сперва было слышно только, как шлепают доски. Потом из темноты штольни выделилось грузное существо. Оно косолапо шагало по колено в тумане, чавкая метроходами. Гоша еще не приспособился ни к расстояниям, ни к призрачному освещению подземелья, и существо показалось ему огромным.
Чугуева подошла к Осипу и встала как лист перед травой. Она держала мартын с размочаленным наклепом. Несмотря на грузность, было что-то изящное и в ее позе, и в косо заломленной штормовке, и в аккуратном узелке, притороченном к поясу. Осип ждал. Она виновато сопела.
— Ну чего? — спросил Осип нехотя.
— Не дают, — промолвила она.
— Что значит — не дают?
— Не дают, и все.
— Несознательные?
— Кто их знает. Не дают.
— У кого просила?
— У во всех. Не дают, — она подумала и пояснила: — Не дадим, говорят.
— А как за девять и четыре с тупым топором драться?
— Не знаю.
— У них не спросила?
— Нет.
— Что же ты?
— А что я? Не дают, ну!
Гоша вспомнил предупреждение бригадира. Чугуева действительно слова даром не отпускала.
— А ты добром просила-то?
— Добром. Оселок, мол, надо. Топор точить.
— А они что?
— Не дают.
— Сами точат?
— Никто не точит. Не дают, и все.
— Да пошто?
— А знаю? Ступай, говорят, отседа. Ты что, говорят, ему в кульеры нанялась? Пускай сам попросит.
— А ты что?
— Чего я-то… Не дают, ну…
Осип поглядел на нее внимательно. Спросил быстро:
— Булка есть?
— Нет. Всю приела.
— А там что? — Он кивнул на узелок. — Дай гляну.
Он развязал узелок по-волчьи, зубами. Там оказались баночка из-под крема «Леда» с мелкой монетой, хлебная карточка, проездной до Лоси, крошечная иконка, уголок зеркала, соевая конфетка «шантеклер» и несколько конфетных фантиков. Конфету Осип съел, остальное вернул, чтобы завязала сама.
— Снова идти?
— Ступай. Подскажи им про девять и четыре.
— Пардон, пардон! — заторопился Гоша. — Куда же вы ее засылаете? Она мне самому нужна! Добрый день, товарищ Чугуева!.. Мне ее бригадир обещал!.. Присаживайтесь.
Чугуева вопросительно поглядела на Осипа.
— А оселок? — спросил он.
— Я вам достану оселок, — пообещал Гоша. — У нас есть. На кухне. Я вам подарю…
— Это еще когда будет, — сказал Осип.
— А у меня задание газеты. Экстренное! Я полчаса жду.
— Ступай, Васька! — сказал Осип.
Чугуева вопросительно поглядела на Гошу.
— Нет, пардон! Послушайте, если она уйдет, я пропал… Прошу вас… Бывают же у человека, в конце концов, крайние обстоятельства.
— Бывают, — сказал Осип. — А тебя за оселком послали, надо было принесть, — и зашлепал по мокрым доскам в темноту.
— Осерчал, — вздохнула Чугуева.
— Ничего. Я ему подарю оселок. И еще у нас где-то валяется отвертка… Ваше имя, пожалуйста?
— А на что вам?
— Как же… Не могу же я вас называть Васей.
— Ну, Маргарита… — застенчиво проговорила Чугуева и покраснела.
— Видите, как хорошо! Маргарита! В этом уже есть что-то. Маргарита — по-латыни «жемчужина». Где-то у меня тут блокнотик… — Гоша стал весело охлопывать себя, будто заплясал цыганочку. — Ага, вот он. Мне у вас колоссально везет. Не успел спуститься, завалило Круглова. Ну вы, конечно, понимаете, не в том везет, что его завалило, а в том, что сюжет… И опять не то… Наплевать на сюжет. Повезло в том, что рядом оказались вы и спасли его. Вербицкая написала бы — вырвали из когтей смерти… Теперь так не пишут… Современный очерк требует динамики, Рита. А Круглова я понял плохо. Чуть не сосватал филата вам в женихи.
Он засмеялся, приглашая и Чугуеву повеселиться над его технической наивностью. Она прослушала его смех с тем же недоумением, с каким слушала рассказ о Круглове. Гоша поперхнулся и сказал:
— А время идет. Присядем.
— Садитесь. Мы постоим, — возразила Чугуева.
— Тогда и мы постоим. Равноправие… Вы с Волги?
— А вам что?
— Как это что? Простите, я не представился! Успенский, Георгий Георгиевич. Писателя Успенского знаете? Нет? Это хорошо, потому что я не тот Успенский, которого вы не знаете, а другой Успенский, которого вы тоже пока не знаете.
Она смотрела на него тревожно.
— А кроме шуток, мне поручили написать про вас очерк.
— Про меня? — ожила наконец Чугуева. — Еще новости! На меня ни один начальник сроду не обижался. Чего про меня писать? Я не дамся.
— Вы не поняли, Рита. Редакция заказала положительный материал… Какая духота у вас… Дышать нечем. Как в сицилийском быке. Вы слышали о сицилийском быке?
— Нет.
— О, это весьма интересно! Я недавно вычитал: царствовал в Сицилии тиран Фаларид. Давно еще. До нашей эры. И вот этот Фаларид приказал сделать из железа быка. И тех, кто ему не нравился, загружали в быка, запирали люк, а под быком разводили костер.
— Вот они, капиталисты, что делают, — сказала Чугуева. — Мне идти!
— Куда идти? А очерк? Итак, вернемся в двадцатый век, Рита. Судя по круглым «о», жили вы на Волге. В колхозе. Верно? Да, самое главное! У быка была разинутая пасть, представляете? И, когда несчастных поджаривали, они, конечно, выли. А получалось, будто бык мычит… Только и всего. Хитроумно, не правда ли?
— Господи, куда это Осип подевался? — тоскливо промолвила Чугуева.
— Ах, да, Осип. Давайте продолжим, — Гоша снова похлопал себя по бокам, достал блокнот. — Скажите, пожалуйста, Рита, вы сами подошли к Круглову, когда случилась авария, или он позвал вас?
— Ничего не знаю.
— Как не знаете?
— А так. Митьку спросите. Он бригадир, он знает, что говорить, а чего нет.
— Да ведь мне не про бригадира писать, а про вас. И не опасайтесь, пожалуйста. Мне заказан положительный материал. К женскому празднику. Панегирик советской женщине. Так что я к вам явился не Зоилом, а скорей Исократом.
— Это вы там работаете?
— Да нет. Это был такой сочинитель хвалебных речей — Исократ. Он сочинял, а говорили другие… Кстати, Исократ сочинял свой первый панегирик десять лет, а с меня требуют сегодня вечером.
— Да что вам надо-то? Я не пойму.
— Мне надо все. Моя задача — написать так, чтобы читатель увидел вашу душу и вашу жизнь. Подумайте только, вас узнает весь Советский Союз. Мама развернет газету и скажет: вот она, моя жемчужинка! Разве это не приятно?
— До Клима Степановича тоже дойдет? — спросила Чугуева, оглянувшись. — А кто это?
— Председатель исполкома.
— Конечно. И до Клима Степановича дойдет. Газета популярная. Читают ее в самых глухих уголках России.
— И высланные?
— Какие высланные? Да вы не волнуйтесь.
— А ежели я не желаю?
— Почему? Я хорошо напишу. Точно.
— А я все одно не желаю. — На лице Чугуевой заблестел крупный пот. — Не желаю… Мне недосуг. Марчеванить надоть.
— Гвозди бы делать из этих людей, — в сердцах процедил Гоша.
— Чего?
— Ничего… Послушайте, Рита, меня сам редактор направил. Давайте присядем и побеседуем, как эти самые, как их… ну, как земляки. Представьте, я вам земляк или, еще лучше, кум, навестил вас…
— Видали мы таких кумовьев, — пробормотала Чугуева. — Нет у меня никаких кумовьев!
— Так ведь я приблизительно. Вот сидим мы с вами где-нибудь на бережку, над вечным покоем, беседуем, вспоминаем. Представьте себе — околица, плимутроки… У вас есть околица?
— Нету. — Чугуева туго обтерла рукавицей мокрое лицо. — И околицы нету. И кумовьев нет. Ничего нету…
— Ну нет так нет. А у нас прислуга была. Тоже из деревни. Она рассказала, как за околицу ходила, мужика с войны ждала. Ей старушка нагадала, что живой у нее мужик…
— Вот он, Осип, явился, слава богу, — сказала Чугуева.
Осип ткнул топор носом в бревно и уселся отдыхать на прежнее место.
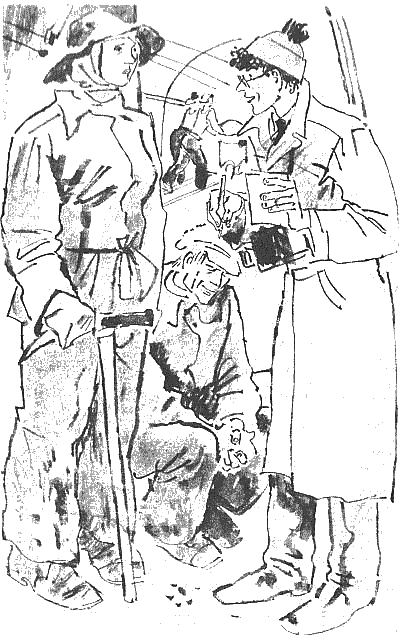 |
— Вот и наточил, — проговорил он, чтобы услышала Чугуева. — А тебя, хоть посылай, хоть нет — одна картина.
— Скажи, Осип, чтобы освободили они меня, — взмолилась Чугуева. — Работа стоит.
— А что говорить? Он из газеты. Имеет полное право поймать любого на улице — и давай отвечай, что спросит.
— Ну, это преувеличение, — Гоша улыбнулся. — Хорошо, хорошо. Биографию я уточню в отделе кадров. Скажите хоть одно: как вы попали на строительство метро?
Чугуева взглянула на него с ненавистью.
— Вербовщик привез, — помог Осип.
— А я не вас спрашиваю.
— Ну и что, что не меня? Вербовщиков тоже надо продергивать. Нас всех вербовщики сюда заманули. Взять хоть меня. «Поедешь, — спрашивает, — в Москву?» — «Зачем?» — «Метро строить». — «А что за метро?» — «Там увидишь. Квартиру, слышь, дадут. Окна на бульвар, сортир в комнате». Приехали, и нету ничего. По нужде в читальню бегаем.
— Продергивать вербовщиков не моя задача. Я не из «Крокодила». Мне заказан портрет пролетарки — ударницы метро.
— А почем ты знаешь, что я пролетарка? — внезапно перешла на «ты» Чугуева. — Какая я пролетарка, когда у тятеньки две коровы было. Одна Райка, другая в мою честь — Ритка. И бычок был свой, костромской… И тягла — три лошади.
— Три лошади?
— А как же. Корень и две пристяжных. Мироеды мы. Кровь с батраков сосали…
У Гоши сильно звенело в ушах — в штольне стало еще жарче и противней запахло гнилушками.
— Вы меня замучили, Рита, — сказал он. — Сдаюсь. Праздничный очерк сорван… И все-таки я напишу… Я напишу про людей глухих, бессердечных… про людей, бесчувственных к будням и праздникам, — он торопился и сбивался немного, — которые издеваются над человеком за то, что он не такой, как они…
В забое трижды ударило мощно и тупо. Землю под Гошей тряхнуло.
— Что это? — вздрогнул он.
— Взрывники вдарили, — ответил Осип.
Лампочки заволокло желтоватым дымом. Две девчонки, смеясь и кашляя, пробежали к подъемнику. Гоше показалось, что Чугуева и Осип тронулись с места и вместе со стойкой, лампочкой и табличкой «Аварийный запас» одним слитным куском медленно, как вокзальный перрон, поплыли не уплывая…
Очнулся он через несколько минут.
Голова его лежала на резиновом колене Чугуевой. За шиворотом было мокро. Чугуева заливала ему в рот жестяную воду.
— Ну чего? — спросила она брюзгливо-ласково. — Отошел, плимутрок? Эва зашелся. Угорел?
— Аппарат… — пробормотал Гоша.
— Нужен мне твой аппарат. Вон он, на гвозде. А ну-ка садись. Сидишь?
— Сижу.
— Вот и ладно.
— Что это такое со мной, не пойму, — засмущался Гоша. — Воздуха не хватает, что ли?
— Не жравши ты, вот что. Ись хочешь?
Гоша застенчиво улыбнулся.
— Обожди, — Чугуева добыла из комбинезона сайку с маком, оторвала половину. — Кусай быстрей, пока Осипа нет.
Гоша стал глотать и давиться. А Чугуева глядела на него скорбным, тысячелетиями отработанным бабьим взглядом.
— У тебя мать хоть есть? — спросила она.
— Померла.
— Кто за тобой ходит-то?
— Тетя была, мамина сестра. Теперь никого нет.
Чугуева слушала внимательно. Неровное носатое лицо ее светилось сочувствием. Внимательно смотрели сине-зеленые, как зеркальное ребро, глаза, и случайная капелька цемента, застывшая над верхней губой, красила ее не хуже, чем обдуманная мушка очаровательной Помпадур. Особенно милыми были ямочки, возникавшие на мягких щеках, когда она собиралась, но не решалась еще улыбнуться.
— Я тебя задерживаю, — пробормотал Гоша. — Прости. Я сейчас.
Почуяв в его голосе нежность, она рассердилась:
— Ладно, собирайся! Тоже мне плимутрок. Чего вас в газете, не кормят, что ли?
— Да я не газетчик, Рита. В газету я не писал никогда. Пишу стихи, а их не берут. И не берут не потому, что плохие, а потому, что я не такой, как все. А вот как про тебя писать, знаю.
— Это как же?
— Сейчас скажу. Надо показать, как крестьянин волей революции превращается в рабочего. А воля революции беспощадна. Когда она переделывает человека, у него хрустят кости. Моя тема, понимаешь? Трагедийная тема. А ты не хочешь помочь.
— Заругают?
— Не то слово. Я праздничный номер сорвал.
— Вот грех-то! — Она поглядела на него озадаченно. — А ты перетерпи. Про железных быков знаешь, другое всякое, чего тебе про меня писать?
— Одно другому не мешает.
— А я говорю, не надо про меня. Отступись. — Она таинственно оглянулась. — Недостойная я.
— Что ты, Рита! Ты первая ударница в бригаде!
— Ударница, а недостойная. Отступись.
— Да почему?
— Окаянная я, проклятая… Ясно?
— Далеко не ясно.
— Ясней тебе пояснить? Ну, ладно…
Лицо ее стало покрываться крупными каплями пота так быстро, что Гоша испугался. Далеко наверху, в забое, припадочно заколотил отбойный молоток.
— Нет. Не скажу, — вздохнула она. — Гадина я подколодная, вот и все. Ступай.
Гоша улыбнулся и протянул:
— А я, кажется, кое-что понимаю.
— Вот и ладно. Понимаешь и ступай.
— Про трех лошадей правда?
Она невесело усмехнулась.
— Какая это правда? Правда пострашней. Отступись, добром тебе говорю. Ступай.
На щеках ее замерцали херувимовы ямочки. И Гошу осенило: как же он умудрился забыть про фотографию? С фотографии надо было начинать. Самый надежный способ задобрить девицу — направить на нее объектив. И снимок получится уникальный: ударница метро в мокрой штормовке, с производственной мушкой над губой, в подземной штольне, возле коппелевской вагонетки. Такая фотография — сама наполовину очерк.
— Я ухожу, Рита, — сказал он. — Но на прощанье у меня к тебе просьба. Одна-единственная.
— Какая еще?
— Пустяковая. Мне нужна твоя фотография.
— Где я ее возьму? У меня нету.
— А я сниму. Я…
— Да вы что, смеетесь? Осип! — крикнула она резко. — Готов, что ли?
— Чего вы к ней прилепились? — заговорил, подойдя, Осип. — Чего она вам может сказать? Ничего не может. Она по-городскому и говорить не умеет.
— Мне ничего не надо, — объяснил Гоша. — Мне бы только фотографию.
— Кого? Васьки? — удивился Осип. — Да кто такую харю напечатает?
— Разве это ваша забота?
— Верно. Забота не наша. Пару пива поставишь — сымем.
— Осип, — крикнула Чугуева тревожно. — Ты что там?
— Пойди-ка сюда.
Она подошла.
— Встань тут.
Она не двинулась.
— Кому касается? — Осип повысил голос.
— Пусть Мери… — безнадежно возразила она. — Мери завсегда снимают. И в «Ударник Метростроя» сымали, и на доску…
— А им тебя надо, а не Мери, — протянул Осип ржавым голосом. — Прими позу и прибери сама себя немного попрекраснее.
Она не двигалась. Он повернул ее к свету, заломил штормовку и отстегнул левой рукой пуговицу ворота. Из-под брезентовой робы блеснула то ли подвеска, то ли брошь грубого чекана.
— Так сойдет? — Осип полюбовался сбоку делами рук своих.
— Сойдет! — отозвался Гоша из-под темного покрывала. — Только лицо больно кислое.
— А ну смейся, — приказал Осип.
Она засмеялась.
Гоша сделал две вспышки, замотал кассеты в черную тряпку, собрал аппарат и условился по поводу пары пива.
— Хватит, — сказал Осип Чугуевой. — Прекрати смех.
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |