"Что за горизонтом?" - читать интересную книгу автора (Шевцов Иван)
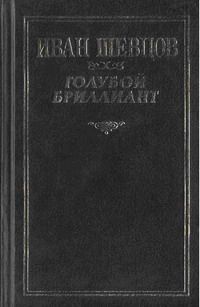 |
Иван Шевцов Что за горизонтом?
Глава первая АВТОР
В середине мая мой давнишний друг народный артист, мхатовец Егор Лукич Богородский пригласил меня на презентацию. Мне противно произносить это чужеродное дурацкое слово, как неприятно и само действо, которое оно выражает. Почему бы не сказать по-русски: представление или смотрины? Наш общий приятель живописец Игорь Ююкин написал портрет Богородского, приурочив его к предстоящему семидесятилетию артиста. И вот они, то есть Игорь и Егор Лукич, поддавшись моде, решили устроить презентацию этого портрета в мастерской художника. На смотрины Богородский пригласил минимально узкий круг гостей: меня и нашего общего друга поэта Виталия Воронина. Мы все четверо соседи по дачам, из одного подмосковного поселка, и видимся довольно часто. Я пришел в мастерскую последним: Виталий и Егор Лукич сидели за круглым столом, заставленным бутылками спиртного и нехитрыми закусками, а Игорь хлопотал у плиты на кухне, благоухающей жареной картошкой. Посредине просторной квадратной комнаты с окном во всю стену на мольберте возвышался закрытый холстиной предмет презентации. Вид у Богородского и Вороним был озабоченный, совсем не соответствующий торжеству момента. Похоже речь вели они все о том же — о судьбе России, распятой и разграбленной ельцинской шайкой реформаторов.
— Почему пустые рюмки? — весело сказал я, здороваясь с артистом и поэтом. — Чего ждете?
— Не чего, а кого, ваша милость. Изволите опаздывать, — дружески проворчал Богородский. Он сидел в большом старинном кресле, на спинке которого покоился его светло-серый пиджак. Сам артист, облаченный в коричневую рубаху и строгий галстук, выглядел торжественно нарядным. Высокий, подтянутый, круглолицый, с остатками седых волос, он казался моложе своих семидесяти лет, несмотря на суровое выражение васильковых глаз. Из кухни появился юркий возбужденный Ююкин и торжественно объявил:
— Господа товарищи! Кворум, насколько я понимаю, есть, и мы можем начинать? — Он устремил быстрый озорной взгляд на Богородского, спросил: — Не возражаете, Лукич?
К Богородскому мы все почему-то обращались по отчеству, словно у него имени совсем и не было. — Ты тут хозяин. Мы — гости. Тебе и командовать. — ответил Богородский и встал из-за стола. Поднялся и поэт. Все мы подошли к мольберту в ожидании ритуала презентации.
— Надо было телевидение пригласить? — пошутил Виталий Воронин. Решительное здоровое лицо придавало ему энергичный вид.
«Физиономии у нас не телевизионные, да и фамилии… не русскоязычные, — сказал Ююкин, блестя насмешливыми карими глазами.
— Твоя-то вообще какая-то марсианская, — беззлобно уколол Воронин. — Рядом две гласных, да к тому еще «Ю». Одной хватило бы за глаза. А то сразу две. Зачем излишество? Одну можно сократить. — Художник не удостоил его ответом, проигнорировал.
— Внимание! — объявил Ююкин и неторопливо снял холстину, совершая таинство. Мы смотрели на мольберт затаив дыхание.
Я хорошо знал творчество Игоря Ююкина. Он успешно работал в пейзаже, в жанровой картине, и особенно силен был в портрете. Но то, что предстало сейчас перед нами, превзошло все мои ожидания. С холста на нас смотрели умные, совестливые глаза человека, умудренного опытом большой и сложной жизни, владеющего только ему известной тайной бытия человеческого. Смотрели открыто, доверчиво и в то же время с оттенком тревоги, с едва уловимой скорбью. В них было что-то притягательное, какая-то дерзкая самоуверенность и вместе с тем душевная теплота. Я невольно посмотрел на Лукича натурального, устремившего беспокойный взгляд на свой портрет и увидел в его глазах ту же тревогу, которую сумел уловить и передать на холсте одаренный живописец.
— Ну, Игорь, ты сотворил на этот раз чудо, — не удержался я, сказав это совершенно искренне. И добавил: — В этих глазах ты раскрыл сокровенные тайны души.
— А я в них увидел вековую скорбь, — негромко произнес Виталий Воронин. Гладкое, смугловатое лицо его сияло.
— Да будет вам, сочинители, — с деланным упреком проворчал Лукич. — Сокровенные тайны, вековая скорбь — это вы в своих стихах и романах сочиняете. Думаете, так просто открыть сокровенную тайну души. Еще юный Лермонтов подметил: «А душу можно ль рассказать?» Выходит, нельзя.
Ююкин безмолвствовал. Он пытал нас то любопытным, то требовательным взглядом, и особенно Лукича. Судя по умному, мягкому взгляду, которым Лукич скользил по своему портрету, он был доволен. Но иронический гибкий ум не позволял ему вслух выражать свое отношение. Он умел скрывать свои эмоции. Доволен остался и художник. Труд его мы оценили на пять с плюсом. И утвердили такую высокую оценку звоном бокалов стоя у портрета и сидя за столом.
Обычно Лукич был равнодушен к спиртному, пил только хорошие вина, да и то понемногу: сделает один глоток и отставит бокал в сторону. Водку и даже коньяк он решительно отвергал. Но сегодня я его не узнавал, — он явно был в ударе, изменив своей привычке. Первый бокал демонстративно осушил до дна одним махом , и, похвалив вино (а это была ходовая «Монастырская изба»), попросил налить ему еще. Предложил тост за одаренного мастера — дважды повторив эти слова — Игоря Ююкина и снова выпил до дна. Он быстро хмелел, — это видно было по необычному блеску глаз и порозовевшему лицу. И как водится в наше сатанинское время, мы опять заговорили о неслыханных доселе преступлениях, творимых ельцинскими реформаторами, о море лицемерия и лжи, захлестнувшим Россию. И Лукич откликнулся монологом горьковского Сатина:
— «Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — Бог свободного человека. Кто слаб душой и кто живет чужими соками, тем ложь нужна. Одних она поддерживает, другие прикрываются ею».
Произнеся эти вещие слова с артистическим блеском, он весь преобразился, помолодел. А Ююкин захлопал в ладоши и попросил:
— Пожалуйста, Лукич, прочтите еще что-нибудь. Это же здорово, как будто о нашем времени. — Он смешно, по-детски таращил глаза на Богородского.
— Классика не стареет, — заметил Воронин и прибавил: — То-то на Горького набросились нынешние демократы. Он им — кость в горле. — Виталий отличался категоричностью в суждениях, как все вспыльчивые натуры.
— Зло расползлось по всей России, зло оказалось сильней добра, потому что добро не умеет себя защищать, — заговорил Ююкин, — добро оно добренькое, оно гуманное.
Лукич посмотрел на художника с иронической ухмылкой, затем поднялся, выпрямился, высокий, элегантный, обвел нас пристальным взглядом, устремил глаза в дальний угол и заговорил театрально:
— «Достопочтенные двуногие. Когда вы говорите, что за зло следует оплачивать добром, — вы ошибаетесь… За зло всегда платите сторицею зла! Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам! Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, — опрокиньте гору на голову его».
Голос Лукича, чистый, мягкий, звучал молодо и грозно. И опять Ююкин не скрывал своего восхищения:
— Необыкновенно! Сила и красота. Откуда это?
— Тетерев. Из «Мещан», — поспешил поэт проявить свою осведомленность в литературе. Его открытый нетерпеливый взгляд и твердый, чисто выбритый подбородок нацелены на художника.
— Только вот вопрос, — продолжал оживленно Ююкин, — как же совместить эти слова с Библией: возлюби врага своего, подставь другое ухо? Растолкуйте, Лукич.
— А ты точно следуешь евангельским заветам? — иронически уставился на художника Богородский, приподняв густую жесткую бровь.
— Стараюсь, — с ужимкой ответил Ююкин.
— И десять Божьих заповедей помнишь? И приемлешь?
— Приемлю. А то как же? Я верующий.
— А как насчет прелюбодейства? — напирал Лукич. — Тут мне кажется у тебя нестыковка.
— Почему нестыковка? — Ююкин сделал невинную позу. — Там как говорится: не пожелай жену ближнего своего. А о дальней ничего не сказано, значит можно. А если она пожелает меня, то и греха нет. Напротив, я иду на помощь жаждущим и страждущим.
— Хитер ты, Игорек, прямо альтруист. И многих ты облагодетельствовал? — не унимался Богородский.
— Да и у вас, Лукич, было много романов, — парировал Ююкин, озорно сверкая маленькими острыми глазками.
— Романов… — пророкотал Богородский и плотнее устроился в кресле. Похоже его устраивал переход от политики на амурную тему. — Роман — это роман. А любовь — это любовь — чувство священное и неприкосновенное. Любовь — это талант, и он не каждому человеку дается Всевышним. У тебя талант живописца, у Виталия — поэта, у Ивана — прозаика. А дал ли Господь вам талант любви? Вот вопрос! По крайней мере, тебя, Игорек, он обделил, не удостоил, потому ты и принимаешь обычный, часто пошлый, роман за любовь.
Ююкин не обижался, он привык к колкостям Богородского принимая их как шутку ворчливого дедушки. Лукича он уважал за искренность и доброту и высоко ценил его актерский талант. Их дачи были на одной улице, и они часто, особенно летом, встречались главным образом у Богородского. К Ююкиным Лукич заглядывал лишь по крайней нужде: он не терпел Игорева тестя — в прошлом мидовского работника, в ельцинские годы перешедшего в солидный бизнес. Не терпел за высокомерие и хамство, с каким тот относился к зятю и вообще к деятелям искусства, которых считал племенем ничтожным, а потому и бесполезным. Игорь Ююкин происходил из псковских крестьян, в Москве окончил Суриковский художественный институт, — учился в портретном классе Ильи Глазунова. На четвертом курсе познакомился с розовощекой насмешливой блондинкой Настей, веселой, общительной студенткой педагогического института, и не успел оглянуться, как очутился на даче ее родителей, которые в тот день пребывали в Москве, предоставив возможность юной парочке приятно провести время в интимной обстановке. Игорь тогда жил в общежитии и даже не мечтал в обозримом будущем обзавестись в Москве собственным углом. Склонная к полноте Настя не была красавицей, но ее веселый общительный нрав, слишком чувственный рот, непосредственность в поступках и живость характера слегка компенсировали неброскую внешность. Игорю с ней было хорошо особенно в первую ночь на двухэтажной даче со всеми удобствами, с газовым отоплением, ванной, водопроводом. Его удивляло множество комнат в основном здании да три комнаты в летнем домике-кухне. Поскольку Настя была единственной дочкой у родителя, то по подсчетам Игоря на каждого члена семьи приходилось по три комнаты. Будучи под хмельком и слушая прелестные излияния Насти о возможном их совместном будущем, он уже прикидывал, что одну из просторных комнат можно было бы приспособить под мастерскую. Для любого художника мастерская — это жизнь и мечта. Восторженная Настя не преминула сообщить, что московская квартира их из четырех комнат и что самая светлая и уютная комната принадлежит безраздельно ей. Намек был принят к сведению.
Если судить по внешности, то Настя и Игорь не очень подходят друг другу, пожалуй совсем не подходят. Он стройный, высокий, гибкий в талии, худой и мелколицый, с упругой пружинистой походкой, она невысокого роста, пышногрудая, круглобедрая толстушка. Он по характеру покладист, спокоен, простодушен, с грубоватыми неуклюжими манерами. Она с неустойчивым переменным характером, как апрельская погода: то всплеск веселья и ласки, то взрыв беспочвенных претензий и властных, капризных требований. Покладистый характер Игоря, отсутствие твердых убеждений позволяли ему не обращать внимания на дурные инстинкты жены. Как бы то ни было, ему нравилось встречаться с Настей особенно на даче, где воздух чист, покой и уединение, где в промежутке между любовью и трапезой можно писать этюды, благо природа для пейзажиста здесь превосходная. Там же на даче Игорь начал писать на пленере портрет девушки освещенной солнцем, то-есть Насти. Время летело быстро, портрет почему-то давался туго, что-то в нем ускользало, не получалось, или получалось совсем не то, что хотелось. И во время одного из сеансов Настя объявила Игорю, что она беременна. К такому сообщению Игорь отнесся спокойно, даже с безразличием, словно его это никак не касалось. Тогда ему об отцовских обязанностях очень доходчиво, строго и внушительно растолковал будущий грозный тесть. Свадьбу сотворили в спешном порядке, ибо меньше чем через месяц после свадебных торжеств на белый свет появились два близнеца Ююкиных, два мальчика очень похожих на Игоря, о чем не уставала твердить весьма довольная зятем теща и бабушка. В виде приданного Игорь получил московскую прописку в просторной квартире тестя, мастерскую в столице, ту самую, в которой происходила презентация портрета Богородского. Кажется, он был доволен. Не очень заботясь о хлебе насущном, учитывая достаток тестя, писал заказные портреты «новых русских», которых рекомендовал ему тесть, обзавелся «иномаркой», два раза побывал на курортах экзотических стран.
Нынешний летний отдых Ююкины решили провести не на море, а на реке, на матушке Волге, проплыть до Сталинграда, а обратно возвратиться в Москву на поезде или самолете. Идею путешествия по Волге предложил Лукич, он давно мечтал совершить такое турне по Волге со своей возлюбленной Альбиной, с которой его связывала целых десять лет негасимая, неземная любовь. Богородский родился в Саратове, там провел свое детство и юность, и живя в Москве, он грезил Волгой, погружаясь в воспоминания детства, она была притягательной звездой его души и юношеских грез. Решено было отправиться в турне вчетвером: Лукич с Альбиной и чета Ююкиных. Когда Игорь сказал жене об идее Богородского и что тот будет на теплоходе со своей возлюбленной, Настя, не раздумывая, согласилась составить компанию. Она не была знакома с Альбиной, но видела ее на даче Лукича, слышала о ней лестные слова от мужа, и чисто женское любопытство влекло ее к знакомству. Заранее были куплены билеты на теплоход, до отплытия оставалось меньше недели, и теперь, балагуря за столом о женщинах и любви, Ююкин решил напомнить Богородскому:
— А вы не забыли, Лукич, о Волге? Приготовили чемоданы, все уложили?
Эти, казалось, такие обычные и совсем не обязательные слова вдруг передернули, точно спугнули Богородского. Он занервничал, как-то поднапрягся, подтянулся, мрачно посмотрел на Игоря и властно попросил, протянув свой бокал:
— Налей мне, да не вина, коньяка налей. — Мы с Игорем удивленно переглянулись. Что это? Шутка? А если всерьез, то с чего бы это? Лукич и коньяк — такого за долгие годы нашего знакомства и дружбы я не помню. Ююкин поднес бутылку коньяка к бокалу, прицелился, но наливать не стал, вопросительно уставившись на Богородского, удостоверился:
— Вы всерьез, Лукич?
— А я что? По-твоему я несерьезный человек! Ты знай свое дело, наливай. Наше дело пить, а твое наливать. Ты хозяин, мы гости. Ты обязан угощать.
— Погоди, Игорь, — вмешался я. Поведение Богородского меня начало беспокоить. — Дай мне бутылку.
Но не успел Игорь передать мне коньяк, как Богородский выдернул у него из рук бутылку и налил себе грамм пятьдесят. Поднял бокал, обвел нас возбужденным заговорщицким взглядом, сказал:
— Ну, кто со мной? За Россию, за ее воскресенье и за погибель ее врагов! — И лихо осушил бокал. Поморщился, крякнул, похрустел огурцом. Задумчиво понурил взгляд, заговорил, делая паузу между словами. Эта манера говорить медленно, с паузами у него, как я заметил, появилась недавно, с год тому назад. — А с чемоданами, Игорек, случилась проблема. Да, ситуация. Че-пе, не ЧП, а нечто не предвиденное. Спутница моя исчезла…
— Альбина? — ненужно уточнил Ююкин, изобразив на лице испуг и растерянность.
— Что значит исчезла? — спросил я.
— То-то и значит. Выходит, исчезла и любовь, — ответил Богородский, глядя на нас влажными хмельными глазами. — Бунин прав: «разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить». Камин у меня на даче, собаку, пожалуй, не плохо бы завести. Собака — верный друг, она не предаст и не изменит. Только мороки с ней много. Остается — пить. Да камин растопить.
— Что за вздор — пить! От тебя ли слышу, Лукич? — сказал я. — Лучше поведай нам — друзьям своим тоску-кручинушку. Может и размыкаем.
— И поведала Аринушка мне печаль свою великую, — продолжал Богородский некрасовской строкой, склонившись над столом. Возможно он раньше, когда завели речь о женщинах и любви, решил излить то, что накипело в его душе и потому для стимула принял коньяк. С его возлюбленной Альбиной я был знаком. Своими сердечными делами Лукич откровенно делился со мной. Последние тридцать лет его жизни проходили на моих глазах. Мы были единомышленниками, у нас не было друг от друга тайн. Он был одним из самых близких мне друзей. Его открытая душа, широкий самобытный ум и светлый артистический талант притягивали к себе людей. Но он не многим открывал себя настежь, утверждая, что человек похож на айсберг: лишь одна третья часть его открыта людям. Но сам он не был таким. Он не просто казался, он на самом деле был приветливым и общительным. За грубоватыми манерами его скрывался добрый, сердечный характер. С первой его женой я не был знаком, она погибла в автомобильной катастрофе, оставив ему семилетнего сына Василия. Он подполковник погранвойск, живет в Хабаровске. Есть и у него сын, то есть внук Лукича Артем — курсант высшего погранучилища, что в подмосковном городе Бабушкине. Вторую жену Лукича я знал. Это была смазливая, рафинированная и экзальтированная дамочка из породы тех, которые подвизаются на ниве культуры и мнят себя духовной элитой общества. Звали ее Эра. Брак их я считал случайным и заведомо недолговечным. Так оно и случилось: их совместная жизнь продолжалась меньше трех лет. Несовместимость их характеров, интересов и взглядов обнаружилась вскоре после женитьбы. Пылкая страсть обернулась непримиримой ненавистью, и Эра, скоропалительно, даже не расторгнув брака, укатила в Израиль, с ненавистью выдавив на прощанье злые слова: «В эту страну я никогда не вернусь». Богородский не совсем понимал, причем тут «эта» страна и чем она виновата перед Эрой. Допустим, виноват он, Егор Богородский. А страна?
После разрыва со второй женой и ее отъездом в Израиль Богородский признавался мне, что Эру он никогда и не любил, что это была мимолетная вспышка страстей, зов плоти, в котором невероятную активность показала Эра, а он всего лишь не смел противиться и оказался пленником. Словом, его поженили.
И вот теперь в мастерской Ююкина, говоря о любви, мы задели до предела натянутую душевную струну Богородского. Я знал Альбину, встречал ее и на даче Лукича и в его московской квартире. Это была молодая, но уже поседевшая женщина, стройная, хрупкая, с тонкими чертами лица, мягким певучим голосом и доброжелательным взглядом светло-голубых глаз. У нее был выразительный рот с алыми лепестками трепетных, словно жаждущих поцелуя, губ. Ее ласковый, скрытный характер и бледный цвет лица придавали особую прелесть этой незаурядной женщине.
— Так что с Альбиной? спросил я. — Поведай нам свою печаль великую.
— Женщины, любовь… Что вы понимаете? Это тайна, извечная драма души. После разрыва с Эрой к женщинам я относился с осторожностью, с опаской, обжегшись на молоке дул на воду. Были, конечно, непродолжительные связи, временные увлечения, как отклик на зов плоти, но настоящих, глубоких чувств, тех, что называют любовью, в которой есть гармония тела и духа, я не испытывал. Любовь в священном, божественном смысле этого слова. В наше нравственно порочное духовно растленное время под словом любовь подразумевают скотское совокупление. Ежедневно по телевидению мы слышим и видим, как он или она говорят: «Пойдем, позанимаемся любовью». И идут в постель, чтоб показать свою любовь миллионам телезрителей, старым и малым. А ведь этот акт, по любви или похоти всегда считался интимным, запретным для постороннего глаза. Это тайна двоих. Только животные делают это открыто. Истинной и светлой любовь бывает только у возлюбленных. Возлюбленная — это божество, или как сказал поэт, «небесное созданье», дороже и святей для нас нет ничего на свете. Это частица твоей души и твоего внутреннего мира, за нее идут на муки, унижение, на смерть. К сожалению, до пятидесяти лет я не знал такой любви. Потому что не встретил Ее, единственную, судьбой предназначенную. При желании я мог пользоваться успехом у женщин, — природа меня не обделила ни внешностью, ни талантом, говоря без ложной скромности. В театре мне сопутствовал успех. В сорок лет я уже имел титул Народного. Коронные роли мои были ЕгорБулычев и Сатин Горького, Вершинин и Лопахин Чехова, Годунов в «Царе Федоре Ивановиче».
Он умолк, поднял глаза, протянул руку к бокалу, где на донышке оставалось немного вина, но только дотронулся, передумал, отодвинул бокал. По лицу его пробежал веселый лучик, глаза оживленно заблестели, и он продолжал уже потеплевшим голосом:
— Через десять лет после разрыва с женой я совершенно случайно встретил ее — ту, которую называют единственной, Альбину, Алю, и она зажгла в моей душе огонь любви. Мне она казалась совершенством. Божеством, достойным восхищения и поклонения, и я восхищался и поклонялся ей. Мне было пятьдесят, ей тридцать пять, но эту разницу в возрасте мы совсем не ощущали. Она подкупала неподдельной скромностью и добротой. Она одарила меня лаской, нежностью и теплом, чего я был лишен прежде, даже состоя в браке. И в постели, или как сейчас говорят, в сексе у нас не было проблем. Но семьи мы с ней не создали, потому счастье наше было неполным.
— А что мешало вам создать семью? — спросил Виталий Воронин.
— Многое. Во-первых, у нее был муж и двое детей. Семейная жизнь, по ее признанию, у них не сложилась. Мужа она не любила. Он много и постоянно пил, а поддатый устраивал дома погром. Она готова была уйти от мужа-алкоголика. Но тут загвоздка с моей стороны: я не был разведен. Эра, то есть моя бывшая жена, уехала в Израиль, не дав мне развода.
— А она, ну эта ваша возлюбленная, была тоже актрисой? — поинтересовался Воронин.
— Аля работала в одном московском НИИ инженером. Мы встречались у меня дома, иногда на даче, довольно часто даже умудрялись во время ее отпуска выезжать на морские курорты. Для меня тут особых проблем не было, я — человек свободный, — а ей все это давалось не просто, приходилось изворачиваться, ловчить. Но я был счастлив.
— А она? — опять полюбопытствовал поэт, проявляя свой пытливый нрав.
— Она? — Богородский сделал паузу и, вздохнув, сказал: — Боюсь до полного счастья ей не хватило. Но мы любили друг друга искренней, нежной любовью. Она была искренно привязана ко мне.
— Между вами была духовная близость? Она интересовалась твоим творчеством? — спросил я.
— Она бывала на моих спектаклях, ценила меня как артиста. Но что бы такого духовного единства, слияния, то я бы не сказал. У нас разные характеры. Без слабостей и недостатков людей не бывает. Да сами-то недостатки и слабость — понятия относительные. Как обычаи и вкусы. То, что одному кажется недостатком, другому видится как достоинство, что для одного порок, для другого — добродетель. Идеалы, безгрешные существуют только в ваших сочинениях. В жизни их нет. Конечно, и у Альбины были свои слабости, капризы, да и особой внешностью она не блистала, хотя в общем симпатичная. Но это был мой идеал, и все в ней было для меня блистательно, и я считал ее несравненной красавицей, умницей и добродетельницей.
— Почему ты говоришь о ней в прошедшем времени? Ее что — нет в живых? — спросил я.
— Для меня ее нет. Лично для меня. Об этом после. Ты слушай и не перебивай, — и, перейдя на актерский тон, он заговорил словами Сатина, слегка перефразируя монолог. — Я сегодня добрый! Когда я пьян, я всегда добрый. А коль вы меня напоили, так извольте выслушать исповедь актера. «Вы знаете, почему в России много пьяниц? Потому что быть пьяницей удобно. Пьяниц у нас любят».
Этот монолог он снова произнес приподнято, по-актерски и вопросительно посмотрел на поэта.
— Тоже Тетерев, — догадался Воронин. А Богородский, прикрыв веками глаза, продолжал свою исповедь: — Да, мы были счастливы, и счастье наше продолжалось свыше десяти лет и казалось, конца ему не будет. Я, естественно, делал ей подарки, иногда дорогие, но чаще по мелочам. Она принимала спокойно, как нечто полагающееся, естественное. Скажу без хвастовства: я был щедр, потому что и зарабатывал в то время неплохо. Грех жаловаться. То было время… Кроме театра, я снимался в кино. Трижды в главных ролях. Жил скромно, но и не бедно, в достатке. Не шиковал. А много ли одинокому надо? Часто питался в трактирах, то есть, ресторанах. Между прочим, Алю я познакомил со всеми ресторанами Москвы. Тогдашними, советскими. Ей это нравилось. Наш любимый ресторан был «Будапешт».
Он умолк, медленно прошелся по нам усталым, но возбужденным взглядом. Зрачки его глаз казались воспаленными. Выпил глоток воды и продолжал:
— О нашей связи каким-то образом узнал ее муж, учинил ей скандал. В ответ она пригрозила разводом, чего он никак не хотел. Все же он, наверно, по-своему любил ее, и дал слово покончить с алкоголем. И слово свое сдержал, «завязал». Я об этом ничего не знал и был удивлен, когда она все реже стала появляться в моем доме. Ссылалась то на непомерную занятость на службе, то на разные семейные проблемы, конкретно о которых предпочитала не говорить, и нервничала, когда я пытался выяснить. Когда я предложил ей в этот летний сезон во время ее отпуска совершить турне на теплоходе по Волге, она охотно согласилась. Я сказал, что Игорь с женой хотят плыть по Волге. И это ее устраивало. Мы купили билеты. О чем я ее предупредил по телефону. Не встречались мы уже больше месяца и я просил о встрече. Она отвечала, что занята и говорила, что сама позвонит. Но не звонила. Я снова напоминал о себе, и она опять твердила, что позвонит, когда найдет время. В ее голосе я чувствовал сдержанное раздражение. Меня это настораживало. Я нервничал, злился и начал рыться в догадках: в чем дело? Явно что-то произошло. Но что именно, что за причина такого внезапного отчуждения? Почему бы не встретиться и выяснить все на чистоту, объясниться? Меня мучило недоброе предчувствие. Наедине с самим собой я часто вслух произносил ее имя, — оно срывалось с языка невольно, даже тогда, когда я думал не о ней. По ночам, страдая бессонницей, я мысленно перебирал все наши встречи. В памяти всплывали уже неповторимые эпизоды и картины. Домой ей не звонил, она не велела, потому что трубку всегда брал муж. Меня охватило чувство одиночества. Мне хотелось крикнуть ей строки из бунинского стихотворения: «Мне крикнуть хотелось вослед: „Воротись, я сроднился с тобой!“ но у женщины прошлого нет: разлюбила — и стал ей чужой». Меня даже подмывало послать ей письмо, составленное из есенинского «Письма к женщине»: «Простите мне… Я знаю, вы не та — живете вы с серьезным, умным мужем; что не нужна вам наша маета, и сам я вам ни капельки не нужен». Я зацепился за слово «не та». А какая? И почему не та, которую я знал и обожествлял десять с лишним лет, а другая? И когда же она стала другой? И тогда я стал выискивать ее слабости и недостатки, пытался посмотреть на нее другими глазами, сняв розовые очки. И увидел то, чего раньше не замечал, ослепленный безумной любовью. Нет, никаких пороков или изъянов в ней я не находил, — так, отдельные неприятные черточки и штрихи, от которых никто не застрахован. Но раньше я их не видел. В моих глазах она по-прежнему оставалась прекрасной, и осуждать ее у меня не было причин. Да, меня иногда огорчало, что она не проявляла особого интереса к моей профессии, к нашей театральной артисунческой жизни и смотрела на нее с недобрым предубеждением. Но я тоже не интересовался ее служебными делами, а если и слушал иногда ее рассказ, то больше из приличия, чтоб не обидеть ее. Если верить Бунину — разлюбила и стал ей чужой. Я не хотел этому верить. Я понимаю, вечная любовь — редкость, с этим приходится мириться. Она разлюбила, но я продолжал любить. Я с нетерпением ждал того дня, когда мы отправимся в турне по Волге, и день этот приближался, а она не давала о себе знать. Я волновался и позвонил ей домой. Она сама подошла к телефону и на мой вопрос о путешествии ответила: «Извини, я не смогу составить тебе компанию». Я сказал: «Давай встретимся, объяснишь?» «Сейчас не могу. Как-нибудь потом». Я чувствовал холод в ее голосе и это коварное «как-нибудь» и понял: все кончено, я потерял ее. Нет, хуже: я чувствовал себя так, словно меня обокрали, душу из меня вынули. Образовалась пустота. Вот и весь мой сказ.
Наступила долгая, глухая пауза. Нарушил ее Ююкин. Он был искренне огорчен и растерян:
— И как все это понимать? Выходит вы, Лукич, не едете?
— Это почему я не еду? Напротив, я непременно поплыву. Вот только не хотелось бы терять ее билет. Может из вас кто пожелает? Иван или Виталий?
— Я — пас, у меня весь месяц, да и все лето расписано, — сказал Воронин.
— Ну что, Иван? — обратился ко мне Богородский. — Вспомним дни былые, нашу молодость. Поедем по изведанному однажды маршруту?
Это было лет пятнадцать, а может и больше тому назад. Мы с Богородским уже плыли на теплоходе до Астрахани, а возвращались в Москву на самолете. Приятное было путешествие, оно вызвало добрые воспоминания, и я сказал:
— Подумаю.
— А чего думать? Плывем. Может найдешь материал для нового романа.
— Тебе просто: ты свободная птица. А у меня семейные дела, проблемы, заботы.
— У всех проблемы и заботы…
Из Химкинского порта мы отчалили утром в середине июня. День обещал быть жарким, солнечным и тихим. На высоком, чистом небе от горизонта до горизонта ни единого облачка. Над спокойной водой, отражавшей небесную синь, в легком мареве струились и безмятежно трепетали жаркие солнечные лучи. Вокруг в небе и на земле простиралась благостная ширь и умиротворение, что уже само по себе создавало особый душевный настрой, — этакого сплава грусти и свободы. Справа по борту зеленели заливные луга, на которых паслись две коровы с теленком и несколько остриженных овец, слева на косогоре, усыпанном золотистыми одуванчиками, горбились с полдюжины убогих строений. Казалось, они медленно плывут в противоположную нашему курсу сторону. Ни одной живой человеческой души не было видно ни справа, ни слева. Мы с Лукичом, стояли у правого борта и, опершись на перила, созерцали зеленый простор. Пассажиров на палубе было не много. Они, так же как и мы, стояли по бортам, наслаждаясь природой. От воды исходила приятная свежесть, перемешанная с молодой зеленью земли. Словом, воздух был чист и прозрачен, как сказал Тургенев, и я решил поблагодарить Лукича:
— Спасибо тебе, друг, что ты настоял и вытащил меня на этот простор. Здесь вольготно дышится и глаз радует. Я доволен.
— Еще бы! Ты бы сказал: нет худа без добра. — Он вздохнул и взглянул на меня пристально и вопросительно. Взгляд его светился тоской.
— Я не понял, растолкуй: для кого худо и для кого добро?
— Для тебя, во всяком случае, добро, — наигранно холодно ответил он и выпрямился, подставив солнцу лицо с зажмуренными глазами.
— А худо, выходит, для тебя? Так, что ли?
— Видишь ли, я не могу понять и потому не могу смириться, почему она так поступила со мной? Почему не захотела объясниться? В чем причина? — Он повернулся спиной к берегу. Голос его дрожал, как ослабленная струна. В нем пробудилось пылкое негодование. К нам подошел довольно улыбающийся Ююкин, расслабленный, блаженный: — Ну, что мужики, чего носы повесили?
— Никто ничего не вешал, — недовольно буркнул Лукич, а я продолжал свой разговор:
— А тебе так уж нужна ее причина? Ты ж сам сказал словами Бунина: разлюбила, и стал чужой. В этом и вся причина.
— Ах, вот вы о чем, все о ней? — сообразил Игорь. — Да выбросите, Лукич, вы ее из своего сердца раз и навсегда. Она недостойна вас.
— В том-то и дело, что достойна, потому и выбросить ее не просто, — напряженно произнес Богородский. — Недостойные — они на поверхности, их легко смахнуть. Дунул — и привет. А достойные — они вот здесь, глубоко, в самом сердце. — Лукич приложил руку к груди. — Нельзя, Игорек, зачеркнуть десять счастливых лет. Память она штука независимая, память и любовь. Как в народе говорили: любовь не картошка, не выбросишь в окошко.
— А вы поройтесь в памяти, разберите свою любимую по косточкам и отыщите все ее пороки мнимые и подлинные, соедините в одну кучу и получится один большой порок. И вы поймете, что она недостойна, — весело наставлял Игорь. — Или влюбитесь. Клин клином. А?
— Как у тебя все просто — клин клином. — Богородский уколол его ироническим взглядом. — Своим аршином меришь, натурщицами. Аля не чета твоим натурщицам. Она единственная из женщин, кого я любил. Такое бывает раз в жизни. Один единственный раз.
— А что, Лукач, может Игорь и прав — клин клином. Влюбись. — Богородский посмотрел на меня пристально и недоверчиво. Я повторил: — А почему бы и нет?
— В моем-то возрасте? И в кого?
— Любви все возрасты покорны, — напомнил Игорь.
— Да дело может и не в возрасте, — сказал Богородский. — Дело в том, что природа неправильно, не разумно распорядилась с человеком.
— В каком смысле? Что ты имеешь в виду? — спросил я.
— А в том, что старится плоть, а душа остается молодой. Разве это справедливо?
— Душа не старится, потому она и бессмертна, — сказал я.
— А я о чем говорю? — вновь заявил Игорь. — Если душа молода, то и люби покуда любится.
— Кого? Вот вопрос. Допустим, встретил, влюбился. А она? Смешно даже мечтать. Тут с клиньями ничего не получится. А возврата к прошлому, к Альбине, нет. Во всяком случае, я ей никогда не позвоню.
— А если она тебе позвонит? — сказал я.
— Не позвонит.
— А вдруг? Откликнешься на зов, пойдешь, и все начнется сначала. — Я испытывал противоречивые чувства. У них и до этого были размолвки, но потом все устраивалось. Я знал его пылкий, темпераментный характер и сильно развитую привязанность к Альбине. Не хотелось верить, что этот разрыв окончательный. А если, так, то он глубоко ранит тонкую душу Богородского. Я искренне сочувствовал ему, считался с его переживаниями.
— Ты, Лукич, преувеличиваешь ее достоинства. Ты простил Альбину. Но она же, в сущности, предала тебя, — сказал я.
— Ее можно понять. Стань на ее место… Или на мое. Любовь не стареет. Она всегда юная. Тебе этого не понять. У вас, писателей, в ваших сочинениях любовь не настоящая, придуманная. Настоящей любви вы не знаете, — ворчал Богородский, лукаво прищуривая голубые глаза и поводя седой бровью. Он говорил густым баритоном.
— Но до Альбины у тебя была Эра. Тоже любовь.
— То другое дело. Там была мимолетная страсть. Вспышка.
— Получается: сколько женщин, столько и любовей, — весело подбросил Игорь. — А Есенин как говорил? Кто любил, тот полюбить не сможет.
— Есенин поэт. А поэты часто говорят глупости, для рифмы, — ответил Богородский. — А ты знаешь, сам он сколько раз влюблялся, и кого только не боготворил. Поэтам по штату положено говорить о любви. И у всех одно и тоже. Возьми хоть Пушкина, хоть Лермонтова, Тютчева, Гете. У всех красивые слова.
— Ну, хорошо, оставим поэтов, — сказал я. — Ты не ответил: а вдруг Альбина позвонит?
— Не будет этого «вдруг», — с убежденностью сказал Богородский.
— Ничего вы не знаете, — весело донимал Игорь. — И себя не знаете, все прибедняетесь. Выглядите вы молодцом. В театре любовников играете. Да на вас еще не то, что дамочки, девицы глаз кладут.
— Театр — одна статья, а жизнь совсем другая. Да и в театре еще один сезон сыграю, отмечу свое семидесятилетие и на покой.
— Какой покой, Лукич? О чем ты говоришь? Покой только снится, — сказал я, заметив, что к нам приближается плавной, мягкой походкой супруга Ююкина Настасья. Мужской разговор о делах сердечных не был предназначен для ее любопытных ушей. Я поспешил сменить тему разговора. — Коль вы взяли с собой инструменты, то естественно должен быть концерт.
Наряженная в светлый, просторный балахон при непомерно широких рукавах, сшитый из легкой ткани и васильковую, до немыслимых пределов короткую юбку в обтяжку, и широкополую прозрачную шляпу, она шла к нам с восторженной улыбкой во все лицо и открытым беспечным ртом, что можно было принять за сексуальную озабоченность этой молодой, здоровой и самоуверенной женщины. В таком наряде при её-то толстых ягодицах и полных икрах коротких ног она имела экстравагантный, если не сказать пошловатый, пожалуй смешной, нелепый вид. Заметив ее, Лукич скорчил гримасу, и тут же прикрыв ее иронической улыбкой, с поддельной учтивостью сказал:
— А вот и Настя на наше счастье. Вы, сударыня, смею заверить неотразимы в своем курортном наряде.
— Вы, Егор Лукич, неисправимый насмешник. Но я вас прощаю, учитывая ваш возраст.
— Какой возраст, что за чушь, — быстро вмешался Игорь. — Возраст самый что ни есть, можно сказать, возраст любви.
Лукич вовсе не хотел уязвить Настю, он вообще к женщинам относился с трогательным почтением и утверждал, что плохих женщин в мире не бывает, а если и встречаются порочные, то в их пороках повинны мужчины. Он говорил, что женщина и природа — это самое прекрасное, что есть на планете Земля.
Настя осмотрела нас с любопытством и подозрением и наигранно спросила:
— Ну, о чем вы тут секретничаете?
— О предстоящем концерте с вашем участием, — ответил я и подумал: «Чисто женская интуиция подсказала ей, о чем мы сейчас вели разговор. Удивительно».
— А какое мое участие, в чем оно состоит? — с деланной учтивостью поинтересовалась Настя, щуря круглые глаза.
— Вы будете петь под аккомпанемент вот этих двух маэстро.
— Так. Значит, я солистка, они музыканты, ну а вы, господин писатель, в каком амплуа выступаете?
— В амплуа благодарного зрителя. Я буду горячо хлопать в ладоши и неистово кричать «Браво!»
У Богородского и Ююкина было свое хобби: музицировать. Лукич хорошо играл на гитаре, Игорь на балалайке. В дружеских компаниях на даче, особенно в летнее время, они составляли отменный дуэт: играли и пели, и естественно, как уж водится, перед этим пили. В путешествие они прихватили с собой гитару и балалайку, чтоб оживить наш отдых. Но музыкой мы решили заняться под вечер, на закате дня. А сейчас, когда солнце стало сильно припекать, хотелось спрятаться куда-нибудь в тень. И я ушел в каюту. Впереди предстояли длинные дни безделья. Их надо было как-то скоротать. С собой я взял две книги, но читать их мне не хотелось. Я не знал чем себя занять. В «блокноте писателя», который я с собой захватил, не было пока что ни одной строки, и откровенно говоря, не предвиделось. Болела душа, и болезнь эта была связана с общим положением в оккупированной сионистами стране, установивший свою диктатуру. Часто в пригородных электропоездах я прислушивался к разговору простых людей о том, что сотворили «демократы» с некогда великой державой — СССР. Люди возмущались, роптали, проклинали правительство, Ельцина, Горбачева. И самое обидное было то, что эти же нищие, голодные, ограбленные до ниточки голосовали за Ельцина и на последних выборах президента. Почему? Что это — затмение разума, зомбизм, необратимая умственная деградация? Я искал ответа, хотя он лежал на поверхности: привычка жить чужим умом, доверчивость и детская наивность, полное подчинение телеящику, отсутствие элементарного иммунитета к откровенной, циничной лжи. Однажды в электричке, слушая жалобы пожилой женщины о том, что даже хлеба не на что купить, я спросил: «А за кого ты голосовала?» И она так просто, без раскаяния ответила: «Да за Ельцина. А за кого ж еще». И мне хотелось ей бросить в лицо: «Ну и подыхай теперь, безмозглое животное!» Я понимаю, что грубо, что «безмозглое животное» не виновато, что мозги его вынули ловкие шулера, что ложь их хитроумна, изобретенная в специальных адских лабораториях, научно-исследовательских институтах, выверенная на новейших компьютерах, что народ наш, прежде, чем обобрать и унизить, лишили его главного иммунитета: чувства достоинства и национальной гордости, патриотизма, символа веры. Я мысленно искал выход из этого чудовищного тупика и не находил, утрачивал последнюю надежду. А без веры, без надежды жизнь становилась бессмысленной. Мои изобличительные романы и статьи не доходили до массового читателя, их читали каких-нибудь — в лучшем случае — сто тысяч человек, главным образом ветеранов, таких же, как я сам, хорошо понимающих, кто враг, но совершение бессильных что либо предпринять, чтоб изменить положение. Я согласился на это турне по Волге в надежде найти хоть на время душевный покой, но понял, что все напрасно: никакой теплоход не оградит от душевной боли. Конечно, там, в мастерской Ююкина, я был удивлен неожиданной, не присущей его характеру, откровенной исповеди своего друга Богородского. У нас не было тайн, мы доверительно относились друг с другом, я был посвящен в его сердечные дела, хорошо знал и понимал Альбину, не всегда разделял восторги Егора Лукича, ослепленного большой любовью, мне со стороны были видны и слабости Альбины, но я искренне радовался их любви. Изумило меня то, что в мастерской Ююкина Богородский нарушил свое правило и выпил сверх обычного и произнес свой монолог о любви в присутствии Игоря и Виталия. Обычно о своих чувствах он открывался только мне. И вдруг напоказ, на распашку выставил сокровенное. Значит, припекло. И уход Альбины, ее нежелание не только плыть вместе с ним по Волге, но и объясниться, не повлияло на его любовь к ней. Я понимал его состояние, знал его скрытую сентиментальность, легко ранимую натуру. Я знал, как много он сделал для Альбины, для ее детей. Фактически десять лет они жили, как муж и жена, и дети Альбины знали об их отношениях и занимали сторону матери. Егор Лукич для них был ближе и желанней родного отца. Богородский это знал и ценил. Он принадлежал к той породе людей, которые любят дарить ближним, не требуя ни благодарности, ни тем более наград. Он хорошо разбирался в людях и событиях, судил о них трезво и непредвзято и, насколько я помню, редко ошибался. И люди тянулись к нему, как тянуться к магниту рассыпанные гвозди. Но вот удивительно: я заметил, что возле него не было плохих, неискренних и нечестных людей. Душа его, полная любви и благоденствия, была всегда открыта для себе подобных.
К полудню воздух нагрелся так, что термометр в тени показывал плюс двадцать восемь. Многие пассажиры загорали на палубе. В каюте было душно даже при открытом иллюминаторе. Богородский, обнаженный по пояс, сидел на палубе под навесом и своей соломенной шляпой, как веером, махал на вспотевшие лицо и грудь. Я подошел к нему в тот момент, когда он разговаривал с каким-то мужчиной, низкорослым, коренастым. Изборожденное морщинами его доброе лицо учтиво улыбалось, обнажив белые зубы. Завидя меня, Богородский призывно помахал мне рукой и лениво проговорил:
— Проходи, садись. Тут хоть слегка продувает, — И, обращаясь к своему собеседнику, представил, назвав мое имя. — А это профессор из Твери. Мой старый поклонник. А я даже не знал. Вот оказывается…
— Павел Федорович Малинин, — учтиво наклонил голову профессор и протянул мне руку. На вид ему было за шестьдесят, седые, довольно поредевшие волосы, серые, тихие глаза.
— Профессор каких наук? — полюбопытствовал я.
— Историк, — кратко ответил профессор и продолжал: — Мы с дочерью сели в Твери, плывем до Нижнего. Недавно по телевидению крутили старые советских времен фильмы, и там вот в главной роли Егор Лукич. Было очень приятно. Вся наша семья горячие поклонники таланта Егора Лукича. Я помню вас по МХАТу, Егор Булычев, какой образ! С кем сравнить? Вы, наверное, последний из могикан. — голос у него глубокий и приятный, полный благородства и учтивости.
— Вот видишь, Лукич, тебя помнят, знают, а ты собираешься покинуть театр. Неразумно, — сказал я.
— Что вы, разве можно? — воскликнул Малинки, глядя на Богородского долгим взором восхищения. — К сожалению, в последний раз в театре я был в советское время, где-то незадолго до горбачевской перестройки. А сейчас, откровенно говоря, не до зрелищ.
— Да и смотреть нечего, — сказал Богородский и прикрыл шляпой свою тяжелую круглую голову и уперся в колени крупными, мягкими ладонями. — Нет театра, тем паче — кино. Все искусство угробили, похоронили израильские пришельцы, разные марки захаровы, любимовы и всякая бездарная шантрапа. — Круглое лицо Богородского скорчило презрительную гримасу, а раскатистый голос его и слова высек в глазах профессора немое удивление. Он растерянно, с оттенком смущения посмотрел на Богородского, потом перевел взгляд на меня и тихо спросил:
— А он, что? Юрий Любимов — тоже?
— Тоже, тоже, — подтвердил Богородский, — что и Марк Захаров, из одной стаи разрушителей прекрасного, достойные наследники и продолжатели гнусного маразматика Мейерхольда.
Профессор робко подернул плечами, морщинистое смуглое лицо его выражало недоумение и озабоченность.
— Вы не согласны с Егором Лукичом? — спросил я.
— Не то что не согласен, — растерянно проговорил профессор, и странная улыбка сверкнула на его тонких, сухих губах. — Я просто не знал. Что касается Мейерхольда, то вы совершенно правы: это такой же разрушитель-реформатор, как нынешние Чубайс и Немцов.
— Отлично сказано, Павел Федорович, — пробасил Богородский. — Дайте вашу руку. Удачное сравнение. С той только разницей, что Мейерхольд разрушал театр, а эти недоноски разрушают великую державу. А им усердно помогают шабес-гои типа Михаила Ульянова, Ефремова, братьев Михалковых, этих яблок-гимнюков, да еще бериевско-шеворнадьевского земляка Басилашвили.
Я говорю о лакеях, русских по крови, но служащих оккупантам, то есть о предателях. Я вам так скажу, уважаемый профессор: чем глубже думаю над жизнью, наблюдаю за людьми, за их поведением, тем больше убеждаюсь, что из всех тварей рода человеческого, самая мерзкая и самая подлая — лакей. Никакая ядовитая змея, или чумная крыса не может сравниться по зловредности, гадости с лакеем. Это существо вне нации и расы, оно лишено чувства родины, идеала, красоты, порядочности, достоинства и чести, долга, совести, всего того, чем человек отличается от гниды. Лакей труслив, жесток, коварен, льстив, мелочен, жаден. Предел его желаний — собственное брюхо. Ради этого он зарежет свою мать, растлит дочь, будет служить кому угодно, хоть дьяволу. Сегодня оккупанты России готовят таких выродков из наших мальчишек.
Богородский разволновался, на потном лице его выступили розовые пятна. Он достал платок и вытер лицо. Профессор Малинин осторожно спросил:
— У вас дети есть, Егор Лукич?
— Сын, подполковник-пограничник. На Дальнем Востоке служит, — тяжело дыша, ответил Лукич. — Внук — Артем. Здесь, под Москвой в Лосиноостровске, заканчивает Высшее военное училище погранвойск. Хороший парень, рассудительный, но многое не понимает в нашей подлой жизни. Верит ящику, лживой, оккупационной прессе. Как и миллионы других.
— Я согласен с вами, уважаемый Егор Лукич, лакеи — это великое зло. Они переполнены ненавистью к своей стране. Чубайса, Немцова я еще могу понять, для них Россия — территория. Ну а Михаил Ульянов, Ефремов? Или тот же Солженицын. Он же сказал: «Нет на свете нации более презренной, более покинутой, более чужой и ненужной, чем русская». Что же получается? Он не принадлежит к этой нации? Так выходит.
— Выходит так: Солженицын, Солженицер, — согласился Богородский и прибавил: — Да его б за такие слова снова выдворить за океан.
— Там он уже не нужен. Там он свои тридцать серебряников получил, — заметил я.
— А теперь за такие слова и здесь получил серебряники от режима, — сказал Малинин. — Чин академика.
— Да, удивительно, — сказал я. — Каким местом думали академики, голосуя за него? И не нашелся среди них хотя бы один честный, порядочный ученый патриот, который бы перед голосованием встал и огласил слова кандидата в академики о русском народе. Не нашлось.
— Такие уж там академики, вроде Лихачева, — язвительно заметал Малинин. — Этот липовый патриот и профессиональный русофоб даже пытался оспорить, что река, по которой мы плывем, вот эта самая Волга-матушка и вовсе не русская река, потому как протекает она по землям, где живут не только русские.
Профессор во мне вызвал симпатию своей провинциальной непосредственностью и неподдельной прямотой. Думаю, что такого же мнения был и Лукич.
— Вот даже как?! — Богородский расправил широкие плечи и задвигался всем своим могучим корпусом. — А ведь из него телевидение делает икону. Па-три-от… Хотя, чему удивляться. Я так скажу: кого телевизор хвалит и постоянно рекламирует, считай, что это явный подлец. На экране господствуют лица еврейской национальности. Не просто евреи, а лица, то есть особые, сионизированные, имеющие какие-то заслуги перед их главным штабом. Скажем, заслуги в деле свержения советской власти. Вы обратили внимание, какие царственные похороны были устроены заурядным актерам Гердту и Никулину? Сверх царственные. Не то, что какому-то там маршалу Жукову или Рокоссовскому. Значит, одни служили России, другие Сиону.
Голос Богородского приглушенно дрогнул и замолчал. Малинин горестно вздохнул и, выдержав паузу, заговорил, желая увести беседу в сторону от злободневной политики.
— А скажите, Егор Лукич, все-таки есть еще, сохранились русские театры? Тот же ваш или Малый. — Как вы относитесь к Юрию Соломину?
— Нормально. На нем и держится театр.
— А что из себя представляет Валерий Золотухин?
— Обыкновенный космополит в маске патриота, шабес-патриот, — небрежно бросил Богородский. — Теперь их много развесь таких патриотов, всеядных скотов, хоть в искусстве, хоть в политике. Целые лебяжьи стаи, во главе с рычащим генералом. Скажите, какой нормальный русский режиссер позволил бы себе ставить в театре обезьяний бред графомана Иосифа Бродского, который, между прочим, и сам не считает себя русским поэтом?
— Очевидно, прельстила Нобелевская премия, — предположил Малинин. — Поддался коньюктуре.
— Просто слакейничил, — поморщился Богородский, замотав тяжелой головой. — Что такое Нобелевская премия? Еврейская мастерская, где политические шулера играют в бесчестные игры, на потребу дня лепят пластилиновые фигуры гениев. Так были слеплены и Пастернак и Солженицын и десятки подобных Бродскому шарлатанов.
— Конечно, Валерий Золотухин всеядный, вы правильно подметили, — со свойственной ему учтивостью сказал Малинин. — Но вот на режиссерской ниве, как мне кажется, и в театре, и в кино, пусто, глухо. Ушел из жизни великий Сергей Бондарчук, артист и режиссер. Равных ему нет. В театральном мире кроме Соломина и Дорониной да, пожалуй, питерского Горбачева я не вижу.
— Вы, профессор, не только историк, но и театрал, — искренне польстил я.
— Я нет, я просто рядовой любитель. Моя дочь Лариса, вот она — да, театральный фанат. Кстати, вот она идет к нам. Лара! — позвал он, замахав рукой энергично и торопливо.
К нам подошла стройная с осиной талией девушка на вид лет двадцати пяти с улыбающимся овальным лицом, обрамленным волной густых, черных, со стальным отливом волос и мягким, скромным кивком головы поздоровалась с нами.
— Моя дочь Лариса. Историк, преподаватель, — представил Малинин. — А это, Ларочка, выдающийся народный, подлинно народный, а не какой-нибудь Гафт, артист Егор Лукич Богородский.
— Я узнала. — Бледное, еще не тронутое летним загаром, лицо девушки засветилось смущенной улыбкой, а в зелено-янтарных глазах засверкали огоньки неподдельной радости. — Я вас узнала. Недавно по телевидению шел советский фильм с вашим участием в главной роли.
Голос у девушки высокий, густой и приятный. Взгляд загадочный, обаятельно-таинственный.
— Я вас помню по театру, — продолжала девушка после некоторой паузы. — В годы своего студенчества в МГУ смотрела «Егора Булычева» и «На дне». Вы исполняли главные роли. — Она смотрела на Богородского со сдержанной улыбкой обожания открыто, без тени смущения.
Внешне в ней не было ничего броского, все, что называется, в пределах нормы — тонкие черты строгого лица, длинные черные брови и длинные спокойные ресницы, небольшой рот и не очень трепетные губы, застенчивая и в то же время манящая улыбка. Вот это, последнее, и привлекало внимание, останавливало взгляд, заставляло присмотреться и увидеть то, что не сразу замечалось — ее глаза. Это были необыкновенные глаза молодой рыси. В них, как в зеркале, отражались характер и состояние души. Видно и Богородский обратил внимание на ее глаза. Он встал, выпрямился, расправил могучие плечи, выпятил круглую грудь и немного театрально пророкотал:
— Благодарю вас, очаровательная сеньорита. — Он поклонился, приложив ладонь к сердцу, и смотрел на нее с застывшим вопросом.
— Очевидно, Лариса смотрела не столько Егора Булычева, сколько Егора Богородского, — сорвалось у меня не очень уместно.
— Лариса, в отличие от тебя, хорошо понимает, что эти два Егора неразделимы, — раскатисто парировал Лукич и принял вид человека, исполненного достоинства и простоты. Не каждый обращал внимание на ее глаза, не каждому они светились, но те, кто приметил их, уже не могли забыть. В них таился какой-то сложный сгусток чувств — тайная надежда и боль утраты, несбыточные желания и мечтательный порыв, ураган нерастраченных страстей и всепожирающий огонь вечно желанной любви. Эти глаза ранили тонкие чувственные и благородные натуры, манили и многообещающе влекли. Их миндальный разрез хранил нечто загадочное и непостижимое.
— Мы, Ларочка, о театре говорили, — сказал Малинин. — Егор Лукич много интересного сообщил, о чем в нашей провинциальной и густо сионизированной Твери мы с тобой только догадывались.
— А нам бы, уважаемый Павел Федорович и почтенная Лариса Павловна, хотелось бы послушать ваше просвещенное мнение, как профессионалов, что сегодня творится на фронте истории? — сказал Богородский, не сводя цепкого взгляда с Ларисы.
— В истории еще хуже, чем в искусстве, — ответил Малинин. — Историю России нам теперь пишут иностранные шулера. Наши дети-школьники уже и не ведают, что была в семнадцатом Октябрьская революция что в двадцать втором был образован СССР. Им говорят, что вторую мировую войну развязал Сталин, что главные ее герои — Эйзенхауэр и Монтгомери. О Жукове, Рокоссовском ни слова. Такую «Новейшую историю XX века» сочинил некий господин Кредер.
— Все понятно: гражданин Израиля, — хмуро и с раздражением пробурчал Богородский.
Откуда-то появились разомлевшие от солнечных лучей Ююкины, и Настя, блестя вспотевшим лицом, весело прощебетала:
— Господа товарищи, приглашают на обед.
После обеда, разморенные духотой и пивом, мы с Богородским решили поспать и проснулись незадолго до ужина. За ужином мы распили припасенную Игорем бутылку болгарского коньяка, и я напомнил артисту и художнику, что их инструменты, — гитара и балалайка, пока что лежат в каютах невостребованными.
— О!.. Совершенно верно — обещанный концерт! — восторженно воскликнула Настя. От коньяка ее возбужденное лицо покрылось багровыми пятнами.
— Только при вашем активном участии, госпожа Настасья, — согласился Богородский и вполголоса пропел: — Эх, Настасья, ты Настасья, отворяй-ка ворота, отворяй-ка ворота, да встречай-ка молодца. Смотрю я на вас господа Ююкины, и думаю с белой завистью: привалило Игорю счастье — есть у него красавица Настя.
Настя не считала себя красавицей, но и не обижалась на иронические колкости Лукича, ответила:
— Только Игорь этого не понимает, все по сторонам глазами бегает, ищет какого-то другого счастья.
— Да будет вам известно, милейшая Анастасия, что все женщины делятся на два сорта: на страстных и нежных, — сказал Богородский. — Так вы к какой категории относите себя?
— Я? — Лживые глазки Насти заметались. — Я — к первой.
— Следовательно, страстных, — подтвердил Богородский. — А Игорю, положим, больше подходят нежные. Вот он и зыркает по сторонам, ищет. По своему вкусу. А вы ему мешаете искать, вы навязываете ему свое, свои страсти. А он от них сыт по горло, ему подавай что послаще, потоньше. Ему нежность нужна. А вы ее дать не можете, потому, как у вас ее нет. Не наградил господь. Вот на этой почве и рушатся семьи. В Америке, по последним данным, разводится каждая вторая семья.
— Ваша теория, Егор Лукич, неправильная и вредная, — решительно отчеканила Настя, и в глазах ее заметались колючие огоньки. — Вы все примеряете к своему опыту, вся ваша философия исходит от ваших личных семейных неудач. А ваши неудачи — это ваше личное дело, они от вашего характера. А он не мед, злой у вас характер, язвительный.
— Согласен, абсолютно с вами согласен: язвительный у меня характер, и совсем не мед, не сахар, — добродушно заулыбался Богородский. Зная неуравновешенный характер Насти, он не хотел накалять напряжение. — Но что поделаешь? Характер он тоже от Бога. Его не поменяешь. Он дается на всю жизнь.
Так частенько бывало на даче: подбрасывал Лукич соседке иронических язвительных колючек, но совершенно беззлобных, и когда в ответ на его колкости Настя начинала «заводиться», он тут же проявлял благодушие и миролюбиво отступал. Отступил и сейчас, тем более мы, то есть нас четверо, были настроены на «концерт».
Когда после ужина пошли за инструментами, Ююкин шепнул Богородскому:
— Не раскаляйте, Лукич, Настю: сегодня она не в духе. Она заподозрила мой интерес к профессоровой дочке и теперь неотступно бдит.
— Вот как? Когда же ты успел проявить этот интерес?
— А что — она симпатичная. Вы не находите? В ней что-то есть.
— Ты уже успел разглядеть это «что-то»?
— Пока что нет, но есть надежда.
— Надейся. Надежда юношей питает, — сердито промчал Богородский, выразил этим свое неодобрение надеждам Игоря. И уходя в каюту, напомнил: — Не забывай, что Настя всегда настороже. Да и профессор… присматривает. Как бы не оказаться тебе за бортом… в прямом смысле.
Это были слова ревности: Богородский и сам «положил глаз» на Ларису, и ему увиделось в этой девушке таинственное «что-то», как когда-то нашел он его в Альбине.
Под вечер жара поубавилась, от воды потянуло прохладой. Пожар заката начал угасать, западный горизонт озарился ровным сиянием. И лишь окна прибрежных домов еще полыхали огнем уходящего солнца. Мы расселись на палубе под навесом. К нам присоединились и Малинины. Репертуар дуэта Богородский — Ююкин — был традиционно неизменным, хорошо обкатанным на дачах, — русский романс. Задорно смеялась и озорничала балалайка в руках Игоря, искрилась и заливалась то светлой, то грустной мелодией. Стонала и ныла гитара Лукича, то, протяжно вибрируя, тянулась куда-то ввысь и вдаль, то гулко падала и обрывалась. И не громко, но задушевно сливались сочный тенор художника и мягкий, ласкающий баритон артиста в один светлый поток мелодии. Временами в эту струю вливался не сильный, даже робкий, но приятный голосок Насти. Постепенно к нам подходили пассажиры, останавливались, слушали. Я наблюдал за Малиниными. Одухотворенное лицо профессора сияло радостью, а губы его шевелились в такт мелодии: он мысленно, без слов подпевал. Лицо же Ларисы мне показалось печальным с застывшей на нем улыбкой. Спокойные глаза ее из-под длинных ресниц были нацелены на Богородского, который уже давно заметил этот пристальный взгляд, но старался не подавать вида, точно боялся спугнуть его. И вот неожиданно их взгляды столкнулись и улыбка смущения обнажила крупные, белые зубы Ларисы, а Лукич отвел глаза. Кончив играть, он обратился к девушке:
— Присоединяйтесь. Ведь вы поете, я знаю.
— Почему вы знаете? — смутилась Лариса.
— Догадываюсь. Интуиция. Ну, смелее, — очень ласково и тепло попросил Лукич. — Не стесняйтесь. Туг публика доброжелательна.
— А вы сможете аккомпанировать? — Вдруг решилась она и посмотрела на отца. Тот одобрительно кивнул.
— Вы что хотите петь? — спросил Лукич.
— Романс «Не уходи».
— Гм… Как там: «не уходи, побудь со мною». Так?
— Я не знаю такого романса, — быстро вклинился Игорь.
— А тебе и не надо знать, — лукаво улыбаясь, сказал Лукич. — «Не уходи» — касается не тебя. Ты лучше уходи и не мешай мне. Я попробую. А вдруг получится. Согласны?
— Да, — тихо подтвердила Лариса и в совестливых глазах ее сверкнула печаль и беззащитность, в то же время энергичное лицо ее преисполнено спокойной уверенности. Она начала негромко, как бы нащупывая мелодию:
Постепенно, по мере того, как Лукичу удавалось войти в мелодию, голос ее крепчал, становился уверенным и очаровательным.
Зрители восторженно захлопали в ладоши. Приятный чистый голос ее очаровывал, а спокойные манеры свидетельствовали внутреннюю культуру и чувственное сердце. Она скромно, с застенчивой улыбкой поклонилась, а Богородский степенно поднялся со стула, взял ее руку с длинными ногтями, раскрашенными под жемчуг, медленно поднес к своим губам и осторожно опустил. Лицо его пылало. Он по-отечески взял Ларису под руку и увлек к перилам борта, что-то говоря ей вполголоса. Ююкин провожал их лукавым взглядом, а я вспомнил слова Богородского, сказанные Игорю: «Не уходи» касается не тебя. Ты лучше уходи и не мешай мне. Я попробую. А вдруг получится».
Профессор посмотрел в их сторону с неожиданным удивлением и почему-то спросил меня, как я отношусь к генералу Лебедю.
— К этому провинциальному демагогу? — переспросил я и ответил: — Точно так же, как и к провокатору Жириновскому, сионисту Явлинскому. Все они работают на Ельцина, на оккупационный режим, все они недруги России и русского народа.
— Но Лебедь как будто русский, — уже с сомнением сказал Малинин.
— Горбачев тоже, говорят, русский, а что сотворил! Жириновский помог Ельцину протащить антинародную Конституцию, Лебедь помог Ельцину переизбраться на второй срок.
— Так на кого ж нам надеяться? Есть ли у патриотов настоящий лидер? Может Лужков?
— Да нет, что вы? Лужков окружен евреями в три кольца. Расчетливый популист, толковый организатор-хозяйственник и такой же буржуй, как и Черномырдин.
— Выходит, нет настоящей личности, — вздохнул Малинин и, помолчав, добавил: — Вот если б такого, как Лукашенко? Как вы смотрите?
— Смотрю положительно. И совсем не потому, что он мой земляк, из Шкловского района. Мы с ним в одной районной газете работали. Только я до войны, а он после войны. Он моложе меня чуть ли не в два раза. Есть в России такие деятели. Возьмите того же Амана Тулеева, Петра Романова, Михаила Лапшина. — Я назвал ему еще несколько имен. Он промолчал настороженно. Потом спросил:
— А что ж вы Зюганова… или? — Он осторожно осекся.
— Разочаровался в нем. Хотя раньше надеялся. И голосовал за него. Не знаю, может я не прав. Он слишком осмотрителен. А слово «сионизм» просто не выговаривает, боится этого слова. А между тем сионизм — самый главный и самый страшный враг и губитель России. Страшней и опасней Гитлера.
Поглощенные разговором на волнующие нас темы мы не заметили, как стемнело и на теплоходе зажглись фонари. Пожелав мне покойной ночи, профессор Малинин сказал:
— Пойду искать Ларису, ночь коротка.
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |