"Юношеский роман" - читать интересную книгу автора (Катаев Валентин Петрович)
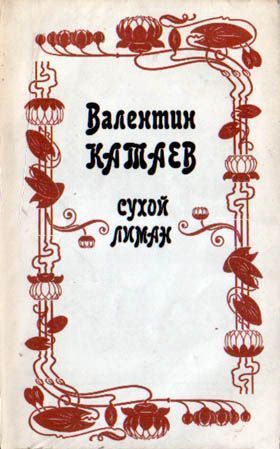 |
Валентин Катаев
Я стоял в передней, уже окончательно откланявшись, но Миньона все еще одной рукой держала цепочку и не открывала дверь, чтобы наконец выпустить меня на лестницу, а другой рукой прижимала к груди пачку моих писем, накрест перевязанных не шелковой ленточкой, а простой тесемкой, как деловые бумаги.
Это было последнее свидание.
Наш платонический роман давным-давно уже кончился и был забыт. А за пять лет революции, гражданской войны и военного коммунизма, в течение которых мы не виделись, так много переменилось, что не стоило об этом и вспоминать.
Я знал, что после меня у нее был настоящий, глубокий, серьезный роман с одним из моих бывших гимназических товарищей, принужденным бежать вместе с белыми за границу, где он и умер от скоротечной чахотки в Шварцвальде.
У Миньоны с детских лет тоже были слабые легкие, а теперь у нее открылся туберкулез и принял угрожающие формы. На ее все еще прелестном лице уже лежали тени быстро развивающейся болезни.
– Вы же видите, что я погибаю! – почти с раздражением сказала она.
Я молчал. Лицо ее стало отчужденным: вероятно, она в этот миг подумала о смерти.
– Возьмите ваши письма. Может быть, они вам пригодятся.
Она сняла дверную цепочку, щелкнула американским замком и выпустила меня на площадку. Гул, наполнивший лестничную клетку, и в особенности бледно-зеленый декадентский цвет двери напомнили мне прошлое.
Сравнительно недавно мы тоже жили здесь. Большая квартира в новом четырехэтажном корпусе.
…Вместо цинковой ванны – блестящая мальцевская. Всегда горячая вода. Электрическое освещение. Блестящие паркетные полы, источавшие запах свежего дуба и желтой мастики. Двери и венецианские окна были окрашены не обычной уныло-коричневой блестящей краской наемных квартир, а бледно-зеленой, матовой, свойственной новому стилю бельэпок, то есть прекрасной эпохе начала ХХ века. Вместо кафельных печей квартиру обогревали коленчатые радиаторы пароводяного отопления, окрашенные в тот же бледно-зеленый матовый декадентский цвет. Старая висячая керосиновая лампа в столовой, несколько напоминавшая своим белым куполом медузу, была переделана на электрическую. А новенькие бронзовые бра на стенах очень ярко светились своими молочно-радужными тюльпанами с ввинченными в них полуваттными электрическими лампочками марки «осрам», что никак не соответствовало маленькому провинциальному буфетику, круглому обеденному столу, венским стульям и железным кроватям. Стенные часы с римскими цифрами и музыкально-пружинным боем, согласно семейной легенде выигранные папой в лотерее, когда он еще был женихом покойной мамы, тоже не соответствовали новой квартире.
Купленный недавно в рассрочку гостиный гарнитур из обычной сосны, но выкрашенный под черное дерево, с двумя неудобными креслами, хрупким трехместным диванчиком, обитым золотистым шелком, с махровыми висюльками и парными тумбочками в виде как бы дорических колонок, предназначавшимися для установки на них мраморных бюстов великих людей или, на худой конец, фаянсовых цветочных горшков, которых у нас не водилось, – это все же как-то подходило к новой, богатой, но еще не обжитой квартире.
Гостиная мебель всегда стояла в холщовых чехлах, скрывавших ее роскошь, причем кресла и стулья напоминали нечто вроде сидящих привидений.
Именно в это время я начал писать роман о своей первой любви. Стихи и романы в те годы писали почти все гимназисты. В романе, который я писал, было такое место:
«…дом был новый. Его отстроили полгода назад, осенью, и он был первым из шести других корпусов общества квартировладельцев, которые еще строились и стояли в лесах, запачканных кирпичной пылью и потеками известки. Корпуса эти строились на пустыре, на окраине города, против военного госпиталя, где некогда работал сам Пирогов, недалеко от моря, в той местности, где уже начинались дачи и казармы.
Поздней осенью и зимой здесь было холодно, пустынно, и северный ветер норд-ост дул в желтые, еще не оштукатуренные ракушниковые стены, посвистывая и вереща в новых кирпичных трубах, а с нашего четвертого этажа через неоконченные постройки, за голыми садами еле виднелся кусочек штормового моря.
Когда же наваливало ненадежного южного снега, то и совсем становилось скучно. Знакомых поблизости не было. Город казался недоступно далеким. В новой квартире еще не было уюта. Электрические лампочки горели нестерпимо ярко. Веселых жарких печек не было, их заменили чугунные батареи, и всюду стоял еще не выветрившийся запах масляной краски»…
Шесть корпусов, расположенных как кости домино, – два против двух и по краям поперек еще по одному, так что в середине между ними получился длинный двор с газонами, цветниками, стриженым кустарником, совсем молоденькими, как тросточки, липками и посредине с круглым бассейном с фонтанчиком и даже золотыми рыбками.
Шестой корпус заселялся состоятельными семьями. Нарядные дети играли во дворе в мяч и ловили ясеневыми рапирами легкие кружки серсо. Мимо вас могла проехать на роликах стройная девочка, казавшаяся несколько выше, чем была на самом деле.
В последний корпус въехала семья полковника Заря-Заряницкого, в первый же день войны произведенного в генерал-майоры и назначенного командиром той артиллерийской бригады, где я впоследствии служил вольноопределяющимся.
Но тогда о войне никто не думал.
…и однажды я увидел трех девочек в кружевных платьицах, которые вышли погулять под присмотром своей старшей, четвертой сестры, уже вполне взрослой девушки-курсистки. Одна из этих девочек, средняя, и была, как ее называли дома, Миньона…
Теперь, держа в руках пачку писем, я представил давнюю картину: четыре девушки в пасхальных платьях стоят возле рояля, держа в руках раскрытые ноты, – маленький хор ангелов – и поют под аккомпанемент домашнего учителя музыки о том, как наступила осень и улетели птицы, – щемящий душу романс Шопена.
Не так давно это было, но казалось, что прошла вечность.
Я шел по длинному дворовому садику и совершенно его не узнавал. Бассейна и фонтанчика уже не существовало. Бледно-зеленые скамейки у парадных входов исчезли, деревья разрослись и так вытянулись вверх, ища солнце, что некогда изящный скверик превратился в тесную липовую рощицу. Прежних квартировладельцев, рассчитывавших жить здесь вечно, я не обнаружил. Лишь кое-где на дверях квартир сохранились нечищеные медные таблички с их фамилиями, именами и отчествами, выгравированными прописью. Теперь здесь жили совсем другие люди, иногда по две или даже по три семьи в одной квартире.
Проходя мимо того корпуса, где несколько лет назад обитала моя распавшаяся семья, я посмотрел на балкон четвертого этажа и увидел детскую коляску и перекинутый через перила незнакомый потертый ковер.
Странно, что в моей душе ничто не шевельнулось – ни сожаления, ни грусти, а лишь всплыло воспоминание о гимназистке, жившей под нами, на первом этаже.
Ей было в ту пору лет пятнадцать: высокая, худая, стройная, длинноногая и длиннорукая, бойкая. У нее был прелестный цвет кожи несколько удлиненного лица, яркие глаза, коса до пояса. Все это могло бы сделать ее настоящей красавицей, если бы не досадная оплошность природы: нос. Нос портил все дело. Он был слишком большой, тонкий, ало просвечивающий на солнце, подобно тому как у маленьких детей просвечивают розовые ушки.
Это бы еще ничего.
Беда в том, что нос имел форму руля, того самого руля, который навешивался за кормой шаланды.
Когда она шла в гимназию, уличные мальчишки бежали за ней с криками:
– Носяра! Носяра!
Она гонялась за ними на своих длинных ногах, размахивая книгоноской, и если ей удавалось кого-нибудь из них поймать, то она, сжав книгоноску между колен, обеими руками драла мальчишке уши, не жалея своих красивых музыкальных пальцев.
Дело прошлое, но случилось так, что она влюбилась в меня. Хотя она это и скрывала, но все знали, что за нагрудником черного будничного передника кроме ученического билета с правилами поведения она всегда носила мою небольшую карточку, снятую э электрофотографии; так как она часто, иногда даже на уроках, вынимала карточку, рассматривала ее и даже, как говорили, целовала, то карточка имела потрепанный вид, мое лицо стерлось.
Встречаясь во дворе со мной, она преграждала мне дорогу, темный румянец заливал ее прелестное лицо с ужасным носом, и она говорила:
– Пчелкин! ты понимаешь? не будь каменным!
Я пытался улизнуть, не мог же я сказать ей, что если бы не ее нос, как руль…
Нет, я решительно не мог ответить ей взаимностью. Меня бы просто засмеяли товарищи. Кроме того, у нее было ужасное имя Калерия, с которым трудно было примириться.
Время шло, а любовь Калерии ко мне не проходила, хотя наши отношения стали менее драматичными. Мы были близкими соседями, как говорилось тогда, жили на одной лестнице и виделись ежедневно. Утром в одно и то же время мы выходили из дому, направляясь в гимназию. Она в свою, а я в свою. Встречались мы обычно на лестнице и затем некоторое время шли рядом по нескольким улицам, пока на одном из перекрестков наши пути не расходились.
Она была счастлива шагать рядом со мной, бесшабашно размахивая клеенчатой книгоноской, за ремешки которой был заложен пенал с переводной картинкой на крышке.
Разумеется, я втайне гордился, что в меня безнадежно влюблена девочка, почти уже девушка, хотя и с чересчур большим носом и глупым именем, но все-таки…
Короче говоря, она меня любила, а я ее нет. В остальном же мы были добрыми друзьями. Совместное путешествие ранним утром, холодным и румяным, в гимназию не доставляло мне никакой неприятности, если, конечно, уличные мальчишки не бежали за нами следом с криками «носяра!» или, еще хуже, «жених и невеста, тили-тили тесто!».
Теперь в их квартире жили незнакомые люди, а куда девалась сама Калерия и вся ее семья, я мог только догадываться: бежали с белыми за границу, о них осталось только воспоминание.
Воспоминание тревожило меня, вызывая прилив тайной горечи. Воспоминание было связано не с носатой красавицей, влюбленной в меня. О ней я почти совсем забыл.
Но у нее была подруга…
Роковое слово «подруга»… Именно ей суждено было стать моей первой и единственной любовью.
Я был влюбчив. У меня постоянно были увлечения. Но как бы я ни увлекался, по-настоящему любил только
ее одну.
Сейчас я снова проходил сквозь прозрачную, совсем неощутимую среду этой единственной любви, не имевшей никакого отношения к той последней встрече с Миньоной, которую я только что так легко пережил возле маленькой бледно-зеленой декадентской двери стиля бельэпок бывшей генеральской квартиры, а теперь коммунальной.
Миньона тоже была любовью, но любовью бывшей, кончившейся, как кончается все в мире, в то время как та, странная, необъяснимая, даже как бы выдуманная, никогда но кончалась. Может быть, эта любовь – как и все в мире – не имела не только конца, но не имела начала. Она существовала всегда.
Но ведь все-таки она как-то началась?
В то время я об этом совсем не думал. Я только испытывал неудобство от пачки писем, которые держал в руке. Я почему-то никак не мог сообразить, что письма можно положить во внутренний карман пиджака. Я еще не освоился со штатским костюмом. Это был мой первый штатский костюм, недавно купленный на Красной площади в ГУМе, незадолго до приезда в родной город.
Пачка писем была не столь велика. Она свободно могла поместиться в боковом кармане нового моего пиджачка, немного великоватого. На груди этого смешного пиджачка виднелось пятно чернил от автоматической ручки. Мне не удалось вывести это пятно, отдав пиджак в химическую чистку. Пиджак был испорчен. Пятно хотя и слабо, но все же просвечивало возле наружного бокового карманчика, откуда торчала белая головка «Монблана», как у бухгалтера.
Письма тяготили меня.
В сущности, старые письма были мне не нужны. Я прекрасно помнил их содержание: описание фронтовой жизни, будни и боевые эпизоды действующей армии, туманные любовные признания, лирические отступления и так далее. Я не придавал им значения. Они казались мне не более чем обломками как бы некой канувшей в вечность древней цивилизации, где, однако, сохранилась часть моей юношеской души. Был момент, когда, проходя мимо розовой госпитальной стены – такой знакомой с детства, – я даже хотел избавиться от писем; например, просто потерять их или положить на уличную скамейку, сохранившуюся с «того» времени. Однако я этого не сделал.
Таким образом, письма сохранились, сопровождая меня вместе с разрозненными страницами незаконченного юношеского романа, который я писал еще не установившимся почерком повсюду, где мне ни приходилось бывать в течение всей моей не в меру затянувшейся жизни.
…И вот однажды я развязываю тесемку…
Только в конце жизни понял я ту общеизвестную истину, что появление мое на свет от меня не зависело, так же как от меня, от моей воли, в сущности, не зависело ничто. Даже моя свободная воля зависела не от меня лично, а от кого-то или от чего-то другого. Я зависел от обстоятельств и не имел никакого отношения к устройству мира, в котором мне предназначено было существовать, к вселенной, к устройству человеческой жизни со всеми сопутствующими ей предметами и обстоятельствами.
Обстоятельства существовали сами по себе. Я – сам по себе. Но я был тем не менее полностью зависим от обстоятельств. А они от меня нет. Мне ничего не оставалось как только подчиняться, не делая попыток что-нибудь изменить. Каждая попытка вмешаться в судьбу кончалась для меня бедствием.
Даже постоянная влюбленность в кого-нибудь всегда зависела от случая, от обстоятельств времени года, погоды, растений, полета чайки, луны над морем, степного заката, или запаха духов, или особенностей речи, роста, сложения, возраста.
Неизвестно, как было заложено в меня тяготение к девушкам небольшого роста, как говорилось тогда, Дюймовочкам. Может быть, я поэтому и не ответил на любовь прелестной носатой полудевушки-полудевочки Калерии.
Подобные мысли стали приходить в конце жизни, когда я сводил счеты со своей юностью, и в особенности тогда, когда я наконец нашел время перечесть свои старые письма, написанные в действующей армии то чернилами, то обыкновенным фаберовским карандашом, то карандашом анилиновым, то опять чернилами, но уже почему-то зелеными, то красными, если я писал письмо в бригадной канцелярии, то даже тушью – не помню уже, откуда она взялась на позициях! Письма писались на разной по качеству почтовой бумаге, и слова порядочно поистерлись.
Мне уже трудно теперь припомнить, где и при каких обстоятельствах они писались.
Чаще всего они были писаны в землянке на маленьком дощатом столике, при свете коптилки, а однажды в околотке, где я, болея ангиной, лежал на нарах, покрытых соломой, втиснутый в ряд других больных солдат, и, подложив под листок почтовой бумаги какую-то книгу, взятую у фельдшера по фамилии Шкуропат, писал свое очередное обстоятельное письмо из действующей армии. Были письма, написанные наспех на лафете трехдюймовки в перерыве между боями.
Последний год перед революцией.
«6 января 916 года. Действующая армия. Милая Миньона. Этой поездки я никогда не забуду. Незнакомая дорога на Бахмач, снежные степи, затерянные в снегах полустанки. Воинский вагон третьего класса, запах пота, сапог, махорки. Незнакомые люди и бесконечная нежная грусть, страх чего-то неизвестного… Потом Минск, обыкновенный губернский город… с деревянными домами, тройками, бубенчиками, морозом и скверными парикмахерскими…»
Прочитав это, я удивился. Мне всегда казалось, что в моих старых письмах как бы заключена легенда моей молодости. Но что же я нашел? Незрелые и даже не всегда правдивые заметки, полные умолчаний.
Разрушающаяся память все же сумела восстановить истину.
Все было взаимосвязано: зима шестнадцатого, Миньона, действующая армия и я сам – но совсем не такой, каким я хотел себя представить. А хотел я себя представить молодым патриотом, восемнадцатилетним юношей, рвущимся охотником в действующую армию; он бросил все, семью, гимназию, любимую девушку, удобства жизни, и вот теперь едет на позиции, для того чтобы разделить с народом, одетым в серые шинели, все тяготы и опасности войны с проклятыми швабами и тевтонами и, если будет угодно богу, умереть за веру, царя и отечество.
Все это было так, да не совсем так.
А собственно, что было? Грубо говоря, выгнанный из седьмого класса за неуспеваемость гимназист-переросток, окончательно запутавшийся, понял, что для него есть только один выход. Обыкновенно в мирное время выгнанные гимназисты поступали в юнкера. В военное время они ехали на фронт. Однако для меня это оказалось не так-то просто. В пехоту – пожалуйста. Но в пехоте наверняка убьют. Чувство самосохранения навело меня на мысль об артиллерии, где неизмеримо меньше потерь и больше удобств. Конечно, все эти соображения были глубоко подсознательны, и я бы очень удивился и даже разгневался, если б кто-нибудь посмел заподозрить, что я думаю именно так. Я так не думал, за меня думал кто-то другой, неведомый мне, незримый.
…вообще артиллеристы более привилегированны…
И тут же обстоятельства стали мною распоряжаться. Отец Миньоны командовал артиллерийской бригадой.
Вместе с отцом я отправился на толчок покупать необходимое обмундирование. В сущности, это было не нужно. Меня и так должны обмундировать в действующей армии. Но мне до смерти хотелось хотя бы в течение нескольких дней покрасоваться в тылу в военной форме.
Уже само по себе идти на толчок считалось унизительным. Но еще более унизительно было идти по городу не в гимназической форме, на которую я уже не имел права, а в старом отцовском пальто и гимназической фуражке, где вместо сияющего герба виднелись две постыдные дырочки.
Наступали рождественские праздники и вместе с ними обычная оттепель, покрывшая слякотью тротуары. Гранитные мостовые блестели в тумане. Из темной тучи на миг выглянул желток солнца, после чего стал сеяться мелкий, как пыль, дождик пополам со снежинками, совсем скрыв от глаз прилегающие к толчку переулки рабочих окраин, заставленных чахлыми рождественскими елками, привезенными на продажу откуда-то с севера.
Небольшая площадь толчка, наполненная черной толпой продающих и покупающих, червиво шевелилась: старьевщики в котелках со своими холщовыми мешками, перекупщики, продавцы краденого, карманники, солдаты, сбывающие казенное бязевое белье с черными клеймами, марвихеры, чугунноногие инвалиды еще времен японской войны, старухи, торгующие с рук подержанными елочными украшениями – бусами, золочеными орехами, стеклянными шарами, бумажными цепями…
Папа совсем потерялся в несвойственной ему среде толчка. Он неумело торговался, опасливо вынимая портмоне, близоруко копался в нем, и в конце концов были куплены у солдата-инвалида юфтевые сапоги, кожаный пояс, гимнастерка из очень толстого японского сукна защитно-желтого цвета порт-артурских времен, белая меховая папаха и черная кожаная куртка на бараньем меху. Все эти вещи были хотя и целые, но явно поношенные. Их выбирал я сам, торопясь и делая вид знатока.
Отец только морщился и торопливо расплачивался, желая поскорее уйти из этого неприличного места.
В галантерейной лавочке приобрели защитного цвета погоны вольноопределяющегося первого разряда, обшитые оранжево-черным шнурком, а также две скрещенные латунные пушечки для этих погон.
Отец казался удрученным непредвиденными расходами, хотя и понимал, что это плата за мой патриотический порыв.
Господи, если бы обошлось только этим!
Отцу было страшно подумать, что война может не пощадить меня, его мальчика. При одной этой мысли его глаза краснели от скупых слез, и он, скрывая их, протирал пенсне носовым платком.
Превращение исключенного гимназиста в добровольца-патриота совершилось быстро. В новом своем качестве я успел до отъезда, как тогда говорилось, на театр военных действий показаться всем своим гимназическим товарищам и многим другим, в особенности знакомым гимназисткам, в том числе и Ганзе, которая не выразила по этому поводу никаких чувств.
Что касается Миньоны, то она на прощание меня перекрестила, но не поцеловала, на что я втайне рассчитывал.
Ганзя и Миньона не были знакомы, так как Миньона не училась в гимназии, а по состоянию здоровья получила домашнее образование.
Я не представлял, какой у меня странный, если не сказать идиотски-глупый, вид в больших, не по ноге сапогах, нелепой кожаной куртке и белой папахе, лихо заломленной на затылок, что не соответствовало ни общепринятой армейской форме, ни моему еще полудетскому прыщеватому лицу с узкими испуганными глазами.
В таком виде, не дождавшись ни елки, ни Нового года, я и появился в переполненном вагоне третьего класса.
Миньона навязала меня в попутчики офицеру, возвращавшемуся из отпуска «бригаду ее отца. Офицер ехал в вагоне второго класса. Я вообразил, что в качестве добровольца и спутника боевого поручика тоже смогу устроиться вместе с ним в мягком вагоне, и даже уже втиснул в купе свои клетчатый чемодан, но поручик, вежливо улыбаясь в подстриженные усики, выставил меня, заметив со строгой чисто армейской деликатностью, что нижним чинам, хотя и добровольцам, не положено по уставу ездить в мягких вагонах, а только в жестких третьего класса. Я был неприятно поражен, но лихо откозырял поручику и перетащил свои вещи в воинский вагон третьего класса, сразу же окунувшись в его густую атмосферу пота, сапог и махорки. Подумав, не без горечи, впрочем: а ля гер ком а ля гер, – афоризм, весьма популярный в то время: на войне как на войне!
«Незнакомые люди и безотчетная грусть, страх… неизвестного… Потом Минск…» – писал я Миньоне.
Однако между безотчетной нежной грустью, туманно адресованной генеральской дочке, между страхом чего-то неизвестного и прибытием в тыловой город Минск произошли еще некоторые события, о которых я в своем письме Миньоне умолчал, а потом и вовсе забыл, а на склоне лет вспомнил.
Главное из этих событий было то, что я подружился с почтальоном, проводником и старшим кондуктором поезда, которые поревели меня в служебный багажный вагон в голове поезда, где я очень удобно устроился на большой каменной шубе почтальона, разостланной поверх железной клетки, предназначенной для перевозки по железной дороге собак и по случаю военного времени пустующей.
Дружба со старшим кондуктором завязалась еще в буфете на станции Бахмач, где я угостил старшего кондуктора бужениной и двумя бутылками довольно крепкого медового напитка, заменившего водку и вино ввиду все того же военного времени. К нам присоединились проводник и почтальон. Я всех угощал и сам порядочно выпил и рассказал своим новым друзьям, что еду на позиции поступать в артиллерийскую бригаду знакомого генерала, он отец барышни, в которую я влюблен. Новые друзья вполне одобрили мое намерение, а почтальон выразил здравое соображение, что в артиллерии куда меньше убивают, чем в пехоте, и что при тесте-генерале можно легко выйти в офицеры.
Эта мысль никогда явно не приходила мне в голову и показалась унижающей мой патриотический порыв, но все же незаметно мне польстила.
А в самом деле, чем черт не шутит, подумал я и купил еще две бутылки медового напитка.
Пока поезд стоял на этой новой узловой станции, я гулял с почтальоном и главным кондуктором по длинной дощатой платформе, наслаждаясь видом розового морозного заката над снежной равниной уже не Новороссии, а подлинной России. Я любовался елочными звездами станционных электрических лампочек, висящих в чистом, крепком воздухе и зажженных как бы только для того, чтобы еще более украсить зимний пейзаж.
У нас на юге я никогда не видел такого морозного вечера, а на север я ехал впервые в жизни.
Это было для меня так ново и так прекрасно, и так пригодились теплая кожаная куртка, белая папаха и кожаные меховые перчатки.
Я чувствовал себя свободным, готовым на любые воинские подвиги, и снег громко скрипел под моими юфтевыми сапогами.
Остальную дорогу до Минска я провел очень приятно в собачьем отделении багажного вагона, где всю ночь играл в двадцать одно со старшим кондуктором, проводником и почтальоном, который пики называл вини, бубны – буби, трефы – крести, королеву – краля и т. д., слюнил пальцы, прежде чем сбросить карту, и в конце концов выиграл у меня двенадцать рублей из тех двадцати, которые дал мне папа. За вычетом денег, потраченных на буженину и медовый напиток, у меня почти что ничего не осталось.
Меня это не беспокоило: на что мне деньги на позициях, тем более что, может быть, меня и убьют.
Северная зимняя ночь длилась бесконечно, и лишь в восемь часов утра в решетчатом окошечке багажного вагона слегка посинело.
На платформе минского вокзала еще горели электрические фонари совсем как ночью, я выпрыгнул из багажного вагона и оказался по пояс в лиловом снежном сугробе. С трудом вытаскивая из снега ноги в тяжелых сапогах, дыша снежной пылью, еще немного хмельной от медового напитка, утомленный бессонной ночью и проигрышем, я побрел к вокзалу.
«…Минск, обыкновенный губернский город, типичный для центральной России, с деревянными домами, тройками, бубенчиками… и скверными парикмахерскими…»
Так изобразил я, никуда еще до сих пop не выезжавший из родного города севернее Екатеринослава, белорусский город, удививший меня бревенчатыми особнячками, улицами, тесными от сугробов, бубенчиками санной езды.
Я дышал острым морозным воздухом темного зимнего утра, сожалея, что не догадался купить две пары погон, для того чтобы одну пару прикрепить к кожаной куртке, а то получалось, что я совсем не военный, не фронтовик-доброволец, а ни то ни ce. Погоны с пушечками были никому не видны, так как находились под курткой, на гимнастерке. А без погон на куртке меня можно было принять просто за штатского молодого человека, одевшегося потеплее.
Что касается «скверных парикмахерских», то это было сказано для красного словца. Парикмахерские были как парикмахерские. Не хуже и не лучше, чем у нас. В одну из парикмахерских я зашел постричься и здесь снял кожаную куртку, так что белобрысый парикмахер-белорус мог увидеть погоны с пушечками и понять, с кем имеет дело. Парикмахер меня постриг, но не побрил, так как нечего было брить; зато попудрил мне шею и спрыснул постриженную голову одеколоном, после чего сдернул с меня простыню, стряхнув блестящие черные локончики моих молодых полос.
За все это удовольствие я заплатил двадцать копеек из последних восьмидесяти, оставшихся после поездки в багажном вагоне.
Но вот что удивительно. В своем письме я почему-то не упомянул о двух бревенчатых домах, которые я увидел на привокзальной площади. У них были провалены крыши, зияли черные дыры окон с вырванными рамами и кое-где обгорелые бревна срубов: следы недавнего налета на Минск немецких «цеппелинов», бомбивших железнодорожный узел. Впервые я увидел зловещие признаки нешуточной войны, дыхание смерти.
«От Минска я еду в воинском поезде. Поезд набит битком. В теплушках, где мне пришлось ехать вместе с другими нижними чинами, яблоку негде упасть. Смрад. Духота. Адский холод, потому что печей в теплушках нет, а снаружи двадцатиградусный мороз, хоть плачь!
На первой же станции прыгаю из теплушки и бегу к паровозу. Паровоз огромный, железный, весь как бы сочится кипятком. По сравнению с его колесами я кажусь себе совсем маленьким, как лилипут. Паровоз весь в жаркой испарине, как загнанная лошадь. Очень высоко в маленьком окошечке видно лицо машиниста. На подножке как бы висит в воздухе кочегар с жестяным чайником в руке. В чайнике кипяток. Чайник охвачен облаком пара.
– Дяденька! – кричу я снизу вверх. – Замерз! Возьмите меня к себе на паровоз!
Машинист смотрит на меня сверху строго, но тем не менее говорит:
– Лезьте!
Притащив из теплушки свои вещи, не без труда лезу вверх по железным ступеням и остальной путь совершаю на теплом паровозе, где пахнет машинным маслом и еловыми дровами (угля нет!). Снежная, панорама. Поля, похожие на белые застывшие озера. Хвойные леса, подобные островкам среди этих озер. Небо такое же белое, как снег. Небо сливается со снегами. Трудно уловить глазом волосок горизонта. Циферблат возле кипящего котла показывает скорость. Стрелка колеблется от тридцати до сорока верст в час. Из Минска мы выехали в одиннадцать, а уже в два часа по пути попадаются проволочные заграждения, палатки каких-то войсковых частей, среди снегов – казачьи разъезды: мохнатые лошадки и коренастые фигуры всадников с пиками. Как отлитые из бронзы.
Наконец в четыре часа, когда уже начинает темнеть, – станция Молодечно. Здесь исчезают последние следы мирной жизни. Здесь уже война. В зале первого класса давка. Офицеры заполнили все помещение. Они с жадностью хлебают дымящийся борщ, пьют из кружек чай, жуют хлеб. Это уже не ленивое жевание мирной жизни, как на остальных станциях, а еда с настоящим волчьим аппетитом. Да еще бы! Ведь адски холодно! Да это уже вовсе и не станционный буфет, а так называемый питательный пункт.
Вместе с поручиком садимся в кибитку, присланную за нами на станцию, и едем в бригаду, до которой, говорят, верст десять – пятнадцать. Настоящая, хорошая, прекрасно накатанная санная дорога с высокими ольховыми деревьями по обочинам.
Попадаются халупы, обсаженные вокруг воткнутыми в сугробы срубленными елками: маскировка?
Морозный ветер нес снег и покрывал нас с поручиком ледяной корочкой.
Под дугой колокольчик звенит, звенит, звенит однотонным ладным звоном. Валдайский колокольчик… Все побрякивает колокольчик, все побрякивает, и кажется, конца не будет этому однообразному колдовскому побрякиванию.
Заслушаешься!
И под его однообразный однотонный звук начинаешь вспоминать… Хорошо вспоминать под звук дорожного колокольчика, в синий зимний вечер, едучи в опасное, неизвестное место, – вспоминать о ком-нибудь милом, близком, хорошем: чувствовать неопределенную грусть – светлую и нежную…»
Грусть эта была адресована Миньоне, но уж конечно не ей одной, ох не ей одной…
Может быть, это вообще была не грусть, тем более светлая и нежная, а тайная душевная тревога, смутная догадка, что я сделал что-то совсем не то, позднее сожаление об утраченном прошлом, которое уже больше никогда не возвратится. А будущее темно и безрадостно.
И первые в жизни увидевши настоящую русскую зиму, я почему то посчитал, что парные сани, в которых ехал с поручиком, есть не что иное, как кибитка, представление о которой заимствовал из «Капитанской дочки», отчасти представив себя чем-то вроде Гринева. А может быть, тут сыграл роль и Полонский с его волшебными стихами.
«Ночь морозная смутно глядит под рогожу кибитки моей».
Впрочем, никакой рогожи не было. Сани были тесные, и я изрядно стеснял своим чемоданом поручика. Я старался как можно больше потесниться, что еще больше раздражало молчаливого поручика, не чаявшего поскорее доехать до места и наконец отвязаться от меня, ряженого мальчишки, навязанного ему генеральской дочкой.
По пути попалась маленькая бревенчатая церковка и вокруг нее дремучий бор: совсем как декорации из «Жизни за царя» в той картине, где поляки убивают саблями Сусанина. Суровая простота столетних елей, заваленных подушками снега.
Нас все время обгоняют, и нам навстречу мчатся сани с бубенчиками.
Звенит, звенит, звенит…
«Сквозь сон вижу милое лицо, милые движения, милый голос. Однако утомительно.
– Ямщик, скоро доедем?
– Скоро.
– Сколько осталось?
– Верстов семь. Ветер, ветер…
– Сколько?
– Верстов семь с гаком».
Оказывается, у них «с гаком» – это еще почти столько же или даже больше.
«Ветер мешает говорить. Губы еле открываются, как резиновые. Едем, едем. Думается, думается… Глаза сами собой закрываются. С трудом подымаешь веки, а вокруг все то же: бегущая назад дорога, ели, халупы, колокольчик. Словно только теперь его услышал. Да звенел ли он, когда я мечтал, когда дремал? Может быть, звенел, а может быть, и не звенел».
Помнится, изрядно укатала меня русская зимняя дорога, волнистый санный путь.
«Наконец приезжаем в селение Лебедев, где стоит бригада. На въезде почему-то стоит высокий шест с желтым флагом: Едем по улице и останавливаемся перед бревенчатой избой, обставленной вокруг срубленными елочками то ли для маскировки, то ли по случаю святок.
– Ну слава богу, – говорит поручик, – наконец приехали.
Следом за ним я вношу свой чемодан в сени, а оттуда в большую светлую комнату. Посередине длинный стол, покрытый клеенкой. Три походные кровати с офицерскими вещами на них. На стене часы. Почему-то это меня поражает: на фронте – и стенные часы! Уютно. Хорошо. Никого из офицеров нет. Мы пьем с поручиком чай, и я, встав по уставу «смирно», говорю:
– Разрешите, господин поручик, пойти представиться бригадному командиру?
– Пожалуйста, – с облегчением говорит поручик и кричит в сени: – Эй, кто там! Проводите господина вольноопределяющегося в управление бригады!
Я надеваю перчатки, папаху и выхожу следом за денщиком на улицу, где уже совсем темно и на небе звезды. Сугробы. Крепкий мороз. Елки. Все какое-то странное, незнакомое. Денщик показывает мне, куда идти: прямо, потом направо, потом чуть-чуть в сторону. Ни черта не понятно. Но денщик уже исчез в темноте. Иду наугад, вязну в сугробах. Вырастает силуэт солдата.
– Скажите, пожалуйста, как мне пройти в управление бригады?
– А черт его знает. Може, гдесь коло костела. Пошукайте. – И тут же исчезает во тьме морозной ночи.
Иду, вязну в снегу, снег набивается за голенища сапог. Наконец на фоне звездного неба, вырисовывается костел. Попадаю в какую-то канцелярию, где получаю от писарей, при свете керосиновой лампы играющих в дамки, точные сведения, как найти управление бригады. И вот – большая бревенчатая изба. У крыльца, как и всюду здесь, воткнутые в сугробы срубленные елочки маскировки. Стоит тройка. На облучке ямщик.
– Квартира командира бригады где?
– Должно, здесь. Я сам тута впервой.
Смело вбегаю на крыльцо, распахиваю дверь и попадаю в темные сени. Две двери. Одна направо. Другая прямо. Дверь, которая прямо, неплотно прикрыта, и ярко светится широкая щель.
Эх, чем черт не шутит!
Заламываю папаху и стучу в дверь, одновременно примечаю видную сквозь щель часть комнаты: большой стол, керосиновая лампа и стриженый затылок седовато-серебряной круглой головы генерала, в котором сразу узнаю Вашего папу.
– Войдите! – слышится его негромкий начальственно-властный голос.
Я разлетаюсь через всю комнату, останавливаюсь за четыре шага – строго по уставу, – неистово щелкаю каблуками своих юфтевых сапог… и все, что я приготовил отрапортовать, разлетается как дым. Генерал поднимает на меня свои зоркие, лиловатые, как у Вас, глаза, только сейчас в первый раз я замечаю, как Вы похожи на своего отца – и небольшим ростом, и осанкой, и выражением круглого лица, которое может быть, если захотите, таким добрым, и таким милым, и таким отчужденным.
В платок закутанные плечи, в глазах то нежность, а то лень, – и я в огне противоречий горю сегодня целый день.
Ваш папа улыбается:
– А, это вы! А я уж думал, что вы не приедете, раздумали воевать. Что ж это вы так опоздали?
Докладываю, что так, мол, и так, трудно было быстро достать в штабе военного округа пропуск в действующую армию, свидетельство о политической благонадежности, нотариальную копию с метрического свидетельства… Всюду бюрократическая волокита… и вообще…
Ваш папа подает мне небольшую пухлую руку и еще более приветливо улыбается, как бы показывая свое сочувствие по поводу бюрократической тыловой волокиты.
От его поистине отеческой улыбки у меня на душе теплеет.
Потом он своим ровным негромким голосом начинает как бы сам с собой обсуждать вопрос, куда бы меня направить. Сначала хочет послать меня в шестую батарею. Берет трубку полевого телефона и соединяется с командиром шестой батареи. Но, видимо, командир шестой не склонен брать к себе добровольца: он принципиально против этого. – Вот незадача, – говорит генерал, кладя трубку рядом с полевым эриксоновским телефонным аппаратом в кожаном футляре, и потирает серебряный ежик своей круглой головы маленькой пухлой ручкой. – Присядьте, пожалуйста. Хотите чаю?
Я присаживаюсь к столу, и генеральский денщик ставит передо мной стакан крепкого, красного чая в серебряном подстаканнике и ведерко с сахарным песком. На столе газеты и журналы – «Вестник Европы», «Современный мир», – что придает комнате еще более домашний и, так сказать, интеллигентный вид. Интеллигентность вообще свойство артиллерийского офицерства.
Только что берусь за подстаканник, как дверь распахивается и входит плотный, лысоватый, быстрый в движениях полковник в замшевой шведской куртке. Я вскакиваю и вытягиваюсь в струнку. Полковник целуется с вашим папой. Это, конечно, как Вы уже, наверное, догадались, отец Ваших двоюродных сестер. На правах близких родственников он с Вашим отцом на «ты». Обстановка делается еще более семейной. Ваш папа представляет меня полковнику, который ласково жмет мне руку своей большой, мягкой, теплой ладонью.
– Знаю, знаю! Как же! – приветливо говорит он. – Помню, кажется, вы бывали уменя в доме?
– Точно так, только вы, ваше высокоблагородие, меня видеть не могли. Вы уже тогда были на позициях.
– Ах так? Ну все равно. Значит, это писали про вас мои дочки.
Он хлопает меня дружески по плечу, совсем по-домашнему.
– А вы, молодой человек, молодец! Вояка!
– Да, да, – подхватывает Ваш папа. – Обрати внимание – настоящий кавалер! Уже и выправка намечается! И свои тыловые патлы убрал. Остригся под машинку. Голова как орешек. Просто прелесть. А когда был гимназистом, казался таким дохленьким. А теперь, а? Обратите внимание, доктор, это по вашей части.
В комнате, оказывается, присутствуют еще и военный врач со значком на кителе, а также бригадный адъютант с аксельбантами и начальник штаба.
Я оказался среди самого высшего бригадного общества.
Жарко натоплено. Уютно, совсем по-домашнему. Даже в углу граммофон.
Меня быстро назначают во второй взвод первой батареи и следом заденщиком не без сожаления покидаю этот рай и ухожу на квартиру фельдфебеля, обнадеженный добрыми пожеланиями служить хорошо. И вот я уже целую неделю как служу. Живу уже не у фельдфебеля, а вместе с солдатами во взводе…»
Однако на этом мое первое, непомерно длинное письмо но кончается. Но досадно, что я ничего не написал Миньоне о своей недолгой жизни у фельдфебеля.
…втащив в избу свой громоздкий клетчатый чемодан, я очутился перед крупным, осанистым, уже несколько располневшим человеком с лицом багровым, словно каленый медный пятак, и внимательными глазами, какие бывают у знающих себе цену, умных и властолюбивых хохлов. Это был фельдфебель первой батареи, по званию подпрапорщик, то есть нечто среднее между нижним чином и офицером, все же нижний чин. Он имел право носить на фуражке офицерскую кокарду, а на солдатской шашке офицерский темляк, но погоны у него были не офицерские, а солдатские, только с широким золотым басоном вдоль погона и широкой трехслойной лычкой старшего фейерверкера поперек. Любой самый захудалый прапорщик мог обращаться к нему как к нижнему чину, кажется, даже на «ты», в то время как он должен был тянуться и называть прапорщика «ваше благородие», но у себя в батарее, куда офицеры заглядывали не столь часто, он был царь и бог. В сущности, он зависел только от командира батареи.
Все это я узнал от генеральского денщика, проводившего меня на квартиру к фельдфебелю, и не точно представлял, как мне держаться с фельдфебелем.
Со своей стороны фельдфебель первой батареи, куда меня зачислили приказом, подпрапорщик Ткаченко уже был полностью осведомлен каким-то непонятным, но весьма обычным в армии способом обо мне и знал даже такие подробности, что я являюсь кавалером средней генеральской дочки, хотя еще и не жених. Я еще тогда не знал, что существует так называемый солдатский телеграф, молниеносно передающий все новости.
Ткаченко стоял передо мною, расставив ноги в хороших, но все же солдатских, а не офицерских сапогах и засунув руки за офицерский желтый кожаный пояс, туго облегавший его солидный живот, рассматривал меня, как бы соображая, чего я стою.
Я вытянулся по стойке «смирно», приложил руку к папахе и отрапортовал, не без тайного умысла назвав его не господином подпрапорщиком, как полагалось, а вашим благородием, чем с детской хитростью желал ему польстить:
– Ваше благородие, честь имею явиться, доброволец Пчелкин.
Под усами Ткаченко проползла еле заметная улыбка удовольствия, но тотчас же брови его нахмурились.
– Очень приятно, господин вольноопределяющийся. Раздевайтесь. Усаживайтесь. Седайте на лавку, так как стульев у меня здесь нема. Я имею приказ зачислить вас во второй взвод. Но пока вы еще не привыкли к солдатской жизни, просто поживите некоторое время у меня в хате. Тем более у меня тут приехала на побывку на праздники моя жинка, которая сможет нам кое-что сготовить домашнее.
– Покорно благодарю, ваше благородие.
Легкая улыбка снова промелькнула под усами фельдфебеля, после чего он снова начальственно нахмурился.
– Только возьмите себе на заметку, господин вольноопределяющийся, что согласно уставу меня отнюдь не положено именовать «вашим благородием», поскольку я не являюсь офицером, а положено меня именовать господином фельдфебелем или господином подпрапорщиком, как вам больше понравится.
– Слушаюсь, ваше благородие, – снова как бы нечаянно оговорился я, заметив, что «ваше благородие» доставляет Ткаченко тайное удовольствие.
– Отнюдь не ваше благородие! – как бы строго сказал Ткаченко.
– Слушаюсь, господин подпрапорщик! – сказал я, хотя впоследствии частенько как бы невзначай именовал его «вашим благородием», желая подольститься.
Сейчас мне смешно и неловко об этом вспоминать. Но что было, то было.
Несколько дней, проведенных у фельдфебеля, мне очень понравились. Действующая армия пока что оказалась не такой страшной.
По случаю крещения в бригаду прислали из какого-то провиантскогоуправления, а может быть, в подарок солдатикам от Союза городов мороженых судаков, которые, конечно, тут же оказались также и в фельдфебельской избе, – несколько штук замерзших рыбин, твердых, как палки.
Из этих судаков супруга подпрапорщика изготовила дивное заливное, а также сварила из сушеных морщинистых груш, черных, как ведьмы, из сушеных вишен и яблок отличный узвар, а также изготовила настоящую украинскую рождественскую кутью из отборной полтавской пшеницы с грецкими орехами, которые привезла с собой из родной деревни.
Она была молчаливая, робкая женщина, повязанная платком, но не по-русски, а по-украински, как гоголевская Солоха. Она приехала к мужу на побывку, воспользовавшись тем, что бригада стояла в резерве, и, откровенно говоря, мое присутствие в избе их супружескому уединению за ситцевой занавеской, где было устроено их походное двуспальное ложе, несколько мешало.
Супруга господина подпрапорщика все время сидела в углу на корточках, с обожанием и страхом следя за малейшими движениями своего мужа, которого не только крепко любила, но и уважала как могущественного начальника и боялась его до дрожи в коленях. Он же относился к ней с ласковой строгостью справедливого повелителя. Она угадывала каждое его желание, и когда в хате появились упомянутые уже судачки, упавшие возле печки на пол, как дрова, она сразу засуетилась, загремела ухватом, кастрюлями, сбегала за водой, развела в печке огонь и очень быстро состряпала крещенский ужин, предварительно остудив заливное в сугробе возле крыльца.
Получился прекрасный крещенский ужин. Настоящее пиршество при трескучем блеске крещенских звезд, видных в черном окошечке.
Фельдфебель пригласил к столу, покрытому чистой хусткой, меня, господина вольноопределяющегося, а супруге своей молвил:
– А вы тоже седайте с нами.
И она сконфуженно села па край коника и зарделась от счастья, как уже порядочно увядшая, но все еще милая троянда, что значит по-украински роза.
Никогда еще я так вкусно, с таким аппетитом не ужинал, и мне казалось, что эта прекрасная жизнь продлится вечно.
Впрочем, Ткаченко вскоре спровадил меня в соседнюю комнату, там на полатях помещались белорусская беженка с пятнадцатилетней дочкой Надей. Мне была предоставлена лавка в красном углу, где я и расстелил мехом вверх свою кожаную куртку, показав таким образом хорошенькой, хотя и слишком белобрысой беженке Наде свои погоны вольноопределяющегося с пушечками.
Наступили суровые будни, и не помогли заискивание и хитрости.
Фельдфебель сделал мне замечание насчет моей одежды: белая папаха не положена, кожаная куртка на меху не положена, пояс офицерского образца тоже не положен. И вообще все не положено, даже сапоги с ремешками. Надо, чтобы все было по форме, а не как у чучела, все как у настоящего артиллериста. Затем он дал мне несколько толстеньких книжек в клетчатых переплетах, разные уставы: полевой, гарнизонный и тому подобное. Я должен был выучить их если не наизусть, то, во всяком случае, как сказал фельдфебель, назубок. Затем он сводил меня в артиллерийский парк на задах Лебедева и показал орудие: трехдюймовую полевую скорострельную пушку с масляным компрессором, поршневым затвором, оптическим прицельным приспособлением и зеркальным отражателем, так называемой панорамой.
Ну и так далее.
Все-таки я никак не ожидал, что мой воинский лихой вид будет воспринят фельдфебелем как чучело. Печально.
Первое мое письмо с фронта заканчивалось следующим образом:
«Теперь я уже живу не у фельдфебеля, а во взводе, с солдатами, в избе. Все хорошо, но слишком тоскливо без интеллигентного общества. Если можете, напишите какому-нибудь знатному офицеру, чтобы он взял меня к себе ординарцем. Нет, шучу. Во-первых, у офицеров нет ординарцев, а только денщики. А быть денщиком по своим вкусам и положению «не положено», как говорится у нас в армии. У нас крепкие северные крещенские морозы, но солдатскую службу я переношу довольно легко. Ни одного замечания пока не имею… Бывало, скачу на лошади – без седла и шпор – крупной рысью… Эх, да что говорить! Милая Миньона, пожалуйста, не забывайте, пишите. Ей-богу, без Наших писем как без воздуха. Поскорее бы из резерва на передовые!
Солдатский телеграф сообщает, что выступаем 16 января, как раз в день моего рождения. Дай бог! Любящий Вас Саша Пчелкин, канонир третьего орудия второго взвода первой батареи 64-й артиллерийской бригады. Вот!»
Никакой лихой скачки на неоседланной лошади, да еще и без шпор, конечно, не было. Если что-нибудь подобное и было, то это небольшая верховая поездка на смирной лошадке, когда батарейных лошадей водили на водопой и мне разрешили проехаться немножко верхом. Естественно, что никаких шпор не имелось, так как по моему званию канонира они не полагались. Все это был всего лишь поэтический вымысел, невинное мальчишеское хвастовство, позерство, так же как и жалобы на отсутствие интеллигентного общества, что в устах исключенного гимназиста звучало юмористически.
Между первым и вторым письмом я обнаружил хрупкие листочки почтовой бумаги с заметками, написанными анилиновым карандашом все тем же моим еще не вполне устоявшимся почерком более чем полувековой давности. Я совсем забыл об этих заметках и не имею понятия, каким образом они сюда попали.
«…я спал крепким детским сном на нарах, покрытых соломой, в небольшой белорусской халупе, где помещалось шестьдесят человек. Вы только представьте себе: шестьдесят! Мое место находилось между двумя солдатами, из которых один – из моего взвода, а другой ездовой, мне мало знакомый, который спал, не раздеваясь, в своей стеганой заношенной телогрейке. Он был очень высок ростом, костляв и все время старался поджать под себя слишком длинные ноги, отчего его зад упирался в меня, иногда выпуская сквозь стеганые штаны газ, что у солдат называлось «пускать шептуна». Меня это раздражало, но я был среди солдат еще недостаточно своим, чтобы выразить по этому поводу неудовольствие. Я только отворачивался и зажимал нос.
В халупе было трудно дышать.
В темном воздухе, пропитанном запахами махорки, мокрой кожи, пота, заношенной одежды и гари топившейся печки, язычок керосиновой коптилки горел как бы с большим усилием, готовый каждую минуту померкнуть».
И все-таки я крепко спал и видел мучительные сны, недоступные описанию, так как они представляли смешение реального и абстрактного, а скорее всего были как бы овеществленной истиной, какой-то высшей правдой бытия, доступной человеческому пониманию только во сне, начисто забывшемся после пробуждения.
Во сне, как мне теперь представляется, я испытывал мучительную двойственность своего существования, которое было во сне совсем не таким, как наяву.
Во сне я был совсем не тем чучелом, ряженным в выдуманную мною же военную форму, молодцом-патриотом в кожаной куртке и лихо заломленной белой папахе, якобы влюбленным в хорошенькую дочку командира бригады, что ставило меня в некоторое привилегированное положение среди других нижних чинов батареи.
Во сне я был одинок и несчастлив.
Обстоятельства, которым я не захотел противиться, безудержно несли меня в темное будущее. Я стал игрушкой обстоятельств. Я не пожалел стареющего отца, даже не подумал, что, уезжая на войну, нанес ему смертельную рану. Мне и в голову не приходило, что прошлое уже никогда не вернется. И я сам предал это прекрасное прошлое. Я напрягал все свои душевные силы, внушая себе, что люблю Миньону. Может быть, я действительно был в нее влюблен, как во многих других. Но это была всего лишь влюбленность, легкое волнение в крови полуюноши-полумальчика.
Я любил другую, ту самую Ганзю, о которой вдруг с такой безнадежностью стал вспоминать в последние дни.
Я никогда не видел ее во сне. Но она всегда как бы незримо, невещественно присутствовала в моих сновидениях…
«…сон мой был резко прерван орудийным фейерверкером, внесшим в халупу облако сплошного морозного пара.
– Сегодня беспременно полетит! – громко крикнул он. – Подъем!
…стоя по колено в сугробе, я умывался жестким снегом…
Сновидение забылось, я уже был прежним добровольцем, еще не принявшим воинскую присягу и одетым не но форме.
Около восьми часов утра, а на дворе еще ночь, даже кое-где в небе видны звезды. Трескучий мороз обжигает. Полоса темно-апельсинной поздней январской зари занимается над лиловыми снегами, и сказочный, колдовской ущербный месяц низко висит над таинственным мелколесьем.
Верст за двадцать слышна орудийная пальба, будто кто-то громадный, невидимый стоит на краю света и хлопает дверью. А еще лучше не хлопает дверью, а выбивает ковры. Там передовые позиции. А мы все еще в резерве.
…Артиллерийский парк. Орудия в надульниках и брезентовых чехлах на затворах. Ездовые запрягают в передки по-зимнему мохнатых лошадей, выкатывают спаренные зарядные ящики. Застоявшиеся лошади ржут, танцуют и бьют подковами в промерзший снег. Часовой в валенках, с обнаженным бебутом у плеча выглядывает из своего постового тулупа и осипшим, еще как бы ночным голосом говорит:
– Нынче непременно должон полететь.
Два орудия моего второго взвода запряжены. Ездовые на местах. Выводят золотисто-карего коня для офицера.
– Смир-рно! Равнение на-а-алево!
Появляется офицер. Он в щегольском романовском полушубке и серой смушковой папахе. Он оглаживает, треплет лошадь по шее рукой в замшевой перчатке, берется за холку, чуть притрагивается к стремени носком до блеска начищенного хромового сапога, и через миг его статная фигура уже чуть покачивается в скрипучем новеньком седле.
– Ша-агом аррш!
Ездовые верхом на своих лошадях и наш взвод – два орудия, – гремя, и визжа, и как бы размалывая снег колесами, медленно двигаются мимо обледеневшего сруба колодца, мимо разбитой халупы со скелетом обгорелых стропил, печальным и уже отчетливо рисующимся на фоне утреннего, заметно позеленевшего неба. Поворачиваем на проселок.
– Ры-ысью!
Я взбираюсь и сажусь на передок, который шатается, подскакивает, и мотаюсь на нем, как мешок овса.
Ясное утро разгорается, и вот я вижу на пригорке красивую помещичью усадьбу-фольварк, окруженную по-зимнему голой зеленовато-серой ольховой рощицей, где размещен обоз второго взвода нашей бригады.
В словаре войны наиболее часто звучали два слова: «халупа» и «фольварк». Ни одного военного рассказа, ни одной газетной корреспонденции из действующей армии не обходилось без этих доселе незнакомых слов, как бы заключавших в себе самую суть идущей войны.
Как часто, еще будучи в тылу, человеком штатским, свободным, я втайне мечтал в своем будущем письме с пометкой «Действующая армия» как бы вскользь, в придаточном предложении написать эти два волшебных слова. Халупу я уже несколько раз упоминал. А вот фольварк предстал передо мной впервые. И я почувствовал себя уже вполне причастным к тому зловещему, смертельно опасному, но в то же время и притягательному действию, которое называлось войной…
…Склоны снежных бугров, поросших молодым ельничком… В стороне курган… Четко рисуется несколько темно-зеленых, почти черных старых сосен с красными стволами, а под ними потемневшие от времени деревянные кресты над чьими-то могилами.
Взвод останавливается. Значит, мы приехали на позицию. Но где же эта самая позиция? Ничего не вижу, кроме снежных пологих бугров. Всматриваюсь. В снегу две большие ямы. Посередине их бревенчатые срубы, особые станки для установки наших полевых пушек стволами вверх, к небу. Срубы легко вращаются вокруг своей оси, что позволяет бить по вражескому аэроплану влет.
Взявшись за колеса, кряхтя и крякая, орудийная прислуга дружно втаскивает свои трехдюймовочки, снятые с передков, на срубы, так что хоботы лафетов оказываются внизу, а стволы задраны вверх, нацелены в синеву.
Зарядные ящики установлены поодаль, лошадей вместе с передками отправляют обратно в Лебедев.
Возле орудийных станков виднеются землянки, занесенные снегом, что делало бы их слившимися с сугробами, если б не короткие кирпичные печные трубы.
…Морозно.
Ноги у всех замерзли, одеревенели. Орудийная прислуга топчется на месте, бьет сапогом о сапог.
Раскапывают из-под сугробов шанцевым инструментом, то есть по-штатски лопатами, входы в землянки. Телефонисты разматывают со своих больших катушек и прокладывают прямо по снегу черный телефонный кабель, устанавливают в дверях землянок контакты. Пробуют разговаривать с Лебедёвом. Слышно утиное покрякиванье телефонных аппаратов.
Солнце уже поднялось высоко, и снег слепит глаза.
Начинается ожидание. Кто может предсказать – полетит ли сегодня немец или не полетит? Дивизионная разведка уверена, что полетит. Но кто его знает. Надо ждать.
Пока люди ходят в лес по дрова и разводят в землянках огонь, я брожу по окрестным снегам, и фиалковая тень моей щуплой фигуры и большой папахи скользит возле меня то справа, то слева. Все-таки я еще не слился с солдатами своего взвода. Я им еще чужой человек. Инородное тело. Я еще не принял присягу, не обмундировался по форме, не участвовал в боях, как говорится, еще не понюхал пороху. Я еще свободен. Я еще могу все это бросить и уехать домой.
Но нет! Это было бы бесчестно!
Хотя, впрочем… Ах, боже мой, как трудно во всем этом разобраться!…
В сердце тихая, тонкая грусть. Мысли о родных, близких и любимых, которые остались где-то там, далеко, за этими бесконечными снегами, сосновыми лесами, замерзшими речками».
Над землянкой уже вьется дымок. Скольжу вниз по утоптанному снегу ступенек, задеваю папахой за бревно притолоки и, низко нагнувшись, пробираюсь к раскаленным поленьям печки, светящимся в непроницаемом мраке. Острый скипидарный запах еловых ветвей, устилающих земляной пол, напоминает мне рождество и смерзшуюся елку, которую дворник вносит в теплую гостиную, а угарный дымок от камелька говорит о войне, о действующей армии, о позициях.
В тесной землянке полно людей. Утомительный гул голосов. После яркого зимнего солнца глаза с трудом привыкают ко мраку. В каменноугольной подземной тьме постепенно высвечиваются солдатские лица, серые мерлушковые папахи, обледеневшие усы, ноги в дымящихся сапогах, протянутые к огню.
Я втираюсь между двух орудийцев, ложусь на упругие еловые ветки и тоже протягиваю свои юфтевые сапоги к огню. Постепенно они оттаивают и начинают дымиться. Отогреваюсь. Блаженное тепло распространяется по всему моему телу. Клонит в сон.
Огоньки цигарок. Запах жженой газетной бумаги и махорки. Вероятно, это дежурство на противоаэропланной позиции похоже на жизнь на боевой линии. Но все же это совсем не боевая линия, а всего лишь пребывание в тылу, хотя и недалеко от передовых позиций.
Оказывается, фронт – понятие растяжимое. Пока доберешься до самой-самой передовой линии, дальше которой уже ничья земля, а за нею враг, – пуд соли съешь! Словом, не так-то все просто на войне.
В землянку заглядывает закутанный в обледенелый башлык дневальный.
– Летит! – кричит он.
Батарейцы суетятся, толкая друг друга, выползают из землянки наружу.
После подземной тьмы яркий снег слепит; в глазах плавают как бы странные отпечатки пылающей печи, но только не огненные, а, наоборот, обморочно-синие. Все окружающее на миг представляется негативом: черное белым, белое черным.
Номера занимают свои места у задранных к небу орудий. Слышится утиное кряканье полевых телефонов. С фольварка бежит офицер, поспешно застегивая полушубок и вытаскивая из футляра цейсовский бинокль, в стеклах которого вспыхивает отражение солнца. В небе уже можно различить приближающийся немецкий аэроплан.
– Взвод, к бою! – кричит офицер, не отрывая от глаз бинокля. – Уровень тридцать один пятьдесят, трубка сто двадцать пять. По немецкому аэроплану огонь!
Наводчики, прильнув к оптическим приборам, движением рук, откинутых назад, как бы молчаливо приказывают поворачивать орудия, и они движутся по кругу вслед за аэропланом, который, появившись из-за дальнего леса, с методическим журчанием мотора медленно приближается, превращаясь из еле заметной точки в механическую птичку с неподвижными крыльями, загнутыми на концах назад.
Это немецкий разведчик «таубэ», что значит по-русски голубь.
– Взвод, огонь! – командует офицер, продолжая следить за немецким «голубком».
Орудийные фейерверкеры с записными книжками в руках кричат:
– Первое! Второе!
Два удара короткого, как бы железного грома.
Наводчики сноровисто отскакивают в сторону. Стволы пушек откатываются назад, вниз и затем медленно возвращаются на прежнее место, повинуясь упругой силе масляного компрессора, которому помогают орудийные номера, упираясь руками в затвор.
Возникает два облика сияющей на солнце снежной пыли – следствие орудийных выстрелов.
Маленький летательный аппарат тяжелее воздуха, именуемый «таубэ», неторопливо движется по прямой линии над лесом. Уже известно, что выпущенная шрапнель разорвется ровно через одиннадцать секунд после орудийных выстрелов. За это время стреляные гильзы с легким звоном падают в сугроб и там дымятся. А орудийная прислуга успевает приготовить пушку к новому выстрелу.
Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать секунд – и в зеленоватом чистом небе недалеко от «таубэ» вспыхивают два огонька, как бы родившись сами по себе из ничего, и возникают аккуратные облачка. Долетает сухой треск двух взрывов. Аэроплан продолжает полет.
Промазали.
Два облачка темнеют, разрастаются, расплываются, рассеиваются.
– Очередь!
Опять два орудийных выстрела один за другим. Теперь два шрапнельных разрыва как бы из ничего появляются в небе по сторонам немецкого аэроплана.
– Очередь!
Считаю в уме восемнадцать секунд – и два новых шрапнельных разрыва возникают немного ниже аэроплана.
Аэроплан удаляется.
Теперь до него уже верст пять – почти предел дальности наших трехдюймовок.
– Прицел сто тридцать пять, трубка сто тридцать! Огонь! Первое! Второе!
Один разрыв далеко, другой очень близко от «таубэ». В бинокль видно, как аппарат снижается, колеблется, делает дугу и планирующим спуском («воль планэ») уходит за зубчатую кромку леса.
Подбили или не подбили? – вот в чем вопрос. Неизвестно. Можем узнать это лишь завтра из штаба корпуса. А о
– Отбой!
Укладываем стреляные гильзы в лотки, а лотки в зарядный ящик. На затворы надеваются брезентовые чехлы. До заката недалеко. Больше немец не полетит. Можно и отдохнуть.
Только теперь вдруг начинаю понимать, что кроме 34
стрельбы из орудий по неприятельскому разведчику, я присутствовал еще при одном событии, на которое как-то не обратил внимания: матч между двумя прославленными наводчиками, так сказать, чемпионами артиллерийской стрельбы – бомбардиром-наводчиком Ваней Ковалевым и бомбардиром-наводчиком Прокошей Колыхаевым. Представился редкий случай стрелять, как обычно, не по закрытой цели, а по открытой, на виду у всех по мишени, движущейся по небу.
Кроме чисто спортивного интереса – кто кого перестреляет, – имеется еще материальный интерес, так как за каждый сбитый неприятельский аэроплан наводчик получал Георгиевский крест, а также, по сведениям солдатского телеграфа, девяносто рублей. Почему не сто, а именно девяносто – неизвестно.
Можно себе представить, как волновалась орудийная прислуга и с каким азартом работали оба наводчика, с виртуозной быстротой и точностью орудия поворотными и подъемными механизмами, не отрывая глаз от оптического прибора, ловящего и опережающего летящий аэроплан.
Теперь же, сидя в землянке перед печкой в окружении орудийных номеров, Ковалев и Колыхаев делили шкуру неубитого медведя: кому из них достанется знак военного ордена четвертой степени и девяносто рубликов. В крайнем случае они соглашались поделить девяносто рублей, а насчет Георгиевского креста – как решит начальство. Но никто из них не сомневался, что самолет сбит и упал за лесом, не успев перелететь за линию фронта.
В один голос все батарейцы подтверждали, что видели, как немецкий аэроплан задымился.
– Это я его зацепил, – говорил Ваня Ковалев, нежно смотря на Прокошу Колыхаева своими красивыми женскими карими глазами и покручивая черные усики, на что Прокоша Колыхаев отвечал с наигранной ленцой:
– Нет, Ваня. Тебе надо было взять на два деления и право, тогда ты бы его достал. А достала его именно моя шрапнель, поскольку я его упредил ровно на столько, как положено, как в аптеке. Так что будем считать, что Георгий мой, а девяносто карбованцев будем делить между теми орудийными номерами, которые нам помогали поворачивать пушки.
– Дурень думкой богатеет, – заметил взводный фей-ерверкер Чигринский, русоусый красавец в папахе набекрень, и оказался, как всегда, прав, так как на другой день штаб корпуса не подтвердил, что «таубэ» был сбит.
Но, во всяком случае, разговоров было много.
В половине пятого снимаемся, телефонисты сматывают провода. Из Лебедева приезжают передки. Вечереет быстро. Снег синеет. А на зеленоватом холодном небе появляется первая звездочка, как росинка.
Северная ночь будет светлая от звезд, искристая. А на горизонте станут видны зарницы орудийного огня…
«Действующая армия. 20-1-16 г. Крещенье. Снежно. Ветрено. Довольно холодно. Так как я в бригаде всего шесть дней, то на крещенский парад, в строй, меня не берут. Иду один в церковь, у ограды которой шпалеры серой, однообразной пехоты. В церкви полно солдат. Впереди оранжевые тулупы и черные, в желтых цветочках платки беженок. Есть грудные дети. Их тонкий плач напоминает мне, что, «причастный тайнам, плакал ребенок о том, что никто не придет назад», не хватало только солнечного луча из-под купола и белого платья в церковном хоре. Обедня тянется долго. Из церкви наружу выходит крестный ход. Его окружает пестрая толпа. Я вмешиваюсь в нее. Впереди толпы большая группа офицеров, частью уже мне знакомых. Несколько сестер милосердия в черных, развевающихся на ветру косынках. Хор поет. Проплывают елочки, воткнутые в сугробы, обледенелые колодцы.
Пехотные шеренги с винтовками, взятыми на караул.
Выходим на берег замерзшей реки, занесенной снегом, как ровное поле. Посередине реки так называемая Иордань – ледяной крест, возле него во льду прорубь, прорубленная тоже в виде креста. Вокруг елочки и хвойные гирлянды, огораживающие особое место для духовенства и начальства.
Пользуясь преимуществом вольноопределяющегося (представьте себе, таковое имеется!), я протискиваюсь в группу офицеров. Духовенство занимает свое место. Хор поет. Попахивает ладаном. Начинается водосвятие.
Впереди всех – начальник дивизии, полный, но с худым лицом, седовласый генерал. Рядом с ним адъютанты и несколько дам – вероятно, жена и родственницы, приехавшие на праздники, благо пока что стоим в резерве.
Откуда-то появляется Ваш отец, он держится несколько в стороне от своего пехотного начальства. Тут же чопорные штабные офицеры из управления бригады с безукоризненными проборами зеркально набриолиненных волос (все, конечно, без шапок). Ваш отец в своей обычной будничной поддевке с большим карманом на груди, тоже, как и все, без шапки, и его небольшая круглая голова отлипает серебром.
Меня теснят со всех сторон, и вскоре я оказываюсь почти рядом с ним. Еще раз меня поражает его удивительное фамильное сходство с Вами, Миньона, или, вернее, наоборот – Ваше сходство с ним. Сходство, о котором я, кажется и, уже Вам писал. Я не могу определить, в чем заключается это сходство.
Форма головы, манера смотреть, блеск сиреневых глаз, небольшой рост… Кажется, мелочи, а все же… Хотя нет! Главное не это. Тут скорее внутреннее сходство. Я больше чем уверен, что по характеру Вы точная копия отца, конечно применительно к полу и возрасту. Недаром же Вы любимая его дочь. Почему-то это сходство мне очень нравится. Почему – бог весть. Ну, извините за это лирическое отступление»…
Здесь я остановился, задумался и усмехнулся. Однако же и хитрец был я в то время, когда еще звался просто Сашкой. Сашкой Пчелкиным. Мне трудно было на старости лет признать в ном молодого, даже юного себя!
Я теперьс трудом разбирал свой полудетский почерк с некоторыми заковыристо написанными буквами на сильно постаревшей почтовой бумаге того времени фаберовским карандашом номер два.
Я читал их в своем кабинете при электричестве, надев очки, но почему-то мне казалось, что я сижу в рублевом номере дореволюционной гостиницы с умывальным тазом и треснувшим кувшином на комоде, а на столе, покрытом изъеденной молью ковровой скатертью, горит стеариновая свеча, с трудом освещая пасмурные стены, оклеенные ветхими обоями со следами клопов, в то время как снаружи угадывается веселый солнечный день, шумная жизнь крымского города, сквер с клумбами невероятно красных канн, говорящих о том, что на дворе середина пламенного августа, и на железной спинке кровати висит кобура с тяжелым револьвером, из которого так естественно было бы застрелиться, написав на обороте гостиничного счета несколько прощальных слов, освещенных сине-желтым пламенем свечи.
Не знаю, откуда пришла в мое воображение эта картина, не имеющая ничего общего с действительностью.
Может быть, это всего лишь овеществление вечной и безнадежной любви к Ганзе… Не знаю…
«Водосвятие кончается, – продолжаю я читать, с трудом разбирая свой почерк, стершиеся буквы, – священник плоско подает крест, и начальник дивизии первый целует его. За ним ко кресту подходит Ваш отец. Он проходит совсем близко, но меня не замечает, как я ни стараюсь попасться ему на глаза.
(Шучу, шучу!…)
Он подчеркнуто вежливо здоровается с дивизионными дамами и отходит в сторону.
Священник макает кропило в поданную ему серебряную чашу и наотмашь крестит водой толпу.
Ледяные капли падают мне на лицо и замерзают на бровях.
Потом военный парад. Под звуки духового оркестра идут солдаты четким строевым шагом мимо начальника дивизии. Сначала пехота, глухо гремя голенищами сапог. Потом артиллеристы нашей бригады: длинные шинели, малиновые револьверные шнуры. На фланге – Ваш отец. Вот его шагающая фигурка с шашкой наголо. Вот какое-то перестроение на ходу, и он уже шагает впереди строя. Строй, колеблясь, приближается к начальнику дивизии, принимающему парад. Равняется с ним. Ваш отец салютует ему шашкой и строевым шагом отходит и присоединяется к свите начальника дивизии.
– Здорово, артиллеристы!
– Здрав… жлай… ваш… дитство! – четко и молодо летит, подхваченное крещенским ветром.
Ноги деревенеют. Но вот парад кончен. Народ расходится. Впечатление от парада, как от кинематографической хроники «Патэжурнала». Все быстро, четко, точно, немножко торопливо.
Все время до самого выступления на передовые позиции я нахожусь при орудии. Учу уставы. Через несколько дней меня уже ставят на занятиях наводчиком. За два дня я сделал всего одну ошибку в установке угломера, и то всего на одно деление. И все-таки получил от фельдфебеля довольно строгий выговор.
Ну что еще? Вы требуете, чтобы я не пропускал ни одного события, писал как можно подробнее. Слушаюсь и повинуюсь. Вот, например, могу описать так называемый инспекторский смотр, который производил Ваш папа. На сей раз меня впервые поставили в строй.
Оттепель, мокрый снег, лужи.
Батарея строится на площади возле церкви. Издали показывается фигурка Вашего отца. Ему навстречу с обнаженной шашкой строевым шагом идет наш батарейный командир, салютует, рапортует.
Обходя фронт, генерал очень внимательно, не торопясь, иногда останавливаясь, всматривается в лица солдат, задает вопросы, расспрашивает младших офицеров и взводных фейерверкеров.
Это единственный случай, когда солдаты имеют право на законном основании высказать жалобы и претензии непосредственно самому высшему начальнику, самому командиру бригады.
Чаще всего солдаты никаких жалоб и претензий не высказывают. Ну а вдруг выскажут? Тут уж фельдфебель чувствует себя на раскаленной сковородке.
Но все проходит сравнительно гладко.
По традиции вольноопределяющиеся ставятся на правом фланге. Стою на правом фланге. Проходя мимо меня, Ваш папа обращается к батарейному командиру.
– Однако я вижу, что вы нашего охотника Пчелкина уже поставили в строй. А он вам картины не подмочит?
– Никак нет, ваше превосходительство, – отвечая улыбкой на генеральскую улыбку, отвечает наш милый старичок батарейный, как принято его называть, вечный капитан, которому уже давно пора в отставку, да война помешала, – он у нас, ваше превосходительство, молодец!
Это я-то молодец? Как Вам понравится?…
Потом Ваш папа делает несколько выговоров, или, по солдатскому выражению, берет в расход подпоручика Лесли, которого наши батарейцы называют на свой лад – поручик Лесен, берет в расход также и моего взводного фейерверкера – красавца и милягу Читинского… отдает несколько приказаний.
Ну и так далее.
На другой день мне делают в лопатку противотифозный и противохолерный уколы, от которых у меня поднимается температура, и я лежу в околотке.
Об этом медицинском учреждении могу сказать лишь то, что оно помещается в тесной халупе с нарами в два этажа, на которых вповалку лежат больные солдаты, занимающиеся главным образом тем, что водят по бревенчатым стенам зажженными спичками, таким простым способом уничтожая (пардон!) клопов, которых здесь больше чем достаточно. Я им дал живописное название «выжигатели клопов».
Оправившись, я возвращаюсь в батарею и принимаю присягу. Вместе со мной присягу принимают еще двое вольноопределяющихся и несколько молодых офицеров.
Присяга – важное событие. После присяги я уже делаюсь настоящим солдатом.
Очень солнечный морозный день. Под ногами хрустит и ломается звездами лед.
Церемония присяги происходит все на той же церковной площади перед выстроенной батареей. Я волнуюсь и не знаю, как быть и что делать. Всем распоряжается свояк Вашего папы полковник Ш. Он по обыкновению несколько суетливо двигается то туда, то сюда, ходит вперевалочку в своей шведской замшевой куртке.
Перед батареей поставлен вынесенный из церкви лиловый бархатный аналой. Священник в полном облачении держит в руке лист бумаги и по пунктам читает церковным голосом слова присяги, после чего мы подходим по очереди к аналою и целуем переплет Евангелия, пахнущий ладаном, а также холодный наперсный крест, протянутый к нашим губам.
Отходим в сторону, не знаем, что надо дальше делать. Полковник Ш. подходит к нам.
– Поздравляю вас, господа, с принятием присяги…
Он замолкает, и кажется, что он еще будет говорить, но он внезапно отходит, а мы расходимся.
Конец.
Теперь я уже не свободный и независимый молодой человек – охотник-волонтер, – имеющий право в любой момент уехать домой из действующей армии, а нижним чин, канонир, подчиненный суровой воинской дисциплине.
За церковной оградой растет береза с молочно-белой атласной корой. Воздушное кружево ветвей, сероватых от инея, замечательно красиво рисуется падающей сетью на чистом морозном небе…
…Выступление на позиции. Утро. Девять часов. Парк, где стоят орудия нашей батареи, похож на конскую ярмарку. Кубы прессованного сена. Лошади. Зарядные ящики. Орудия. Передки… Все это производит впечатление беспорядка, хотя полный порядок. Все делается строго по уставу.
Офицеры с молодыми, утренними лицами. Пожилой командир батареи в серой бекеше выезжает вперед на своой смирной лошадке.
– Шапки долой! – кричит он добрым слабым голосом. – Ну, ребята, перекрестимся на дорогу!
Серьезный морозный ветерок пробегает по обнаженным короткоостриженным солдатским головам и по проборам офицеров.
Командир батареи размашисто осеняет себя крестным знамением, и котором мне чудится что-то кутузовское.
Мелькают руки, шапки. Все крестятся, и вместе со теми я тоже.
– Накройсь! Шагом марш!
Колеса скрипят по сырому снегу. Звенит упряжь. Я иду рядом со своим орудием номер четыре. Несмотря на январь, слегка подтаивает. Под ногами мокровато. Похоже на раннюю весну. В сердце грусть и одиночество.
Делаем переход в двадцать пять верст с двумя пятиминутными и одной получасовой остановками. Дорога в пловом лесу. Среди свежей по-зимнему, густой хвои, в чаще которой всегда легкий синеватый туман, белеют по-девичьи стройные стволы нестеровских берез. Опять сильно подморозило. Во время получасовой остановки на льду замерзшей речки бегу отогреваться в первую попавшуюся халупу, уже битком набитую нашими батарейцами. Пылает огонь в печурке. Пахнет ельником. Откуда-то взялся большой медный луженый чайник, и в нем уже бушует кипяток. Обжигаясь, пьем чай из самодельных кружек, бывших некогда консервными банками. Кусаем сахар. Мои замерзшие сапоги оттаивают. По всему телу разлипается приятная теплота. Хорошо бы завалиться на душистые еловые ветки, устилающие пол, и всхрапнуть как следует.
Но, увы, полчаса истекли.
Надо торопиться попасть засветло на позицию, откуда все громче и громче слышатся редкие орудийные выстрелы.
Но вот мы уже на месте. Стемнело. Вокруг ничего не видно, кроме деревьев. Ночь. Электрические фонарики орудийных фейерверкеров бегло освещают землянки и орудийные ровики, где совсем недавно стояли трехдюймовки батареи, которую мы сменяем.
Вот тут-то поскорее бы установить наши орудия и залечь спать в обжитой и хорошо натопленной землянке.
Ан нет!
Оказывается, мой второй взвод назначен на самую что ни на есть передовую секретную позицию в двух шагах позади пехотных окопов.
Отрываемся от своей батареи и, соблюдая всяческую осторожность, под покровом ночной темноты выезжаем вперед еще версты на три, то есть совсем под носом у немцев, где для нас уже заранее приготовлена саперами и надежно замаскирована удобная позиция: места для орудий, землянки для прислуги и телефонистов.
В темном звездном небе с трех сторон то тут, то там взлетают немецкие осветительные ракеты, и тогда бескрайние снега вокруг нас, хвойные рощи, сугробы снега волшебно, но в то же время как-то очень зловеще озаряются голубоватым бенгальским огнем, плывущим по окрестностям и как бы заливающим вместе с собою всю панораму зимней ночи.
Сюда уже залетают шальные пули немецких часовых. Иногда эти пули проносятся небольшой стайкой, как птички, с противным щебетаньем и посвистыванием. Это значит, что дают залп немецкие сторожевые охранения.
Пока – все.
Завтра или послезавтра, если бог даст, напишу продолжение. Вы не находите, что у нас с Вами происходит нечто вроде романа в письмах, причем главным образом пишу я, а Вы отмалчиваетесь? Не сердитесь! Роман!… Дождешься от Вас романа! За редкие письма Ваши большое спасибо. Они такие теплые. Мне очень приятно, что мои излишне подробные и длинные писания доставляют Вам удовольствие. Буду писать еженедельно. Если можете – отвечайте. Это будет мне тоже очень приятно.
Кроме знакомых, как Вы пишете, «девочек», которых у меня не так уж и много, я получаю письма и от «мальчиков». Девочки пишут сентиментальные письма, а мальчики – мои товарищи – пишут письма умные, содержательные. Все же мое одиночество остается незаполненным.
Пишите, дорогая Миньона! Ужасно медленно идут письма. Ваше письмо от 14 января получил только вчера. Уже поздно. Пишу в землянке, глубоко под землей, при невозможных условиях. Привет Вашей маме, сестрам – родным и двоюродным. Шлю Вам свой братский привет и вместе с ним немножко вьюги, хвойных лесов, звездных ночей и любви. Вспоминаете ли Вы дачу Вальтуха? А. П.».
Следующее письмо на довольно больших листах папиросной бумаги, мелким почерком, выцветшими чернилами. Откуда эта бумага? Что за чернила? Где писано? этого я уже совершенно не помнил. Руку свою разбирал с трудом, как чужую. Малоинтересный манускрипт прошлых веков! Но все-таки в этих строчках была какая-то часть меня, полустертый остаток моей прошлой жизни.
«Действующая армия. 8-11-16 г. Милая Миньона! Как ото ни странно, – не без труда разбирал я выцветшие слова, – но после Вашего письма у меня появилась непреодолимая потребность делиться с Вами всеми мелочами моего поенного быта. Вы одна из всех тех, кто мне пишет, правильно поняли, что главное – это мелочи. Именно мелочи. Из них складывается жизнь, хотя бы даже и на передовой линии с ежеминутной возможностью смерти. Мелочи главное самого главного, потому что главпое состоит именно из них, из этих как бы незначительных мелочей.
Некоторые пишут мне, чтобы я сообщал о сильных переживаниях, о боевых эпизодах, о подвигах, о ранениях и т. д. Один мой товарищ дословно пишет: «Правда ли «там» – хорошо? Сильно? И хорошо именно оттого, что сильно?» А одна, как Вы выражаетесь, «девочка» молится за меня, пишет: «Да хранит Вас бог! Я молюсь за Вас и буду молиться»…Это, конечно, трогательно. Но когда я получаю подобные письма, мне становится как-то очень неловко, как будто бы я обманываю чьи-то ожидания, и я не знаю, что отвечать.
Моя жизнь сейчас наполнена бытовыми мелочами, которые подавляют все остальные, так называемые героические чувства. Например, во время артиллерийской дуэли: мысли о том, что каждую секунду могут ранить или убить, то есть уничтожить. Поймите: у-нич-то-жить. Совсем, навсегда, неотвратимо. Это уже не просто страх, а ужас! Чувствуешь все это, а в то же время, как это ни странно, какой-то внутренний мальчишеский голос кричит во мне: «А ну-ка еще! Еще! Шарь! Не боюсь!» А на самом деле не просто боюсь, а теряю сознание от ужаса перед тем, что может сию минуту произойти. И в то же самое время соображение, что если убьют, то смерть почетная, хорошая, большая. Но это редко и то проблесками.
А жизнь, ее обстоятельства наполняют мозг соображениями о том, что до конца месяца не хватит сахару, что нужно стирать белье, что долго из дому нет посылки, что письма запаздывают и т. п.
На днях я по неведению не стал во фронт командиру дивизиона Шереметьеву, которого не знал в лицо. Он сделал мне замечание и сказал:
– Доложите своему батарейному командиру, что вы не изволили стать во фронт командиру дивизиона.
Я доложил и потом целую неделю ждал с волнением, что меня поставят под ранец с полной выкладкой. И это волнение, ей-богу, было сильнее того волнения, которое я испытал, когда увидел, что на том самом месте, где десять минут назад я брал из приехавшей походной кухни борщ и кашу для своего орудия, разорвалась немецкая граната и осколками убило лошадь».
На этом месте я перестаю читать письмо. Устали глаза. Я задумываюсь. Что-то в этом моем письме мне теперь не нравится. Память, обогащенная прожитой жизнью, подсказывает мне, что тогда – в те легендарно далекие годы – все, что я с таким старанием описывал, на самом деле было не совсем так. Или, вернее, так, да не так. Память как бы сдувает туманную оболочку с событий и обнаруживает некоторую их искусственность, некоторые пустоты, которые вдруг заполняются тем, что я тогда вольно или невольно скрыл, несмотря на явное, настойчивое желание быть до конца правдивым.
Например, случай с дивизионным полковником Шереметьевым: во время затишья я слонялся по местности недалеко от батареи и столкнулся с полковником Шереметьевым, еще не зная его в лицо. По снежной тропинке шел красивый полковник в шинели, отлично скроенной и сшитой из лучшего солдатского сукна, так называемого гвардейского, без пуговиц, а на крючках, туго подпоясанный широким офицерским ремнем. Из специально прорезанного кармана шинели торчал золотой эфес почетной шашки – золотого ружия – с георгиевской лентой темляка и крошечным белым эмалевым Георгиевским крестиком на нижней части эфеса, а вся шашка скрывалась под шинелью – особый чисто фронтовой шик, дававший понять всякому, что полковник не какой-нибудь штабной тыловик, а настоящий боевой офицер, «слуга царю, отец солдатам».
Проходя мимо, я залюбовался красивым лицом полковника с мужественно постриженными усами и черным бархатным околышем парадной артиллерийской фуражки, говорящей о том, что полковник не прячется от неприятельских наблюдателей, прикрывшись фуражкой защитного циста или же серой смушковой папахой, а презирает опасность и вообще привык не обращать внимания на свист пуль и осколки бризантных снарядов.
Я почувствовал патриотический восторг и, вытянувшись изо всех сил, прошел мимо полковника строевым шагом, напряженно приложив руку в меховой перчатке к своей но по уставу белой папахе. Полковник мгновенно заметил и этумою глупую папаху, и не по уставу кожаную куртку, и всю щуплую, глубоко штатскую фигуру, шагающую в юфтевых сапогах с ремешками по скрипучему снегу, и погоны с накладными пушечками. Он, конечно, тут же понял, что это новый вольноопределяющийся, протеже командира бригады, с которым был в контрах.
– Вольноопределяющийся! – окликнул он меня не-громко. – Подойдите! Вы что же это? Не знаете устава? Мы обязаны знать в лицо своего дивизионного командира и становиться ему при встрече во фронт. И что это у вас за разболтанный вид и почему вы обмундированы не по форме? Извольте доложить об этом своему батарейному командиру и кр-ру-гом ар-рш! Ступайте.
Я почувствовал холод в желудке, расслабление кишечника, чуть было, как говорят солдаты, не наложил в шаровары и даже немного помочился.
Возвратившись к себе во взвод, я не знал, что предпринять. Старик батарейный командир болел и совсем не показывался, даже, кажется, его уже отправили на тыловуюслужбу. Нового командира батареи еще не было. Его должность исполнял полубатарейный поручик Тесленко, во он тоже у нас во втором взводе, стоявшем отдельно, бывал редко.
Кому же докладывать?
Фельдфебеля я боялся как огня.
Я залез в свою тесную орудийную землянку и посоветовался с бомбардиром-наводчиком Ваней Ковалевым, тем самым нежным красавцем с карими девичьими глазами и черными усиками. Ковалев посоветовал мне вовсе никому не докладывать – «бо, ей-богу же, той полковник Шереметьевский уже забыл это дело, так что лучше всего вы сидите тихо и не рыпайтесь».
Я внял мудрому совету и не рыпался, но все время испытывал страх, что мое преступление всплывет наружу, отягощенное тем, что я не исполнил приказа дивизионного командира, и тогда мпе не миновать ранца с полной выкладкой.
Я уже однажды видел, как провинившийся батареец стоял под ранцем, то есть в полной пехотной выкладке, с обнаженным бебутом у плеча, с ранцем на спине, в который было наложено фунтов десять груза. Он стоял по стойке «смирно», не шевелясь, на морозе, с красным лицом, как истукан. Это был канонир из какой-то соседней батареи, мимо которого я проходил по тропинке в канцелярию за письмами.
Страх мучил меня днем и ночью до тех пор, пока солдатский телеграф пе сообщил, что полковник Шереметьев уехал в отпуск. Только тогда яуспокоился.
…Что касается упоминания дачи Вальтуха, то здесь заключается тончайший намек. На первую встречу с Миньоной, на наш якобы роман, которого, впрочем, совсем не было, а он только еще смутно намечался и то не с ее, а с моей стороны, а с ее стороны – неизвестно.
Но она была любимой дочкой генерала, а тогда, перед войной, еще полковника, приехавшего со всей семьей из Тирасполя, где была расположена его артиллерийская часть.
Их квартира выходила окнами и балконом на старый, запущенный, так называемый Ботанический сад, или попросту Ботаника, с дубовой рощей. Этот балкон, куда однажды мы с Миньоной вышли вечером и стояли, облокотившись на железные перила, как бы висел в воздухе посреди этой черной дубовой рощи с умирающими листьями, запахом которых мы дышали.
Только что взошедшая из-за дачи Вальтуха большая осенняя луна как бы висела на дубовом сучке и уже напустила на нас ночной холод. Я осторожно подвинул к ее локтю свою руку, а она сделала вид, что совсем этого не заметила и что все это с моей стороны напрасные поползновения и так далее. Я делал вид, что влюблен в Миньону. А на самом деле в это время не переставал безнадежно и горько любить совсем другую…
«Наш взвод, то есть два орудия – третье и четвертое, – как я уже, кажется, Вам писал, стоит в одной версте от немцев. Я нахожусь в числе прислуги при четвертом орудии. Живем мы в двух землянках, глубоких, как погреб, куда надо опускаться по земляным ступенькам, обшитым тесом. Окон нет, и слабый свет проникает через небольшое стекло, вделанное сверху в дощатую дверь. Словом, вечная 'подземная поэма, запах сырости и сосновых бревен, положенных в три наката вместо потолка. Спим мы на земляных нарах, покрытых еловыми ветками и соломой. Свечей не выдают, и мы жжем керосин в жестяной лампочке без стекла. Лампочка – коптилка! Лица наши постоянно в саже, и болят глаза. Теснота ужасная!
Кусают блохи. Иногда ясам себе кажусь кротом, зимующим в маленькой своей норе глубоко под землей. Солдаты-батарейцы, с которыми я живу, – в большинстве своем хорошие товарищи, положительные семейные люди, преимущественно крестьяне, попавшие на войну прямо с действительной службы призыва 1913 года, то есть двадцатипятилетние. Они люди умные, хотя некоторые и малограмотны. Но…
Поймите, мне трудно найти с ними общий язык, ни одной общей точки. У нас совершенно разные понятия обо всем. Разные привычки.
От этого, конечно, ничего худого не происходит, живем мы дружно, но тем не менее мы чужие друг другу. Я чуть не написал: их много, а я один. Но вовремя спохватился: понял, что это было бы слишком хвастливо и неуместно. Ведь они – подавляющее большинство русского народа, к которому принадлежу и я.
Я среди них, как говорится, белая ворона, вернее, какой-то незваный гость, который, как известно, хуже татарина. Словом, я сел не в свой вагон, однако что сделано, то сделано. Ничего не попишешь. Грустно! Но, главное, одиноко.
Называют меня, мальчишку, эти семейные взрослые люди уважительно Александром Сергеевичем, или господином вольноопределяющимся, или, бывает, совсем посемейному – Саша, а то еще теплее, не без покровительственного юморка: «наш Пчелкин» или даже «наш Александр».
Так что я теперь с полным правом могу подписывать свои письма «Ваш Саша» – если я действительно Ваш? Шучу? Шучу! Не придавайте значения: это для красного словца.
Я называю солдат, своих товарищей, по фамилии: Ковалев, Колыхаев, Попленко, Улиер, Чиригин, Веркварт, Горбунов – видите, какая пестрая компания!
И все же я не жалею, что уехал. Не жалею ни капли. Едим мы два раза в день: днем и вечером. В двенадцать обед – борщ, каша и около полфунта мяса – чрезвычайно твердого. Борщ до того наперчен, что есть его я не могу. Каша на постном масле или с салом, накрошенным кусочками.
Зато природа!
Прогулки по селу, разбитому снарядами. Река, замерзшая среди соснового бора. Снега, снега, снега. Особый аромат походной жизни. По ночам свист шальных пуль. Лужи в крови. При каждой оттепели выступает кровь прошлогодних боев.
Кроме того, ведь я все-таки усердно потею над уставами, вожусь возле пушки, учусь быть наводчиком – и довольно успешно. Возможно, что скоро получу нашивку бомбардира…»
Однако хотя я, в то время молодой вольноопределяющийся, и обязался писать главным образом о мелочах солдатской жизни, а не о боевых подвигах и сильных впечатлениях, все же не удержался от описания кровавых луж, свиста пуль и убитой снарядом лошади.
Что же касается переперченного борща и трудности совместной жизни с простыми, малограмотными солдатами (а я ощущал, что мы, несмотря на окопную дружбу, все-таки чужие друг другу), то Эти жалобы звучали довольно глупо в письме исключенного гимназиста.
Впрочем, это скоро у меня прошло. Ведь я и месяца еще не прослужил на позициях. Надо же было мне свалить ua кого-то свою неприспособленность к новым условиям жизни и вечное ощущение беспричинной грусти, тем более что грусть моя была совсем не беспричинна.
Я попал в ложное положение. Как вольноопределяющийся первого разряда я имел право помещаться и столоваться вместе с офицерами, что мне сразу и было предложено. Однако я отказался, сказав старичку батарейному, что хочу разделить с простым народом все тяготы войны и остаться в батарее на солдатском довольствии, а также помещаться вместе со всеми номерами нашего орудия.
– Хвалю! – сказал старичок батарейный и потрепал меня по плечу. – Вы настоящий сын родины!
Вскоре батарейный уехал по болезни в тыл лечиться, а на его место был назначен боевой офицер поручик Тесленко, как тогда принято было говорить – из простых, маленький, с мягким непородистым лицом, кумир солдат, о котором даже сложили песню на мотив «Шумел, горел пожар московский, дым расстилался по земле» и т. д. Слова были такие: «Шумел, горел лес августовский, то было дело в ноябре. Мы шли из Пруссии Восточной, за нами герман по пятам»; и потом через несколько строк: «Поручик храбрый наш Тесленко сказал «не сдамся никогда»… и так далее.
…создалась легенда, что я, вольноопределяющийся Пчелкин, по доброй воле отказался от привилегий жить и питаться вместе с офицерами, предпочитая все тяготы войны переносить вместе с солдатами. Эта легенда укрепилась, и самое удивительное, что я сам поверил в эту сказку. А на самом деле, для того чтобы воспользоваться своим правом жить и питаться вместе с офицерами, надо было ежемесячно платить за офицерское питание, хотя и совсем немного, рублей может быть, пятнадцать в месяц, да беда в том, что денег у меня совсем ничего не осталось, и просить у отца не позволяла совесть. Отец и так еле сводил концы с концами. Те же небольшие деньги, которые отец мне дал на дорогу, как известно, были безвозвратно утрачены мною еще до Минска. Оставалось одно: заявить о своем желании жить вместе с солдатами, питаться из батарейного котла и получать солдатское содержание.
Солдатский телеграф сразу же известил, что «наш Саша Пчелкин», то есть я, происходит из небогатой семьи учителя, что по дороге на позиции он проигрался, что из гимназии его исключили и теперь у него один выход: служить в батарее вольноопределяющимся, дослужиться до прапорщика, надеть золотые погоны, получить офицерское жалованье и, если даст бог, жениться на генеральской дочке Миньоне, с которой он крутит любовь, но это еще бабушка надвое сказала.
Батарейцы считали это совершенно разумным, так что я ничего не потерял в их глазах, а даже выиграл. Они смотрели на вещи трезво. Всякая романтика была чужда им.
Особенно им нравилось, что я из небогатой и недворянской семьи.
Они относились ко всем богатым с подозрением и даже откуда-то очень хорошо знали материальное положение каждого своего офицера, с особенным неодобрением относились к офицерам-помещикам, владевшим землей. Они совершенно точно знали, где у кого имение и сколько у кого десятин земли. Владение большим количеством земли они считали несправедливостью, хотя об этом помалкивали и втайне надеялись, что когда-нибудь, и, может быть, даже очень скоро, эта несправедливость кончится и всю помещичью землю крестьяне поделят между собой. Об этом говорилось редко, больше намеками, почему-то рассчитывая на близкий конец войны, что не мешало им честно служить и сражаться с внешним врагом, как предписывали им святая присяга и солдатская памятка.
«Оказалось, что войну до сих пор я воображал довольно правильно. Помните, милая Миньона, как Вы подняли меня на смех за то, что я представлял себе батарею как шесть пушек, поставленных в ряд. Оказалось, что это совершенно так и есть. Потом Вы смеялись, когда я мечтал побежать с батареи смотреть пехотную атаку. В действительности у нас это тоже вполне возможно. Например, когда в пехотной цепи, до которой от нас всего одна верста, случается что-нибудь «интересное», вроде атаки или разведки боем, то батарейцы бегут на открытое возвышенное место, ложатся и смотрят.
Наши два орудия спрятаны в обратном склоне бугра. Впереди, позади, сбоку – со всех сторон резервные окопы, приготовленные для пехоты на случай отступления, проволочные заграждения, волчьи ямы, запасные землянки в три-четыре наката.
Снег на солнце блестит, как алюминий. Я выбираюсь из землянки. После подземной тьмы солнце ослепляет. Минуты две не могу привыкнуть к яркому свету. Жмурюсь. Иду по истоптанному снегу среди маленьких кустов можжевельника с мутно-синими ягодками вверх по склону бугра.
Отсюда отлично видны простым глазом наши и немецкие окопы. Любуюсь видом. И вдруг с десяток немецких ружейных пуль проносится над головой. Вероятно, мою фигурку на гребне бугра заметили немецкие наблюдатели и дали залп. Сначала я окаменел от неожиданности, а потом кубарем скатился вниз и попал в объятия своего взводного, который, не стесняясь в выражениях, изругал меня за неосторожность.
Могли ранить. Или даже… Но не будем об этом думать. Вот мое первое боевое крещение…
Ясный день. Чуть тает. С блиндажей каплет. Далеко на западном горизонте в ясном небе над разбитым снарядами костелом виднеется немецкий привозной аэростат с наблюдателем в корзине, так называемая колбаса.
Слышен стрекочущий треск мотора – где-то летает аэроплан, – и слышны разрывы шрапнели: стреляют по аэроплану.
На наблюдательном пункте, где-то вне поля нашего зрения, находится новый командир батареи поручик Тесленко. Он готовится начать стрельбу. Он передает свои команды по телефону, а наш телефонист, высовываясь по пояс из своего окопчика, кричит:
– Второй взвод, готовься к стрельбе! Третье и четвертое орудия – к бою!
Четвертое орудие – мое орудие. И, естественно, я волнуюсь. Затыкаю уши ватой, хотя имеются специальные на этот счет наушники, которыми, кстати сказать, никто не пользуется. Привыкли к орудийным выстрелам. А мне советуют на первых порах затыкать уши ватой, чтобы не лопнула барабанная перепонка.
Заткнув уши ватой, вылезаю вместе с другими номерами из подземной норы на свет божий.
Прапорщик Красносельский – изящный мальчик с петербургским лоском, в замшевых перчатках – уже тут на линейке. Очень может быть, это тоже его первая боевая стрельба и он волнуется не менее меня.
Мне страшно, что немецкий наблюдатель может обнаружить наш взвод со своей колбасы и немецкая тяжелая артиллерия сметет нас с лица земли своими «чемоданами».
Обязанностей никаких при орудии я не несу, так как свободно управляются четыре номера из восьми, положенных по уставу.
– Четвертое, огонь!
Это первый орудийный выстрел, который я слышу вблизи. Он со страшной силой ударяет по нервам, как бы врывается в мой предусмотрительно разинутый рот и оставляет в нем какой-то железный вкус и запах пороха. Кружится голова.
Следующие выстрелы уже не производят впечатления. Я даже рта не раскрываю.
Отстрелявшись, мы замолкаем. Потом начинает отвечать немец. Это уже хуже. Сначала настороженное ухо улавливает звук далекого, очень далекого артиллерийского залпа, как бы еще не имеющего к нам никакого отношения. Но звук этот, оказывается, имеет продолжение: легкий шумок, который постепенно усиливается, становится плотным, сбитым, компактным, вырастает, приближается, переходит в зловещий свист, нависающий откуда-то сверху, с неба, фатальный, необратимый, безжалостный, от которого некуда деться.
Орудийная прислуга, толкая друг друга, кидается к блиндажу… Секунда… Прапорщик Красносельский стоит на открытом месте, мнет руку в замшевых перчатках, и я вижу его сверхъестественно спокойное, но мраморно-белое лицо с кружочками выступившего румянца.
Шум полета неприятельского снаряда, дойдя до своей высшей, невыносимой точки, вдруг на миг смолкает и сейчас же после этой ужасающей, мертвой паузы: б-б-ба-бах!
Четыре разрыва. Четыре фонтана снега, огня, дыма, земли вздымаются на гребне нашего холма.
Недолет!
– В ответ мы делаем несколько выстрелов. И наши снаряды невидимкой, но с убывающим шумом и посвистом улетают куда-то за горизонт. Через короткий промежуток времени поручик Тесленко передает с наблюдательного пункта новые прицельные установки. Орудийные фейерверкеры бегают с записными книжками между окопом телефониста и орудиями, наскоро записывая новые данные и выкрикивая цифры, понятные только наводчикам.
Пауза… И опять – немцы: далекий, еле слышный орудийный залп, переходящий в нарастающий шум, потом свист, непреложный, как геометрическая дуга, или, вернее, траектория полета, плавно поднимающаяся вверх и потом круто, почти вертикально падающая на землю. Снова мы, спотыкаясь, бежим к спасительному блиндажу.
Ух!… Пронесло! Перелет. Разрывы снарядов где-то за нами. У Красносельского опять появляются румяные пятнышки на окаменевшем мраморном лице. Он подчеркнуто спокоен и, немного наигранно улыбаясь, цедит сквозь зубы:
– Недолет. Перелет. А теперь, братцы, держись! Попадание.
Томительные минуты. Где-то бухают наши первая, вторая и третья батареи. (Наш взвод стоит, как я уже Вам докладывал, отдельно, впереди.) Немец бьет по первой, второй и третьей батареям, то есть по всему первому дивизиону бригады тяжелыми снарядами, которые, пролетая высоко над нами, производят звук, похожий на визжание заржавленного флюгера под ровным ветром. Мы все механически поворачиваем головы, как бы следя за этим мерзким звуком, как бы провожая глазами невидимый снаряд и даже представляя себе, как за ним с журчанием течет рассеченный воздух.
Но по нас немец уже почему-то не бьет. Молчит. Видно, и недолет и перелет были случайны: шальные снаряды. А наши батарейцы при звуке их полета произносили хором как заклинание:
– Несет! Несет! Несет!
Стало быть, немецкие наблюдатели нас не обнаружили. Если бы они знали, что их залпы взяли нас в вилку, то третьим залпом они б нас стерли с лица земли и Вы не получили бы этого письма.
Через некоторое томительно долгое время из телефонного окопчика слышится голос:
– Отбой!
Какое прекрасное слово! От сердца отлегло. Все-таки я впервые испытал чувство настоящей, смертельной опасности, как говорится, понюхал пороху, хотя лишь слегка. Но я горд и чувствую себя настоящим обстрелянным солдатом.
По-моему, ошибка всех наших современных журнальных беллетристов, пишущих про войну (а про войну пишет всякий, кому не лень), это то, что они впадают в крайности. Одни злоупотребляют изображением героических подвигов, кровавых эпизодов, обыкновенно очень приблизительным и слащавым. Другие берут только военный быт, чаще всего воспроизведенный и понятый неверно. А я Вам скажу, война – это пропорция: шесть частей боевых эпизодов, четыре части фронтового быта, что ли. Во всяком случае, быт играет роль непременного и совершенно необходимого фона для боевого эпизода.
…передки наших трехдюймовок стоят позади, верстах в трех, за лесом. Иду. Выхожу на большую дорогу. Шарабан. Из-за плеча кучера-солдата видна приплюснутая генеральская фуражка. Узнаю Вашего папу. Он ведь тоже отчасти «миньон» (простите за вольность!). Щелкая сапогами, я вытягиваюсь во фронт. Но шарабан с Вашим папой проезжает мимо. Я не замечен, увы. Вероятно, генерал едет вместе с адъютантом осматривать позиции…
…Просыпаюсь ночью в землянке. Холодно. Душно. Темно. Грустно. Одеваюсь, то есть натягиваю шаровары, гимнастерку, сапоги, куртку. Выбираюсь наверх из землянки. Лунная ночь, очаровательная, глубокая, безмолвная. Трескучий мороз. Градусов двадцать. Волшебное царство необъятных русских снегов. Стою очарованный сказочным освещением и тишиной, но вдруг…
…но вдруг… что такое? Возле орудия дневальный в постовом тулупе и валенках, а рядом с ним два офицера, видимо штабные, и между ними женщина в белом дубленом полушубочке и папахе, лихо надетой набекрень. Дневальный что-то почтительно объясняет про нашу трехдюймовку: как наводится, как поворачивается, как заряжается.
Женщина с подкрашенными бровями и ресницами на голубом от лунного света лице манерно кокетничает:
– Ах, только ради бога, при мне не стреляйте!
Офицеры галантно с двух сторон подхватывают красавицу под локти. Она серебристо смеется. Слышен изысканный штабной баритон:
– А вот тут мои люди роют резервные окопы…
Шаги скрипят и стихают. Силуэты троих меркнут, как бы поглощенные светом очень маленькой и очень яркой январской луны, стоящей над головой в самом зените, в соседстве с несколькими наиболее крупными звездами и полярными льдинами полночных облаков.
…и снова неподвижная фигура дневального в громадном постовом тулупе…
Мертвая тишина. Безлюдье. Одиночество.
Откуда явилось это милое видение в белом тулупчике? Я думаю, что это какая-нибудь шальная девица, приехавшая на несколько дней к кому-нибудь из штабных или саперных офицеров, для того чтобы «испытать сильные ощущения». А может быть, сестра милосердия из корпусного госпиталя, отчаянная голова. Тип весьма банальный.
…но молодая женщина лунной ночью, среди мерцающих голубых снегов, ее серебристый смех…
Как чудно и как странно!…
Первый раз в жизни я всем своим существом потянулся к женщине…
Следующий день отвратителен.
Привет Вашей милой маме, всем сестрам, как родным, так и двоюродным. Пишите. Обрадуете.
Итак: «Первый раз в жизни я всем своим существом потянулся к женщине».
Вероятно, так оно и было на самом деле. Первый раз в жизни я потянулся к женщине. Не к девушке, не к подростку, не к девочке-сверстнице, а именно – к женщине.
Вечной влюбленности я был подвержен с детства, когда не было дня, чтобы я не был в кого-нибудь влюблен. Вечная влюбленность составляла сущность моего бытия – ого счастье и его горе. Я слишком самозабвенно отдавался любовным мечтам, что, может быть в конечном счете и явилось причиной моего исключения из гимназии с аттестатом за шесть классов, вследствие чего я и оказался в действующей армии вольноопределяющимся первого разряда.
Мой донжуанский список состоял почти из всех знакомых девочек, перечислять которых нет никакого смысла.
…Их было много, их избыток, их больше, чем душевных сил, прелестных и полузабытых, кого я думал, что любил…
Моя влюбленность обыкновенно проходила бурно, как инфекционное заболевание: по ночам жар и многократное переворачиванье нагретой подушки на прохладную сторону, которая скоро опять нагревалась под моей воспаленной щекой, так что ее опять надо было переворачивать. Это все были как бы абстрактные, литературные романчики с лунными черноморскими ночами или танцами на скользком паркете, усыпанном разноцветными кружочками конфетти.
Романчики проходили чрезвычайно быстро, не оставляя в душе никаких следов. Словно бы, их вовсе не было. На смену минувшей влюбленности незамедлительно приходила другая, новая, и так далее.
Справедливость требует сказать, что с одной барышней я все-таки, незадолго до войны, целовался – впервые в жизни. Однако это не была влюбленность, а скорее нечто вроде спорта.
Среди барышень нашего дома имелась одна очень хорошенькая блондиночка с нежным польским лицом, всегда носившая розовое платье. Розовое ей шло. Она была дочкой архитектора, построившего дома общества квартировладельцев в несколько декадентском стиле украинского модерна с высокими западноевропейскими черепичными крышами, салатно-зелеными рамами окон со скошенными верхними углами и коваными решетчатыми воротами, украшенными большими железными подсолнечниками.
Звали ее Зоей, и она была большая любительница целоваться с мальчиками, о чем знали все окрестные гимназисты, реалисты и кадеты. Когда кому-нибудь из них приходила охота целоваться, они свистом вызывали с третьего этажа Зойку, и они бежали к морю, залезали на прибрежную скалу, быть может помнившую еще Пушкина, и там целовались.
Она действительно очень хорошо целовалась, но без всякого любовного чувства, скорее с чувством юмора.
Я тоже не захотел отстать от товарищей и, замирая от страха, так как еще никогда в жизни не целовался, посвистел Зойке. Она проворно сбежала по лестнице со своего третьего этажа в развевающемся розовом платье и, не выразив никакого удивления, что свистел я, мало знакомый ей мальчик, взяла меня за руку, и мы через узорчатые чугунные ворота, сохранившиеся еще с пушкинских времен на Французском бульваре, побежали к морю, вскарабкались на скользкую скалу, поросшую снизу водорослями и мхом, и, не теряя времени, начали целоваться, причем я был страшно смущен своим неумением целоваться, даже покраснел от стыда, но она не обратила на это внимания, и затем, не сказавши друг другу ни слова, мы скоро возвратились домой, а по дороге встретили толстого гимназиста Колю Банова, бровастого болгарина, который подмигнул мне и деловито спросил:
– Целовались?
Но Зою никак нельзя было включить в мой донжуанский список. Она была вне программы.
Некоторые мои романчики проходили в очень тяжелой форме, даже с мучениями ревности. Но, в общем, это были пустяки: ленточки из косы на память, письмецо на голубой бумаге, стишки в альбом: «Бом-бом-бом, пишут тебе в альбом. Хи-хи-хи, вот тебе стихи» – дли во время игры во флирт цветов застенчиво переданная карточка с надписью «фиалка», что значило «я вас люблю».
«Действ. арм. 20-11-16 г. Дорогая Миньона!…»
Впервые я рискнул назвать ее не милой, что, в сущности, ничего не объяснило, а дорогой. Это уже был с моей стороны рискованный шаг вперед. Вопрос: поймет ли она его намек? ответит ли она на него тоже «дорогой»?
«Сейчас я весь под впечатлением небольшого передвижения, в котором принимала участие наша батарея и особенно наш отдельно стоящий второй взвод.
В десять часов вечера по телефону из штаба бригады передали приказание: «Передки на батарею». Сейчас же началась суета. Наскоро кончаем ужинать, выпиваем кипяток из чайника, так аппетитно пускавший пар, греясь на печке. Собираем вощи в мешки. Я накануне постирал свое белье, и теперь оно как раз готово, то есть совершенно высохло, развешанное на сухом морозном ветру, и стало твердым, лубяным. Вися на веревке возле входа в землянку, оно даже издавало барабанные звуки;
У орудия – прислуга, одетая по-походному. Во мраке светятся электрические фонарики орудийных фейерверкеров. Вьюжит. В лицо бьет пурга. В чернильно-туманной дали время от времени взлетают зелеными звездочками немецкие осветительные ракеты. Выкатываем орудия. Меня награждают чайником и какой-то жестянкой, связанными вместе. В свободной руке узелок с артельным чаем. Одним словом, я напоминаю не то посудный, не то скобяной, не то чайный магазин.
Слышится грохот подъезжающих передков, конское ржанье. Из тьмы выступают тяжелые силуэты парных упряжек, фигуры ездовых в тулупах.
Легкая неразбериха.
Наконец орудийные лафеты надеты на передки. Двигаемся. Ветер бьет в лицо. Ноги вязнут в сугробах. Грудь покрывается слоем липкого снега.
Наша колонна движется по знакомым местам: узнаю, вернее, угадываю в снежной темноте сожженное и разбитое снарядами село, голые печные трубы, березы с ветвями, обитыми осколками снарядов. Бугор, у подножия которого землянка штаба первого дивизиона. У дороги распятие, проходя мимо которого я снимал папаху и крестился, по-детски свято веруя в бога, в его святую волю…
Подъемы. Спуски. Мелколесье. Елочки. Сосны. Иногда под ногами скользкий лед. Шагаю возле зарядного ящика номер четыре. Мне трудно идти. Я устал. Кажется, что иду уже по снегу не час, не два, а десять лет. Медный орудийный чайник комично бренчит болтающейся на веревочке крышкой. Или, кажется, наоборот: крышка на веревочке бренчит о чайник. По этому поводу кто-то из солдат на мой счет острит, кто-то смеется.
Ветер. Вьюга. Усталость. Все батарейцы устали не меньше меня. Некоторые остаются. А я из всех сил держусь. Не отстаю.
После двухчасового безостановочного движения изнеможенные, переходя с проселка на проселок, громыхая по железнодорожным переездам, добираемся наконец до новой позиции.
Новая позиция очень близко от немцев, не больше чем за три четверти версты. Никогда не предполагал, что артиллерию так близко выдвигают вперед!
Вокруг березовый лес.
Нет, Вы только подумайте, Миньона, настоящий не нарисованный Левитаном русский березовый лес, которого мы, новороссийские степняки, никогда и в глаза не видели.
Но какая красота! Заплакать можно!
Спим, как убитые наповал. Утро. Глушь. Снег. Березы. Какие-то голые кораллово-красные кусты, торчащие из сугробов (краснотал, что ли?), и можжевельник совсем как в стихах:
«И ягоды туманно-сини на можжевельнике сухом».
Какая вокруг хмурая красота!
Иду с ведром в руке по воду к колодцу, сруб которого стоит на открытом месте. Нет ничего опаснее на фронте, чем открытое место. Немцы заметили и пустили пять-шесть снарядов. Само собой промах, потому что в противном случае, Вы сами понимаете! Не было бы этого письма.
Осколки не зацепили меня, хотя один снаряд разорвался в 10 – 15 саженях. Я лежал, уткнувшись носом в сугроб, прикрыв голову ведром, как будто бы это могло спасти. Видно, бог меня хранит.
Получаете ли Вы мои письма?…»
У дороги недалеко от колодца виднелось распятие. Если на фронте было тихо, то мне позволялось побродить по окрестностям, не слишком отдаляясь от орудийного взвода. Я любил ходить к этому распятию.
Старый, серый от времени деревянный крест с неестественно маленькой фигуркой пригвожденного богочеловека, свесившего почти что детскую головку в терновом венце.
Кажется, по польско-католическому обычаю на одном конце перекладины креста висел молоток, на другом – клещи: орудия распятия.
Вдалеке в тумане слабо виднеется как бы рыбья косточка костела, постепенно разрушающегося от наших и немецких снарядов.
Распятый Христос и разрушающийся храм.
Было странное несоответствие между распятым Христом, разрушением храма, тем кровопролитием, которое совершалось здесь, под Сморгонью, и во всем мире, и красотой природы.
Маленький обнаженный человек с прикрытыми чреслами и повисшей головою в терниях почитался спасителем. Неужели он отдал свою жизнь за спасение человечества? И напрасно. Ничего он не спас. Люди продолжают истреблять друг друга. Как может это происходить?
Впервые в жизни я подумал вполне серьезно о войне, участником которой стал по доброй воле.
Еще совсем недавно война предстала мне в облаке горячей пыли, которую гнал в глаза июльский ветер с соломой, клочьями сухого сена, мелким сором, в то время как я пересекал привокзальную площадь, так называемое Куликово поле. В клубах пыли развевались гривы деревенских лошадей, пригнанных сюда по мобилизации из окрестных сел и немецких колоний. Деревянные бирки на конских хвостах и горы прессованного сена воспринимались как знаки начавшейся катастрофы.
Что я знал о войне? Ничего. Я пол с чужого голоса:
«Война объявлена», «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия! И на площадь, очерченную чернью, багровой крови пролилась струя».
Как таинственно и еще совсем непонятно звучали пророческие слова:
«Европа цезарей! С тех пор как в Бонапарта гусиное перо направил Меттерних, впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта».
Я знал, кто такой Бонапарт, но по своему невежеству понятия не имел о Меттернихе, тем более что у него в руке было почему-то гусиное перо, направленное на Бонапарта. Гусиное перо виделось как дуэльный пистолет. Менялась карта Европы. Но, может быть, не только Европы, но и всего мира.
Темные предчувствия томили меня. Я ощущал, хотя и не сознавал этого еще, вину перед человечеством. Не какую-нибудь отвлеченную, чью-то чужую вину, нет! Вину свою собственную, личную. Промелькнула ужасающая догадка, что это я сам захотел войны и желание мое исполнилось.
Еще ничего ужасного не произошло. Еще мир дремал под лучами полуденного солнца. Еще:
«Под портик уходит мать сок граната выжимать. Зоя, нам никто не внемлет. Зоя, дай тебя обнять…»
Еще можно было смеяться над афоризмами Козьмы Пруткова…
А я уже шел – порочный мальчишка, гимназист-второгодник – шаркающей походкой лентяя и мечтателя по бесконечно длинной, как загробная жизнь, раскаленной улице, где отцветающие акации давали, как сказал Пушкин, «насильственную тень», в которой никто не нуждался, так как улица была безлюдна. Можно было подумать, что все население покинуло город и устремилось к морю, ища спасения в зеленой воде Ланжерона, Малого Фонтана, Золотого берега, Шестнадцатой станции, Люстдорфа. Я шел, палимый солнцем, мимо витрин, где выгорали никому не нужные произведения галантереи, с каждым мигом желтея и отставая от моды, устаревая, как книги прошлого сезона и вчерашние газеты.
Боже мой, какая скука! Какая бесцельная жизнь! Неужели этот Дантов ад будет продолжаться вечно? Неужели я так и буду вечно идти, шаркая скороходовскими сандалиями, по бесконечной улице, ведущей в никуда?
Я был в тихом, неподвижном омуте отчаяния, потому что понимал свою никому ненужность, от неразделенной любви, от постыдных переэкзаменовок, от пропотевших подмышек коломянковой гимназической куртки с вставными серебряными пуговицами, в которых мутно отражалось тошнотворное солнце.
Неужели ничего не произойдет? А ведь были же какая-то грозная и величественная история, события, в которых участвовали разные люди, такие же русские, как и я сам. Стреляли пушки. Горели города. Князь Андрей нес знамя. Петя мчался на лошади. Наташа кружилась на паркете, раздувая платье. Наполеон растирался одеколоном. Николай проигрывал сорок тысяч. Горела Москва. Звонили колокола. Император бросал с балкона бисквиты. Маршал Даву сидел в сарае за столом, сделанным из двери, положенной на два ящика…
Да мало ли!
Так неужели же жизнь моя так и пройдет без героических событий, без любви, без подвигов, без славы?
А ведь было же что-то в детстве. Я смутно помнил слова «Цусима» и «Порт-Артур». Были баррикады, опрокинутые конки, маленькие красные флаги, дружинники в драповых пальто, залпы «Потемкина». Куда же все это девалось? «Господи, – шептал я, – ты высшая сила. Ты всемогущ. Если ты действительно всемогущ, так пошли мис… дай мне…» Я не мог выразить словами свою просьбу, но я почему-то был уверен, что являюсь единственным человеком в мире, любая просьба которого исполнится высшей силой.
«…пожалуйста, уведомьте, получаете ли Вы мои письма».
«Действ, арм. 26-11-16 г. Милая Миньона! -…»
По-видимому, она не поддержала мое обращение «дорогая», и мне пришлось благоразумно отступить на позицию «милая».
Итак:
«Милая Миньона! За день до назначенного срока мы уже знали, что уходим в резерв. Нас известил об этом всезнающий солдатский телеграф.
Откровенно говоря, жаль было покидать хорошие, обжитые землянки, хотя позиция и была несравненно опаснее прежней. Раза три в день немец непременно обстреливал местность, стараясь нащупать нас. То слышались разрывы снарядов где-то впереди, со стороны наших пехотных окопов, то шальная немецкая шрапнель рассыпалась с железным грохотом по лесу справа от нас, то гранаты поднимали облака снега на шоссе, совсем рядом с нашей позицией. Даже, как я уже, кажется, Вам писал, немецкие снаряды падали прямо на нас, но всегда по счастливой случайности безрезультатно, иногда даже вовсе не разрывались, может быть, потому, что я изо всех сил молил бога о пощаде, а может быть, потому, что я вообще «везучий».
…а дни стояли славные – яркие, солнечные, снежные которым так подходило бы название «Зимняя весна».
Синеглазые дни.
Представьте себе железнодорожное полотно где-то на полдороге между Минском и Вильно, справа и слева березовые и сосновые рощи, а за ними на десятки верст до самого горизонта расстилаются синеватые дали, рощицы, деревеньки, потонувшие в сугробах. Слева – проволочные заграждения, ломаная линия ходов сообщения и зеркала замерзших болот, ярко отражающих до вульгарности синее небо. Впереди на горе фольварк.
Сбоку от меня по железнодорожной насыпи движется лиловая тень идущего человека. Этот человек – я. Тени тонких ног в сапогах с ремешками, в галифе, кожаной куртки, папахи набекрень. Это я иду из нашего отдельного взвода на батарею – одна с четвертью версты.
Снег будто посыпан борной кислотой и вспыхивает на солнце синими, голубыми, желтыми, красными искрами. Славно, Миньоночка! Вот бы Вам поглядеть на эту красоту. Но… далеко где-то постукивает пулемет, как будто рубят котлеты…»
Довольно подробно и в меру своих сил писал я письма из действующей армии, обещая Миньоне быть совершенно правдивым. Однако я кое-что утаивал. Так, например, я не описал небольшой эпизод, свидетелем которого случайно оказался еще в первые дни на передовой, как раз днем после той лунной ночи, когда увидел мимолетное видение женщины, воскликнувшей с кокетливым серебристым смехом: «Только, ради бога, при мне не стреляйте!» Потом настал день, и я снова вылез из землянки подышать морозным воздухом. Тут я вдруг увидел толстого генерала с худым красным лицом, в бекеше, с биноклем на груди. С одышкой он взобрался на гребень нашего бугра, по всей вероятности, с целью лично осмотреть, пехотные позиции и расположение неприятеля. Я узнал в нем начальника дивизии, который принимал крещенский парад. Черт дернул его взбираться на бугор, остановиться и присесть на сугроб, чтобы передохнуть. Наверное, он страдал одышкой. Сидя на твердом сугробе, он посматривал вниз, увидел наш взвод – два орудия, – и вдруг его худое лицо побагровело. Он закричал своим властным генеральским голосом: «Взводного фейерверкера ко мне!» – и сердито заворочался на сугробе, как на большой подушке, продолжая неторопливо дышать, выпуская изо рта клубы пара.
Наш взводный фейерверкер Чигринский уже бежал снизу вверх к генералу, на бегу одергиваясь. Он остановился строго по уставу за четыре шага с рукой под козырек и отрапортовал:
– Ваше превосходительство, старший фейерверкер второго взвода первой батареи Шестьдесят четвертой артиллерийской бригады по вашему приказанию явился.
– Жопа! – закричал генерал страшным голосом. – Почему у тебя, так твою мать, орудийные затворы без чехлов?
И не успел Чигринский доложить, что только что была стрельба и чехлы еще не успели надеть, как генерал с усилием оторвал свое грузное тело от сугроба, вплотную подошел к вытянувшемуся Чигринскому и три раза ударил его кулаком в перчатке – два раза по скулам и один раз ткнул в золотистые щеголеватые усы над белыми оскаленными зубами.
Чигринский, справный фейерверкер, любимец солдат, красивый молодец-фронтовик, стоял перед генералом как деревянный, и только три раза его голова откинулась, принимая генеральские удары.
– Жопа! – еще раз с одышкой повторил генерал и уже забыв, зачем он сюда пришел, кряхтя спустился с пригорка, раздраженной походкой удалился, и лишь после того как он скрылся из глаз, Чигринский вытер ладонью кровь с подбородка и, сделав вид, что не видит меня, вернулся к орудиям и приказал наводчикам надеть чехлы, после чего довольно громко, отчетливо, с ненавистью в глазах и с оттяжкой произнес матерное ругательство.
До сих пор мне как-то не верилось, что солдат бьют, и теперь это меня поразило до глубины души. Мне было страшно и стыдно встретиться глазами с Чигринским, и я молча спустился по земляной лестнице глубоко под землю в свой орудийный блиндаж, лег на душистые еловые ветки, долго лежал в полутьме с открытыми глазами, не зная, что же теперь делать. Но делать было нечего. И я заставил себя забыть этот мордобой, что оказалось хотя и очень трудно, но возможно. Я его забыл. Вернее, сделал сам перед собою и перед всеми другими вид, что забыл.
Уехать из бригады домой я уже не мог, так как принял присягу, но внутренний голос сказал мне: в этом ты тоже виноват. Я постарался заглушить этот внутренний голос, но слова «тоже виноват» дохнули на меня, дохнули в мою душу морозом и возбудили нелепое предчувствие неизбежного ужасного конца этой войны.
«…укладываемся уже с полудня. Обед привезли в обычное время. Артельщик очень опасается обстрела: двуколка походной кухни с хорошо начищенным медным котлом, блестящим на солнце, вероятно, хорошо просматривается немецкими наблюдателями. Это создает нервное настроение. Обед раздается торопливо.
После обеда поднимается холодный ветер, и небо затягивается сыроватыми облаками. Опять становится хмуро. Среди туч слышится стрекотанье нашего аэроплана-наблюдателя.
– Ишь, так и ныряет в хмарах, – говорит волжанин Власов, задрав голову.
«Хмары» вместо «тучи». Правда, красиво?
В сумерках ужинаем, как всегда, остатками обеда и увязываем свои походные ранцы на передки, где уже давно покоится мой чемодан, заметно полегчавший и похудевший.
До наступления настоящей, надежной темноты остается часа полтора. За четверть версты вправо от нас по шоссе движутся незнакомые пехотные части, сменяющие на позициях нашу пехоту. Их не видать в темноте, только слышится скрип обозных колес, мерный бой тысячи солдатских ног, идущих походным маршем, бренчанье кухонь и пулеметов, изредка морозное ржанье лошадей.
Собираясь в дорогу, наши батарейцы идут за какими-то досками в сторону шоссе. Образуется большое скопление. Немец его замечает. Начинается артиллерийский обстрел. Со всех сторон ложатся снаряды. Небо как бы сплошь исполосовано их тошнотворным свистом. Впереди на фоне ночных облаков багрово-желтыми огнями вспыхивает и рвется шрапнель, кропя лес железным дождем. Осколки бризантных снарядов срезают с берез кружевные сучья, и они падают к моим ногам. Сначала до жути страшно. Сердце холодеет. Господи, пронеси! Но скоро наступает странное безразличие (двум смертям не бывать, а одной не миновать и т. д.).
И все же меня не оставляет вечное чувство какой-то своей необъяснимой, как бы врожденной неприкосновенности, будто бы я кем-то и когда-то заговорен от смерти. Странное чувство!
Приводят лошадей. Цепляем свои пушки к передкам и уходим длинной процессией во тьму. По приказанию командования нам полагается совершать свой поход по шоссе. Но это верная гибель. На шоссе все время рвутся немецкие снаряды. Видимо, шоссе хорошо пристреляно. Вопреки приказу, повинуясь непреодолимому чувству самосохранения, едем несколько в стороне от шоссе.
Совсем стемнело. И оттого что вокруг темным-темно – ни зги не видать, – люди идут молчаливо, тревожно прислушиваясь к каждому постороннему звуку.
Оттого что я в полном боевом снаряжении, с бебутом на поясе, с тяжелым солдатским наганом в кобуре на боку, с красным шнуром от нагана на шее, я чувствую некую военную гордость.
За скрипом орудийных колес и бренчаньем конской упряжи полета неприятельских снарядов почти не слышно, да и летят они над нами куда-то в другую сторону. Угадываешь опасность по отдаленному блеску немецкого орудийного выстрела и после этого по грохоту разрыва. Жутко!… Чтобы заглушить страх, я во все горло пою:
«Оружьем на солнце сверкая…»
Обстрел усиливался. Снаряды рвутся все ближе. Через десять минут наша основная батарея, до которой нашему отдельному взводу остается пройти какие-нибудь четверть версты, начинает прикрывать нас своим огнем и бьет поверх наших голов беспрерывными очередями. От красного блеска орудийных залпов, от громыхания и скрежета орудийных колес в голове сумбур. Лица у нас еще более сереют при вспышках выстрелов, губы плотно сжаты.
Потом, минуя нашу беспрерывно ведущую огонь батарею, выходим на шоссе. По шоссе серыми массами движется пехота: батальон за батальоном, пулеметные команды.
Роты одна за другой выплывают из тьмы и скрываются, как призраки.
Возле деревушки по названию Бялы остановка… Что такое?… Оказывается, ожидаем свою батарею, чтобы наконец соединиться с ней. Ждем долго. Обстрел немцами шоссе, слава богу, прекратился. По шоссе все текут и текут серые массы пехоты. А мы стоим и ни с места!
Топот коня. Разведчик. Оказывается, на батарее в передке шестого орудия сломалось дышло. Задержка на пятнадцать минут, которые кажутся вечностью.
Стоим, стоим, стоим… И ни с места.
Часть людей разбрелась по каким-то пустым, брошенным землянкам. Хочется пить. Воды нет. Ем снег, как в детстве. Над нами нависает немецкая осветительная ракета, ярко заливая окрестности своим химическим, каким-то гелиотроповым светом. И тут же знакомый отвратительный тук летящего снаряда: дзззз… и трах!
Опять обстрел. Снаряд за снарядом как бы невидимо чертят темноту ночи. Немец бьет по деревушке. Бьет, бьет, бьет методично, без перерыва, словно гвозди вколачивает. Немецкая кинжальная батарея где-то настолько близко, что, когда летит снаряд, все ему поневоле кланяются, так низко он пролетает. Снова ужас леденит сердце. Господи, только не в меня! Господи, пронеси!
Наконец дышло исправлено и батарея подходит. Мы снимаемся с места. Обстрел стихает. Через час мы уже будем в резерве. От сердца отлегло. Проезжая мимо деревеньки Бялы, натыкаемся на побитых немецкими осколками лошадей. Одна еще жива, лежит в луже, почти черной от крови, и судорожно подергивает задней ногой. Здесь же рядом лежат два солдата: один убит наповал, другой ранен. Возле них суетится санитар с фонарем. Я нечаянно ступаю сапогом в лужу свежей крови.
Настроение ужасное. Кажется, что я весь с ног до головы в крови, которую никогда и ничем уже не смыть.
Далее еду верхом на одной из так называемых заводных лошадей, которую дает мне разведчик. Заводная лошадь – это значит запасная, резервная. Меня укачивает и седле, как в люльке. Я забываюсь, но скоро прихожу в себя и уже думаю о Вас, насвистывая «Ямщик, не гони лошадей…».
Из этого письма явствует, что я продолжал осторожные попытки сблизиться с Миньоной, различными, весьма наивными способами дать ей понять, что
Хотя обращение «дорогая» не вызвало в ответ «дорогой», но я не терял надежды добиться хотя бы «она его за муки полюбила». Я пускал в ход лирическую грусть, любовную тоску и даже, как видите, прибегал к мещанским романсам, весьма популярным в то время и безотказно действующим на сентиментальных барышень.
…Как и сейчас, впрочем, под названием старинные русские романсы…
Какой только мещанской дребеденью не была набита моя голова! Тут были и «Отцвели уж давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больном», и «Дремлют плакучие ивы», «Дышала ночь восторгом сладострастья», и даже «Я смотрю на тебя, ты неловкий такой, если любишь меня, так целуй, черт с тобой! А не любишь меня, я тряхну головой и скажу, черт с тобой, черт с тобой» или что-то в этом роде, или «Гай да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем», как будто бы парочка могла быть втроем. Ну, конечно, если не считать ямщика.
Я как бы невзначай упомянул «Оружьем на солнце сверкая…» и применил более сильное средство: «Ямщик, не гони лошадей…» – скрыв за многозначительным многоточием «мне некого больше любить, мне некуда больше спешить», что должно было напомнить Миньоне наш намечавшийся роман или то, что тогда называлось «легкий флирт» или даже более изысканно, на английский лад – «легкий флёрт».
Нельзя сказать, чтобы она была ко мне совершенно равнодушна, но все-таки нежелательно холодновата, играя скорее в покровительственную дружбу, чем в любовь.
Несмотря на свое сходство с отцом-генералом, Миньона отличалась прехорошеньким личиком, которое можно было бы назвать кукольным, если б не какая-то властная черточка в рисунке губ, как бы созданных не столько для поцелуя, сколько для выговора. Но все остальное: английская блузка с шелковым матросским галстуком в виде пышного банта, плиссированная юбочка, маленькие ручки, круглые щечки и сиреневые глаза – все это было кукольное, что особенно прельщало, несмотря на строгий характер.
И все же если я и был влюблен в Миньону, то поверхностно, как бы буднично, а в глубине, в самой-самой глубине души безнадежно и горько любил Ганзю. Моя последняя встреча с ней перед отъездом в действующую армию выпала из моей памяти. Кажется, мы шли вдвоем в степи, а вокруг нас в сухой траве, как всегда бывает перед закатом, особенно громко звенели и тикали, как маленькие дамские часики, степные сверчки.
В это второе лето через год после начала войны, когда все уже успокоилось и казалось, что война сама по себе, а жизнь в стране идет по-прежнему, сама по себе, я гостил у товарища на Усатовых хуторах: недалеко от Хаджибеевского лимана, а Ганзя жила на даче на Куяльницком лимане, где вся ее семья пользовалась грязелечебницей. Между этими двумя лиманами простирались куски первозданной степи. Таким образом, Ганзя и я оказались соседями.
Мы встретились на трамвайной станции Хаджибеевского лимана, куда она приехала из города от портнихи, с тем чтобы я ее потом проводил через степь домой, на дачу возле грязелечебницы. Весной она окончила гимназию и теперь впервые надела только что сшитый почти дамский костюмчик, что-то клетчатое, черно-красное, обшитое тесьмой: короткий пиджачок с закругленными фалдами и юбка английского фасона, на четверть ниже колен. Костюм морщил под мышками, и это ее немного смущало.
Мне было странно видеть ее полудевочкой-полудамой, в соломенной шляпке с клетчатой лентой.
Может быть, она приехала на эту встречу специально для того, чтобы показаться мне уже не гимназисткой. Она была по-прежнему мила, но некрасива, как еще не распустившийся цветок. Она была уже причесана директуар – с полосами, поднятыми с затылка вверх. На щеке у нее я заметил маленькую мушку, вырезанную из черного пластыря маникюрными ножницами, что тогда начинало входить в моду.
Я был уязвлен нашим неравенством: она уже окончила гимназию, даже, кажется, с серебряной медалью, а я хотя и старше ее, но все еще был гимназистом, второгодником и, вместо того чтобы готовиться к переэкзаменовкам, бродил по хаджибеевскому парку среди вековых вязов и черных пней, на которых в тени сидели бабочки, сложив крылья, внутри яркие, а снаружи серого деревянного цвета, так что их было нелегко заметить среди древесной коры.
В пруду плавали лебеди: черные с красными клювами и белые с клювами желтыми. Оркестр в концертной раковине играл «Торжественную увертюру 1812 год» Чайковского, которая до войны находилась под запретом, так как в ней содержалось несколько тактов крамольной «Марсельезы». Теперь же французы были союзниками и «Марсельезу» разрешили, хотя она и попахивала революцией.
Мы молча прошли вокруг пруда, потом Ганзя, вынув из сумочки маленький кошелек, купила в газетном киоске последний номер «Нового сатирикона», на лаковой обложке которого была помещена цветная карикатура: кудрявый темно-зеленый дуб, а под ним розовая свинья с лысой головой депутата Пуришкевича, подкапывающего своим пятачком корни дуба.
В чем тут заключалась соль, мы не поняли, зато на другой странице были изображены два франта в наимоднейших фраках и с моноклями. Они разговаривали между собой:
«– А ты знаешь, Коко, что графиня НН наконец-то устроила файф-о-клок?
– С паршивой овцы хоть файф-о-клок».
Это нас развеселило.
Была еще одна карикатура, военная. Возле громадной пушки два немецких солдата в касках с шишаками пишут мелом на громадном снаряде:
«Уважаемые враги, если прилагаемый при сем чемодан не разорвется, то просим вернуть его нам обратно».
Здесь заключался намек на плохое качество немецких снарядов. Все-таки война напомнила о себе!
Но уже вечерело, и я пошел провожать Ганзю через степь на Куяльницкий лиман. Мы были вдвоем, одни в целом мире. Но все равно нас почему-то всегда разделяло некое магическое поле: я ее любил, а она меня – нет.
Как я ни старался навсегда ее забыть, какие бы увлечения ни испытывал, все это было не больше чем отливом, после которого начинался новый, еще более сильный прилив безнадежной любви.
…Качаясь в седле, как в люльке, я пел совсем не «Ямщик, не гони лошадей…», как писал Миньоне, а совсем другое:
«Я вновь пред тобою стою очарован и в ясные очи гляжу».
…Хотя очи были не ясные, а карие, какие часто встречаются у молдаванок. Она и была, кажется, наполовину молдаванка, наполовину румынка, о чем свидетельствовала ее фамилия Траян.
Опять начинался прилив. Я думал только о ней одной и пи о ком больше. Меня вдруг так к ней потянуло! Хотя бы на миг ее увидеть!
А жизнь продолжалась по-прежнему.
«25-11-16 г. Д. армия. Милая Миньона! У меня к Вам очень большая просьба. Пожалуйста, устройте так, чтобы и попал на пасху домой. Лично я с такой просьбой обратиться к начальству не имею права, но если Вы (и так далее…), то меня могут послать в командировку. Хотя бы по делам комитета связи. Мне очень хочется приехать хоть на недельку к Вам. В письмах всего не расскажешь, а рассказов хватит на три года. На днях напишу длинное письмо. Жду и надеюсь. Я в резерве. Тоска. Теснота. Духота».
Я лукавил. Мне просто до отчаяния захотелось увидеть Ганзю.
«3-III-16 г. Действ, арм. Милая Миньона! Представьте себе длинную снежную дорогу. Ночь. В лицо дует чистый студеный ветер. Редкие снежинки садятся на нос, губы, ресницы… Седло тихонько поскрипывает. Путь утомителен. Душа устала. На сапоге стынет человеческая или лошадиная кровь. Склоняешь голову, мурлычешь вполголоса какой-нибудь романс, что-нибудь такое…
Но вот по сторонам затемнели среди снега березовые перелески, где-то впереди среди ночной черноты, еще почти неуловимый для глаз, притягивает огонек, похожий на тлеющую папиросу.
Один. Другой. Третий. Село.
Сзади, шипя и визгливо кашляя, огибает нашу колонну длинный открытый штабной автомобиль. Он светит двумя тройными электрическими глазами и бросает перед собой на снег продолговатые световые пятна. Минута – и он быстро проезжает мимо, унося две строгие генеральские фигуры в высоких папахах: вероятно, командир корпуса со своим начальником штаба.
Остановка. Размещаемся по избам, где набилось множество постороннего народа: какие-то саперы, артиллеристы чужих бригад. Все смешалось. Спим кое-как и где попало. Кусают блохи. На следующий день нас расквартировывают уже как следует. Начинаются батарейные занятия.
На меня находит полоса острой грусти. Ей-богу, если вы можно, то напился б! Душа полна чем-то огромным, светлым и вместе с тем безнадежно горьким.
И эта горечь похожа на горечь нашей степной серебряной полыни, цветущей в июльское полнолуние.
Для того чтобы хоть как-нибудь забыться, я курю. Курю много, бестолково, и от этого у меня с непривычки кружится голова, тошнит.
В избе теснота, духота, дурной запах, и все время безостановочно кто-то играет нечто мучительно однообразное на гармонике, у которой действуют лишь басовые клапаны, а остальные западают, от этих мучительных звуков мне вспоминается детство: сильная зыбь на море, вечер, тучи, и маленький колесный пароход, помнящий еще севастопольскую кампанию, везет меня из Аккермана в Одессу, качает, где-то на горизонте гремит гром, обшивка скрипит, скрипят на палубе корзины с виноградом, зашитые холстом, из машинного отделения дует жарким ветром, нагретым железом, машинным маслом, и тошнит, тошнит, и где-то внизу, в третьем классе, играют на гармонике, причем басовые ноты сливаются со стуком машины, скрипом шпангоута и зловещим отдаленным громом.
«Укачало, сплю…»
Выхожу на улицу. Темно и оттепель. Совсем как ранней весной. Где-то в конце села горит огонек; как серое прозрачное облачко маячит березка.
Напротив в офицерской халупе играют на пианино, которое возится повсюду вслед за батареей в обозе второго взвода, вальс Вальтейфеля.
Завтра выступаем. Пишу это письмо в караульном помещении. Не забудьте же о моей командировке на пасху. Привет всем. А. П.».
Так как письмо писано в караульном помещении, то можно заключить, что я стал заправским солдатом и меня уже ставили на пост часовым.
Караульное помещение, как мне помнится, находилось в отдельной, особой избе, где было не так тесно и всегда топилась печка.
Я был еще канониром, то есть самым нижним чином, но уже считался обстрелянным солдатом и меня наряжали в караул. Наряд в караул продолжался двадцать четыре часа, Один караульный стоял часовым на посту, другой, только что сменившийся, мог поспать, а третий, которому надлежало сменить на посту первого, имел право отдыхать, но не имел права при этом скинуть верхнюю одежду и сапоги, а только немного ослабить на шее револьверный шнур и расстегнуть верхний крючок шинели. Это соблюдалось весьма строго по всем правилам гарнизонной службы и воинской присяги. Часовой же, стоящий на посту с обнаженным холодным оружием, то есть бебутом, или с заряженной винтовкой, являлся лицом неприкосновенным и подчинялся только своему караульному начальнику, разводящему и особе его императорского величества.
Самой трудной считалась третья смена – от двенадцати до трех ночи.
Я стоял на посту номер один у орудийного парка. Но это только так называлось, что я стоял. Я имел право ходить вокруг расставленных в большом порядке орудий, передков и зарядных ящиков. На мне был надет поверх шинели громадный, кисло пахнущий козлом постовой тулуп, на ногах постовые валенки, и в руке, приложив к плечу, я держал обнаженный бебут, то есть большой артиллерийский кинжал длиной более половины шашки.
Пост ответственный. Мало ли что может случиться в полной темноте. Немецкая тыловая разведка может взор-иать зарядные ящики. Ведь до неприятельского расположения, в сущности, не так далеко, верст двадцать от силы. А может подкрасться свой же фельдфебель – проверить, не спит ли часовой, и если спит, то возьмет да и снимет с орудия замок или выкрадет из железного ящичка оптический прицельный прибор – панораму, которая, как утверждал солдатский телеграф, стоила шестьсот рублей. И тогда часовой идет под суд, а военно-полевой суд шутить не любит.
Не дай бог заснуть на посту. А стоит только замечтаться, прислониться к зарядному ящику или, что еще хуже, присесть на покрытый снегом орудийный лафет – и копчено дело! Не хочешь, а заснешь.
Ночная темень окутала все вокруг. Снежные вихри крутились и бегали, догоняя друг друга. Трудно было чнибудь разглядеть вокруг.
Увязая по колено в сугробах, я протоптал валенками тропинку и ходил по квадрату, внутри которого белели засыпанные снегом орудия и зарядные ящики.
Производя в уме сложное арифметическое действие, я вычислил, что каждый час моего пребывания на посту
содержит в себе 3600 секунд. Каждый шаг примерно
секунда. Значит, каждые 3600 шагов – час. Каждый час надо загибать один палец. Как только загнул три пальца – тут тебе и смена.
Я ходил в облаках метели и считал шаги. Сначала считал сознательно. Потом шаги считались в уме, как бы автоматически, сами собой. Время тянулось бесконечно, но воображение все время рисовало картины минувшего, и мысль тщетно пыталась объяснить, что же со мной, собственно, произошло. С чего началась моя горькая, неразделенная любовь, о которой я переставал думать во время отливов и которая мучила меня, как только начинался прилив.
Сейчас начинался прилив, и он уже нес предчувствие ее появления.
Каким же образом она вошла в мою жизнь и стала ее частью?
Виновницей была Калерия, о существовании которой я было совсем забыл, всецело занятый письмами к Миньоне. Впрочем, тогда Миньоны не было еще и в помине. Тогда еще Миньона со всей своей семьей жила в Тирасполе, где стояла «их» бригада. Миньона еще не существовала в моем воображении. И душа моя была свободна.
Если бы не глупые ухищрения Калерии, ничего не случилось бы. Но Калерия нарисовала себе сентиментальную картину загородной прогулки за фиалками, где ее кавалером буду я. Для того чтобы не спугнуть меня и придать всему этому предприятию характер чего-то вроде пикника, она составила квартет: во-первых, конечно, она со мной в паре, а во-вторых, ее брат Вольдемар в паре с ее задушевной подругой, некой Ганзей, в которую Вольдемар был влюблен.
Две парочки. Какая идиллия!
Ранняя весна. Загородная прогулка к морю. Поиски первых фиалок. Квартет разбредается в разные стороны: Вольдемар с Ганзей, Калерия со мной. Что может быть прекрасней?
Из дому вышли в четыре часа. Как и предполагалось, Вольдемар пошел в паре с Ганзей, а я с Калерией. Предполагалось, что Вольдемар и Ганзя влюблены друг в друга. Как и полагалось влюбленным, они все время отставали, а мы с Калерией летели вперед. Нам то и дело приходилось останавливаться, поджидая отстающих. Калерия была возбуждена, взволнована, заглядывала на ходу мне в лицо влюбленными глазами и была так хороша, что если б не рост, не нос и не невозможное имя Калерия, то еще неизвестно, чем бы кончился поход за фиалками.
Чувствуя себя предметом неразделенной любви, я, конечно, испытывал глупую гордость и скрывал ее, как гонорится, «под маской печоринской иронии».
Мне недавно исполнилось семнадцать, и я уже выдавливал перед зеркалом прыщи – «бутон д'амур», – говорил уже не по-детски, а грубым голосом и, отрастив волосы, до сих пор стриженные под машинку, в поте лица трудился над устройством прически и по нескольку раз в день драл свои жесткие черные волосы на две стороны палочкой сального фиксатуара, завернутого в серебряную бумажку, хотя настоящего джентльменского пробора так и не получалось, потому что волосы на макушке продолжали торчать в разные стороны и не хотели ложиться.
Я завел себе диагоналевые брюки со штрипками и светло-серые гетры а-ля Макс Линдер.
Шагая по протоптанной в снегу тропинке и считая секунды, я живо представил себе Калерию, которая тогда шла рядом со мной быстрыми мелкими шажками, и при этом все время болтала всякий вздор, употребляя множество гимназических поговорок и острот, и сама первая смеялась. Было понятно, что она несет чушь просто от хорошего настроения, оттого, что получается такая дивная прогулка и что она идет рядом с тем, кого любит, и даже как бы случайно касается его локтем, то есть меня.
Шли по загородному шоссе сначала мимо домиков местных скульпторов, где в садиках виднелись глыбы каррарского мрамора и незаконченные кладбищенские ан-гелы, потом мимо пустых дач с еще по-зимнему заколоченными окнами сквозь голые ветви. Кое-где уже просвечивало море. Подул тяжелый ветерок, и уже по шоссе катили, воняя бензином, автомобили городских богачей, трещали мотоциклетки, блестели лаком крылья экипажей, нo теперь было еще почти пусто, и лишь гимназисты с развевающимися шарфами гоняли на велосипедах да с грохотом проносились пустые вагоны новой трамвайной пиши, оставляя за собой струю ветра, поднимающего с земли прошлогодний сор.
– Ну, как вам, Саша, понравилась моя Ганзя? – спросила Калерия меня. – Вы совсем не обращаете на нее внимания. И напрасно. Она прелесть. У нее с Вольдемаром роман. У Вольдемара губа не дура.
Дул весенний ветер. На ходу оправляя подол выбившегося из-под пальто темно-зеленого форменного платья, придерживая поля черной касторовой шляпы с овальным гимназическим гербом и салатного цвета бантом, Калерия сделала непоправимую глупость, сказав:
– Напрасно вы иронически улыбаетесь…
(Я действительно иронически улыбался.)
– Знаете, в нее все поголовно влюблены, и Вольдемар просто с ума сходит от страсти. Так что имейте в виду… – И она шаловливо погрозила мне пальчиком и как бы нечаянно взяла меня под руку.
Я обернулся и посмотрел на Ганзю.
У нее было незапоминающееся лицо с мелкими чертами и, кажется, карие глаза. Меховая зимняя шапочка, черное плюшевое пальто с перламутровыми пуговицами, из-под которого выглядывали маленькие ножки. Правая рука ее в это время – как на моментальной фотографии – была на отлете, кисть откинута в сторону, и пальцы подогнуты. Маленькая, она казалась еще совсем девочкой.
Рядом с ней шел Вольдемар, брат Калерии, в своей узкой аккуратной гимназической шинели. В его форменной фуражке со щегольским, как бы офицерским лакированным ремешком на околыше, в бледном лице с пробивающимися усиками, а главное, в какой-то деланной, напряженной улыбке было нечто свойственное красивым ревнивцам.
Я почему-то понял, что он безумно влюблен, а она – так себе… Может быть, только позволяет себя обожать, не больше. Мне показалось, что они совсем не пара. Он для нее слишком взрослый, гимназист-переросток. Хотя и красивый, но самолюбивая посредственность, вышибленный из казенной гимназии и перешедший в частную.
А она… А что она? Только то, что маленькие ножки! И в лице что-то молдаванское. Уж если на то пошло, то она больше подходит мне, неожиданно подумал я.
Через глухой приморский переулок мы вышли к обрывам и увидели по-весеннему туманное море, откуда дул т лицо крепкий мартовский ветер, так называемый верховой константинопольский.
– Какая красота! – не вполне натуральным голосом воскликнул я, еще не сознавая, что это патетическое восклицание относится, в сущности, к совсем не замечательной Ганзе.
– Ничего особенно красивого не замечаю, – тотчас же отозвался Вольдемар, как бы почувствовав во мне соперника. – Море как море. Много воды – и больше ничего. Фантазия поэта.
Это был тонкий намек на то, что я сочинял стихи. Голос у Вольдемара был как бы с трещиной. Высокий тенор. Фальцет.
– Не правда ли, Ганя, – прибавил он, пожимая ее руку, – не более чем много соленой воды?
– Не нервничайте, – ответила она. – Вам море не нравится, а Саше Пчелкину нравится. У каждого свой вкус.
Сказано это было тем расчетливо двойственным тоном, как будто она хотела дать мне понять, что не стоит обращать внимания на Вольдемара, потому что (вы же видите!) он нервничает, а море, конечно, очень красиво, ему пе очень нравится, что вы сумели заметить его красоту; но в то же время, как бы обращаясь к Вольдемару, говорила доверительно: стоит ли спорить с мальчишкой? Вы же взрослый человек, и я с вами вполне согласна, что все эти речи насчет красоты моря не больше чем фантазия доморощенного поэта. Но будьте же снисходительны.
Она, по-видимому, уже научилась мирить соперников.
– Ганзя, рыбка, – нежно сказала Калерия, которая тоже была влюблена в свою маленькую гимназическую подругу, – а как ты? Нравится ли тебе море? Ведь правда до ужаса прекрасно!
– Ничего себе, – ответила Ганзя равнодушно и сейчас же засмеялась, показывая, что ей самой смешно ее равнодушие к свободной стихии, которая «катит волны голубые и блещет гордою красой».
Да она просто обыкновенная ломака, подумал я и перестал обращать на нее внимание до той минуты, когда мы, совершив ритуал поисков хилых диких фиалок, вылезших из-под прошлогодней листвы, возвращались домой на трамвае с новенькими плетеными откидными сиденьями, уже при свете электрических лампочек в стеклянных тюльпанах, и трамвайные окна были того грустного синего цвета, какой бывает во время великопостной всенощной. На одной из остановок в полупустой вагон ввалилась шумная толпа гимназистов, возвращавшихся с футбольного матча. Среди них выделялся знаменитый инсайд-правый, наверняка забивший сегодня два гола. Он держал под мышкой грязный футбольный мяч. С расстегнутым воротником куртки, в белых футбольных бутсах, с красивым римским носом и сдержанной улыбкой победителя, он протискивался боком к передней площадке и вдруг увидел Ганзю. С особым шиком приподняв над кудрявой головой измятую фуражку с наполовину отломанным гербом, он произнес слегка фатовским голосом:
– Бож-ж-же мой, кого я вижу! Ганзя! Собирали фиалки? Это шикарно! Когда же мы с вами наконец опять встретимся у Козубских?
– Со временем, – весело ответила Ганзя.
Не без иронии оглядев меня и Вольдемара, чемпион протиснулся, подняв над головой мяч, на переднюю площадку и, еще раз улыбнувшись Ганзе, спрыгнул на ходу и пропал в потемках.
Я с удивлением понял, что ничем не замечательная Ганзя не такая уж простая, как могло показаться. Оказывается, у нее есть какой-то свой, недоступный для меня мир, где она, может быть, даже царит среди всех этих спортсменов, между которыми попадаются дети известных богачей, как, например, этот знаменитый инсайд-правый.
Подобное открытие неприятно поразило меня.
Какое, однако, пошлое лицо с красивым римским носом и наглыми глазами у этого богатенького сыночка. Вот уж действительно инсайд-правый. Именно такие типы нравятся девчонкам.
Я, который уже в мыслях своих успел отвергнуть ничем не замечательную Ганзю, вдруг почувствовал ревность.
– Что это вы такой грустный? – спросила у меня Ганзя, когда мы подходили к воротам.
Я промолчал. На лестнице мы стали прощаться. Прежде чем войти в квартиру Калерии и Вольдемара, Ганзя бережно, обеими руками сняла свою котиковую шапочку, протянула Вольдемару и повелительно сказала:
– Держите.
Потом взяла у Калерии круглое карманное зеркальце и мельком взглянула на себя, и когда отдавала обратно, зеркальце блеснуло мне в глаза, бегло отразив электрическую лампочку, горевшую в подъезде.
Извинившись передо мной, Ганзя стала перечесываться. Набирая шпильки одну за другой в губы, она отколола косу, обернутую вокруг головки, как корона.
С поразительной ясностью я вспомнил, как она одной рукой придерживала освобожденную косу, а другой вынула шпильки изо рта и не глядя протянула их Вольдемару:
– Держите.
Вольдемар с рабской покорностью взял шпильки и посмотрел на Ганзю с выражением почти отчаяния. А она озабоченно посмотрела па Калерию, тряхнула головой, и коса, медленно раскручиваясь, опустилась. Волосы у Ганзи были темно-каштановые с еле заметным золотистым отливом, густые, длинные, с рыжеватыми пушистыми кончиками.
Я еще раз, как бы проверяя себя, посмотрел на Ганзю, на ее слегка веснушчатый носик, маленький подбородок, и мне стало горько оттого, что, собираясь перечесываться, она извинилась только передо мной, а перед Вольдемаром как перед своим человеком не посчитала нужным извиниться. А может быть, это потому, что она его просто не уважала? Да, именно так. Она его не любит, подумал я, как Чацкий.
Когда же она, взяв у Калерии гребешок, стала расчесывать косу и водопад волос, потрескивающий электрическими искорками, упал на ее лицо, я понял, что в моей жизни случилось нечто неизбежное, как бы заранее предопределенное судьбой. И сердце мое помертвело…
Ночная вьюга продолжала кружить над артиллерийским парком, покрывая белыми подушками и пухлыми перинами орудия и зарядные ящики. Дверь караульного помещения вдруг отворилась, бросив в метель яркую призму света, в которой возникли и пошли прямо на меня две фигуры: разводящий и новый часовой.
Значит, третий палец был автоматически загнут и кончилась мучительная третья смена.
Через пять минут я уже спал глубоким, как забытье, летаргическим сном в караульном помещении на нарах, подложив руку под щеку, как в детстве, и мне снилось, что я летаю в какой-то незнакомой большой комнате под самым потолком, а когда проснулся, увидел избу, наполненную очень ярким светом позднего зимнего солнца; в печке трещал огонь, было тепло, даже жарко, караульные ели из котелков, и моя душа еще некоторое время никак не могла вернуться из ночных странствий.
«12-111-16 г. Действ, арм. Милая Миньона, примите эту несколько запоздавшую поэму в прозе.
Сижу. Перед глазами на фоне подземной черноты как бы вырезан огненный квадрат. Топится печка. Слышно, как бурлит вода в невидимом чайнике. Дрова почти прогорели, трещат, и поленья покрываются клетчатым пеплом. Под ними – угли, похожие на слитки расплавленного золота, которого я, по правде сказать, никогда в жизни не видел, но так мне представляется.
Огонь жжет глаза, губы, руки, волосы…
Сижу как слепой, вокруг ничего не разглядишь. Напрягаешь изо всех сил зрение и слева от себя улавливаешь (скорее угадываешь) бледный дневной свет, проникающий сквозь оконце размером с тетрадку для слов. Под оконцем на нарах – силуэт солдата, пишущего письмо, пристроив на колени какую-то досочку.
При еле проникающем в землянку дневном свете лицо солдата кажется бледно-зеленоватым.
Во тьме нашариваю папаху, перчатки. Куртку нечего искать: она всегда на мне, даже когда сплю. Ощупью выбираюсь на свет божий. После подземной тьмы даже бледный вечерний свет с такой силой бьет в глаза, что некоторое время передо мной плавают только как бы тени предметов, их обморочные отпечатки.
Весна. Справа шоссе. Оно обсажено очень старыми, еще по-зимнему голыми березами, слабо видными сквозь голубоватую мартовскую дымку. Под сапогами пружинит и всхлипывает, оттаивая, земля.
Воздух так влажен и нежен, что, кажется, пахнет фиалками. Но не теми темно-лиловыми бархатными пармскими фиалками, букетики которых продаются весной у цветочниц на углу Дерибасовской и Екатерининской, а теми дикими фиалками, которые я когда-то собирал на Малом Фонтане…
…Хилые, почти бесцветные цветочки, быстро вянущие, жалкие, но так нежно, неповторимо пахнущие весенней сыростью…
Кажется мне или на самом деле пахнет фиалками? Вряд ли. А может быть, и вправду… или это только…
Небо серое, бессолнечное. Вечереет. Не хватает только мирного великопостного звона. Я влюблен в весь мир. В жизнь, в весну, даже в ту сырость. Сердце мое готово раскрыться, как цветок, и ждет первого весеннего, теплого дождика.
На батарее веселье: играет гармоника и откуда-то взявшаяся скрипка. Танцуют мой взводный Чигринский и бомбардир Котко, маленький, чернявенький, в своей папахе из телячьего меха, чем и отличается от других солдат. Танцуют вдохновенно под прыгающие звуки полечки, положив руки на плечи друг другу и с силой топая сапогами мо еще не вполне оттаявшей земле, оставляя на ней отпечатки подметок, подбитых гвоздями.
Как-то весело и как-то грустно.
Ночь подходит; незаметно подкрадывается; синяя, зо-вущая к любви, к нежности. Загорается огонек ночной паводки: фонарик, привешенный на середине белого шеста дневной наводки, вбитого в землю несколько отдаленно позади орудий. При стрельбе днем отмечаемся по этому шесту, наводя на него оптический прибор, называемый панорамой, а еще лучше – выбираем в далеком лесу какое-нибудь отдаленное дерево. Чем дальше дерево, тем лучше создается наиболее точный угол прицела. А во время ночной стрельбы отмечаемся по нашему бессонному фонарику. Вам понятно? Наводимся назад, а стреляем вперед. Непонятно? Впрочем, это не важно. Вы мой бессонный фонарик. Простите за армейскую пошлость.
Милая.
Боюсь произнести: любимая.
Кому же в конце концов предназначалось это лирическое послание? Миньоне? А фиалки? А ранняя весна и великопостный звон?
«Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей блистанье…»
«7-Ш-16 г. Действ, армия. Миньона! В нашей землянке душно и дымно. Играют в лото. Со стороны третьей батареи доносится редкая орудийная пальба. Как у нас принято говорить, тюкают трехдюймовки. Звуки привычные.
Каждый выстрел, как тугой резиновый мячик, ударяет в наше маленькое окошечко, стекло дребезжит.
Ведется нескончаемая окопная беседа о женах, о детях, о родной деревне или о родном городе, о надоевшей войне, которой и конца не видно, о мире, о дороговизне в тылу… Мало ли о чем еще… Даже туманные намеки на грядущие политические перемены…
На минуту артиллерийская перестрелка стихает, и вдруг раздается сильнейший разрыв, даже скорее взрыв – словно кто-то швырнул в наше оконце горсть дроби. Высказывается предположение, что немецкий снаряд угодил в один из зарядных ящиков третьей батареи и снаряды взорвались.
Все тревожно замолчали.
Зловещий звук, который мы услышали, не был похож на обычные звуки артиллерийских дуэлей: выстрел, полет снаряда, разрыв. Было что-то другое.
– Побежать посмотреть? – сказал кто-то.
– А ну на самом деле…
Мы выбегаем наверх из землянки, оставив на дощатом столике в полном беспорядке фишки, карты, бочоночки лото.
По ту сторону шоссе над хвойной маскировкой третьей батареи стоит желтовато-черное облако еще плотного, нерассеявшегося дыма и пахнет горелой взрывчаткой.
– Что это? Разрыв?
– Да, и здоровый разрыв… на самой батарее.
…из окопа телефонистов вылезает старший телефонист. Все к нему:
– Что такое? Разрыв? Прямое попадание? Кто-нибудь ранен? Или убит?
Старший телефонист оглядывается – нет ли поблизости офицеров. Офицеров нет.
– Свой же снаряд, – говорит он, понижая голос – Разорвался перед самым дулом, как только вылетел, так и… ' Продают нас. Собственными снарядами уже бьют. Измена в тылу. Ранены наводчик и второй номер.
Наши батарейцы, у которых есть в третьей батарее земляки, встревожены.
Больше всех волнуются Колыхаев и Ковалев, у них у обоих близкие дружки там.
– Какого орудия наводчик ранен? Какой номер зацепило?
Но старший телефонист этого не знает.
– И сильно ранены?
– Один, говорят, сильно: распороло живот осколками. А другой полегче, хотя тоже крепко. Но не так чтоб…
– Слышь, узнай по телефону, кто ранен.
Мы расходимся по землянкам в томительной неизвестности. Тягостное молчание, уже ни играть в лото, ни разговаривать никто не может. Трудно смириться с мыслью, что разорвался свой же снаряд. Значит, тыл посылает нам бракованную шрапнель. А может быть, это и вправду измена?
У Колыхаева и Ковалева на лицах печать тревоги. Время тянется мучительно долго. Наконец в землянку спускается всеведущий разведчик.
– Ну что? Кто? – спрашивает Ковалев.
– Да недостоверно, – мямлит разведчик, отводя глаза от Колыхаева.
Но Колыхаев каким-то таинственным образом прочитал правду на отвернутом в сторону лице разведчика.
– Стародубец? – почти шепотом спрашивает Колыхаев.
– Он, – со вздохом отвечает разведчик.
– И сильно?
– Здорово.
Колыхаев бледнеет, и мне страшно видеть эту как бы пророческую бледность на его грубоватом рыжеусом лице рыбака с Голой Пристани. Стародубец – земляк и кум Колыхаева.
– Помрет? – спрашивает Колыхаев с деланным спокойствием: дескать, мы все здесь, на позициях, под богом ходим – сегодня тебя, завтра меня. – Помрет?
– Не скажу. Может, и вытянет. Хотя… Кто его знает… Доктор…
– А что доктор?
– Доктор ничего… Колыхаев берется за шапку.
– Надо идтить. – В дверях останавливается. – А кто еще? другой кто?
– Другой канонир Сурин, второй номер.
– А…
Больше ничего не говорит Колыхаев. Ведь Сурин не земляк Колыхаева.
Я иду вместе с Колыхаевым в третью батарею, которая как две капли воды похожа на нашу, только расположена в другом месте. Возле землянки Стародубца уже стоит бригадный экипаж, привезший доктора. Несколько батарейцев. Они почтительно и молчаливо пропускают Колыхаева в землянку. Задев папахой за бревно нижнего наката, Колыхаев спускается вниз. Я за ним.
На нарах, покрытых, как водится, ельником, лежит Стародубец, которого я еще никогда не видел. У него обыкновенное солдатское лицо, спокойное, но очень бледное, почти белое, как известь. Дневной свет скупо проникает в крошечное окошечко землянки и ложится на опущенные веки Стародубца, отчего они как бы отсвечивают смертельной зеленью. Возле него фельдшер и знакомый бригадный врач, громоздкий, рыжеусый, с вороньими глазами.
Фельдшер, тоже мне знакомый» тот самый, который недавно вкатил мне в лопатку шприц, делая противохолерную прививку, держит в руках таз с окровавленной водой. У его ног на земляном полу валяются вымоченные кровью тряпки. У Стародубца под вздернутой окровавленной гимнастеркой с Георгиевской медалью – туго забинтованный живот. Но уже сквозь бинт проступает кровь. Доктор держит Стародубца за руку и посматривает на свои серебряные часы, раскрытые, как раковина, считает пульс, но, видимо, пульс уже не прощупывается, так как тараканьи брови доктора хмурятся. Несколько человек собирают и увязывают вещи Стародубца: полотенце, мешочек с пайковым сахаром, пачки пайковой махорки, спички, узелок ржаных сухарей, приготовленных Стародубцем для отправки жене и детям в голодный тыл.
Никто не знает, умер уже Стародубец или еще жив.
В дверях – взводный офицер Стародубца, он смотрит на Стародубца умоляющими глазами и тревожно повторяет одно и то же: «Стародубец… Ну, Стародубец…» – словно хочет его разбудить.
Вдруг веки Стародубца вздрагивают и приоткрываются над изумленными зрачками, подернутыми туманом. По губам его под усами, такими же точно, как у нашего Колыхаева, проползает нечто вроде насильственной улыбки. Он узнает своего дружка и земляка Колыхаева и силится что-то сказать. Колыхаев наклоняется над ним.
– Ты что, Стародубец?… Ранен?
– Вот, Прокоша, видишь сам, – с величайшим трудом выговаривает Стародубец, двигая помертвевшими губами. – Прощай, кум… Пускай там напишут…
Его глаза закрываются.
Потом раненого с величайшей осторожностью и не без труда выносят из землянки наверх, в наклонном положении укладывают в экипаж и в сопровождении фельдшера и доктора увозят на станцию Залесье в госпиталь.
Хоронят Стародубца через два дня. Колыхаев возвращается с похорон голодный, злой и усталый. Он садится, пе снимая шинели, на земляные нары, вытирает мокрые усы и говорит:
– Так и так. Нема больше Стародубца. Был, а теперь нема.
Вдруг лицо его искажается, и он кричит сорванным голосом:
– Скажите мне кто-нибудь – кому все это надо? Немцы бьют. Свои бьют. Одно побоище вокруг. И кто ее выдумал, эту войну? Покажите мне этого христопродавца, антихриста! Я из него душу вырву… И когда это убийство кончится?
Потом он молча обедает, молча моет ложку, молча ложится спать. Во сне храпит и стонет. А вечером при свете коптилки диктует мне письмо в город Херсон, на Голую Пристань, жене Стародубца:
«Дорогая Прасковья Никифоровна, проливаю слезы и пишу вам известие, что сего числа и месяца…»
…разрыв собственного бракованного снаряда и смерть Стародубца вызвали у солдат глухое, видимо, долго скрываемое озлобление, смысл которого мне хотя и неясен, но очень меня тревожит. По-моему, в умах этих людей созревает что-то ужасное. Кажется, они верят в антихриста. Дай-то бог. Пошлю на всякий случай это письмо с нарочным, а не по полевой почте. А то не дойдет…
Мне уже, кажется, приходилось писать Вам, что наша батарея левее широкого шоссе, обсаженного очень старыми, даже уже почерневшими березами. Представьте себе, что это и есть то самое историческое шоссе Отечественной войны двенадцатого года, а березы эти кутузовские. По этому Виленскому шоссе, мимо этих самых берез отступала разбитая великая многоязыкая армия Наполеона.
Тогда вся война была на виду. Воины не зарывались в землю и не отыскивали скрытых мест, чтобы спрятать там свои батареи. Пушки стреляли прямой наводкой. Кавалерия красовалась на самых открытых местах, мигая на солнце саблями, пиками, яркими блестящими мундирами. Пехота шла сомкнутым строем и рассыпалась в цепь лишь в крайних случаях, уже дойдя почти вплотную к неприятелю. Артиллерия выезжала на возвышенности и оттуда била по хорошо видной цели без всяких наблюдателей и тем более телефонистов.
Теперь не то. Местность вокруг нас буквально напичкана воинскими частями, артиллерией всех калибров, пулеметными командами, минометами, огнеметами… А если средь бела дня обойти окрестности, то можно подумать, что попал на необитаемый остров: все ушло в землю, все тщательно укрывается и маскируется от хищных биноклей наблюдателей с аэропланов, привозных аэростатов, с верхушек деревьев. Неопытный человек (а то, пожалуй, и опытный) может пройти рядом с батареей и ничего не заметить. Коновязи с лошадьми спрятаны в лесных чащах. Пехота сидит в глубоких узких окопах, огражденная кольями проволочных заграждений, закиданных ельником, так что и не заметишь. Земля изрезана замаскированными ходами сообщения, извилистыми, ломаными, мудреными. Артиллерия таится на обратных склонах холмов, заставлена целым лесом срубленных елей, так что нащупать ее очень трудно. Почти невозможно. Но именно что почти. А «почти» на войне не считается.
Зато ночью все вокруг преображается. Откуда ни возьмись на дорогах появляются пехотные колонны, едут кухни, пулеметы, обозные и санитарные повозки, пароконные двуколки, передвигаются артиллерийские батареи.
Солдаты в сером, походном, защитном. Их массы. Они похожи один на другого. Даже лица их кажутся одинаковыми. Движение всю ночь.
Но при первых лучах зари местность как по мановению волшебного жезла опять превращается в необитаемый остров.
На шоссе, сравнительно недалеко от нашей батареи, местечко Сморгонь. Может быть, это даже не местечко, а город. Полулитовский-полубелорусский, место тоже историческое. Через Сморгонь, бросив армию, в двенадцатом году зимой, на легких саночках, в собольей шапке бежал Наполеон со взводом своих гусар.
Отступая из Восточной Пруссии, наша теперешняя армия дошла до Сморгони и здесь остановилась, прочно остановив наступление немцев. Здесь пролегает линия нашего Западного фронта, а мы просто называем это «у нас под Сморгонью». Ваш
Следующее письмо:
«9-III-10 г. Действ. армия…»
Я никогда не забывал украшать свои письма этой пометкой, еще тогда не потерявшей для меня свой особый смысл: она являлась доказательством моей причастности к великому событию неправой войны и, быть может, русской военной славы.
Ах как я был наивен!
«Дорогая Миньона! Опять передвижение. Из резерва мы перешли на позицию. Ввиду того что окопы и земляные сооружения оказались в неисправности, всю боевую часть отправили с шанцевым инструментом, то есть с лопатами, кирками, топорами и пилами, вперед, с тем чтобы мы поскорее исправили дефекты.
В два часа дня мы вышли. Представьте себе мокрый мартовский день, непролазную грязь, в полях едва-едва еще зазеленевшие озимые, а в сосновых лесах зеркальные лужи.
Если желаете увидеть меня о натюрель, извольте: грязная-прегрязная папаха (даже не верится, что некогда она была девственно белая), мешковатая шинель, тяжелый револьвер в потертой кобуре, малиново-красный револьверный шнур на шее, бебут на поясе, через плечо – противогаз, да еще к тому же на ручке бебута (нашего большого артиллерийского кинжала) в черных ножнах с медным шариком на конце болтается кружка, сделанная из пустой консервной банки, а за голенищем правого сапога деревянная ложка, порядочно уже облезлая и обкусанная.
Чем Вам не настоящий фронтовой солдат?
Шагаем прямо по четвертьаршинной грязи. Я повыше забираю и заворачиваю полы шинели, отчего делаюсь похож на страуса или в крайнем случае на кургузого аиста.
Весенний ветер задувает в ресницы.
Идет нас человек пятьдесят. Поручик Тесленко верхом на лошади провожает нас примерно версту, а потом поворачивает назад. Он, видно, устал: маленькое, пестрое, простонародное личико, как бы немного примятое, с припухшими от бессонницы глазами, лошадь – по брюхо забрызганная грязью. Вид совсем не воинственный. А ведь он герой. Человек очень храбрый. Почти легендарный. Солдаты про него даже песню сложили, как я Вам уже, кажется, писал.
Справа и слева слышны звуки каких-то боевых действий. Пулеметы не смолкают. Орудийные очереди. Отдаленные, слышные крики «ура». Но нас это пока не касается.
На следующий день после переселения на вновь отремонтированную позицию наша батарея ведет огонь по I закрытым целям. Впервые меня ставят наводчиком, и я, наведя орудие, выпускаю три снаряда. Телефонист, высу– | нувшись из своего окопчика, сообщает, что мои снаряды угодили в скопление немцев, которые тут же разбежались, оставив на месте несколько убитых.
Ночью внезапная тревога: «Батарея, к бою!» Опять стрельба. Стреляем много, часто, очередями, торопясь. Оказывается, мы отбили ночную атаку немцев.
Чувствую себя прекрасно. Даже не очень одиноко. Огрубел. Ругаюсь нецензурно и курю махорку. Зато поздоровел. Колю дрова. Хожу по воду. Да! Во время ночной тревоги впопыхах надел правый сапог на левую ногу, а левый на правую. Так и провел возле орудия весь бой.
Солдатский телеграф сообщает, что ожидаются большие события. Молитесь за Россию, которая, не жалея сил и крови своих сынов, оттягивает немецкие корпуса с запада, с французского фронта из-под Вердена. Спасаем Париж!
Получил Ваше письмо. Спасибо. Оно согрело меня, а это очень кстати: в землянке сыро, холодно, со стен течет, спать можно лишь согнувшись, да, кроме того, единственное стеклышко окна разбилось от звуков стрельбы, и теперь сидим в темноте, так как пришлось заделать дыру доской. Пишу кое-как. Дорогая Миньона, в Вашем письме поразительно верно сказано о моей теперешней и прежней жизни. Именно такое сознание и у меня: что-то навеки потеряно. Вспомнил, что еще прошлым летом, в прошлой жизни, нацарапал стишки, которые вдруг вспомнил:
«Перед вечером дорожки покропил июльский дождик, застучали тихо капли мелкой дрожью по асфальту. Перед вечером над книгой я задумался в качалке. Сонно, сумеречно, грустно было в комнатах прохладных. Я о чем-то светлом думал, я о ком-то дальнем думал, и с востока незаметно подошел душистый вечер, нежно пахло маттиолой. Дождь прошел. И небо в звездах черным зеркалом казалось, отражавшим душный город разноцветными огнями, а в раскрытое окошко, прилетев на свет из сада, мотыльки кружились плавно над зеленым абажуром».
Тогда я, каюсь, был немного в Вас влюблен. Помните мое идиотское объяснение в любви у Вас на балконе осенью? Но почему же «я о ком-то дальнем думал»?
А славное все-таки было время. Но его уже никогда не вернешь. А сейчас у меня радость: выдали сахар. Пишите же.
По этому письму я мог заключить, что кроме того, что я продолжал попытки втянуть Миньону в любовную переписку, меня уже обмундировали, как полагалось по уставу (кроме папахи). И уже перестал быть волонтером-охотником в духе толстовского Оленина из «Казаков», а приобрел вид Грушницкого из «Героя нашего времени». Мне наконец выдали отличную, по-артиллеристски длинную шинель с черными петлицами, обведенными красным кантом. Мне повезло. Незадолго до моего прибытия в бригаду, осенью 1915 года, как раз где-то в районе станции Залесье или, может быть, Молодечно состоялся высочайший смотр войск Западного фронта, куда входила 64-я артиллерийская бригада. Для царского смотра солдатам выдали новые шинели, пошитые из сукна высшего качества, хотя и солдатского, так называемого гвардейского. В цейхгаузе осталось несколько таких шинелей, и мне досталась именно такая шинель с суконными погонами, на которых масляными красками по трафарету была изображена цифра 64 и над ней две скрещенные пушки; слой краски был такой толстый, что даже, высохнув, потрескался, придавая повой «смотровой» шинели вид как бы уже побывавшей и боях.
Подобные шинели солдатского гвардейского сукна без пуговиц, а на крючках были очень в моде, и их носили по примеру государя императора почти все не только обер-, но также штаб-офицеры и генералы-фронтовики, щеголяя своим солдатством. Шинели были так скроены, что грудь их, застегнутая на невидимые крючки, казалась особенно красиво выпуклой.
Таким образом, моя меховая куртка была отменена, а желтый офицерский пояс заменен черным солдатским с медной бляхой, украшенной все теми же двумя скрещенными пушками. Белую романтическую папаху, ставшую довольно грязной, оставил до весны, до перехода на летнюю форму одежды. Юфтевые сапоги оставил тоже, хотя они имели неположенные ремешки на голенищах.
Я принял наконец вполне пристойный вид настоящего скромного артиллериста-фронтовика, вольноопределяющегося, солдатские погоны которого в портняжной команде бригады обшили черно-желтым шнурком, что соответствовало моему первому разряду. Выдали мне также бязевое исподнее с черными штемпелями воинской части – кальсоны с одной оловянной пуговицей и нижнюю рубаху с тесемками на вороте.
Что же теперь осталось от прошлого? Разве только киевский крестик на тонкой серебряной цепочке, который болтался на моей худой, еще мальчишеской шее, да рядом с ним ладанка, маленький холщовый мешочек с зашитым в нем зубком выветрившегося чеснока, – общепринятое средство от скарлатины. Домашнее мое исподнее белье пришло в ветхость. В сущности, от него остался лишь клочок кальсон с двумя оловянными пуговичками, обшитыми полотном, с дырочками, смотревшими, как детские глазки. Ноги мои в вечно сырых нитяных карпетках болтались в сапогах и всегда мерзли и натирались. Теперь же по милости фельдфебеля Ткаченко, тонкого политика, мне выдали особенно редко кому попадавшиеся портянки, но не полотняные, а суконные, обширные. Научившись обматывать ими ноги, что оказалось весьма непростой наукой, я вбил ноги в сапоги и сразу почувствовал себя человеком: ноги уже не мерзли, были в тепле, не болтались в сапогах, а угрелись, как малютки, укутанные в шерстяные одеяльца. Хорошо было бы еще надеть на сапоги шпоры, но, увы, шпоры полагались только фейерверкерам, а до фейерверкерских нашивок следовало еще дослужиться. А пока что я был по званию всего лишь рядовой, называвшийся в артиллерии канониром. Меня утешало, что «канонир» звучало гораздо эффектнее, а главное, непонятнее, чем серое слово «рядовой». Штатские люди даже могли посчитать канонира кем-то вроде офицера. Но с точки зрения старых солдат, канонир был всего лишь самым младшим солдатским званием, как говорилось в армии, серая порция.
Я был всего лишь серой порцией, и это печально.
Мой чемодан, набитый сахаром, папиросами, печеньем «эйнем» и множеством всякой домашней чепухи, по мнению тети и папы, необходимой для фронтовой жизни, скоро заметно отощал, сахар съеден, папиросы выкурены, глицериновое мыло смылилось, бумага исписалась.
Теперь я зависел исключительно от солдатского пайка и от посылок из дому. Паек был хороший, артиллерийский, но сахара никогда не хватало. Дома я привык потреблять много сахара, бросал в стакан чая по два или три куска, то есть по солдатским понятиям пил чай внакладку (неслыханная роскошь), так что за один день выходило кусков пятнадцать, половина месячной порции. А потом сидел на бобах и пил чай без сахара. Никто из солдат не пил чай внакладку. Это почиталось величайшим, непростительным барством, офицерской, дворянской привилегией.
Солдаты пили чай вприкуску, держа в зубах крошечный осколок рафинада, которого хватало на несколько кружек и даже иногда остававшегося на потом, до следующего чаепития. Большинство же пили чай даже не вприкуску, а вприглядку, то есть только смотря на кусочек сахара, а свой сахарный паек копили в холщовых мешочках, с тем чтобы при первой оказии послать домой, где сахар с каждым днем дорожал и вообще считался недоступной роскошью.
Когда я бултыхал в кружку большой кусок колотого рафинада, мои товарищи по орудию многозначительно переглядывались не то с осуждением, не то с восхищением: вот, мол, хоть и простой канонир, хоть и вольноопределяющийся, а позволяет себе вроде офицера. Ничего не поделаешь, как-никак барин, привык пить чай внакладку.
«Ну, конечно, когда, даст бог, выйдет из вольноперов и прапорщики, тогда заживет!»
Несмотря на все мои попытки внушить товарищам-батарейцам, что я живу на солдатском положении из соображений высокого патриотизма, желая разделить с простым народом все тяготы войны, солдаты меня хотя и не опровергали, но про себя знали, что «их Саша» тянется в прапорщики и скоро дотянется, так как имеет сильную руку в лице генеральской дочки.
А в общем, орудийцы, присмотревшись ко мне, приняли меня за своего и даже научили хорошо колоть дрова – вещь не простая.
«Я научился ровно и глубоко всаживать топор в сосновый чурбачок, поставленный на попа. Не без усилия вскидывал этот чурбачок вместе с топором вверх, поворачивал над головой и с силой обрушивал на землю, причем чурбачок разваливался пополам, и я лихо колол его половинки на отдельные поленья, так замечательно пахнущие скипидаром. При этом в крепком морозном воздухе раздавался музыкальный звук лопающегося дерева. Я и белье научился стирать казенным казанским мылом, серым с синими прожилками, так что и синьки не требовалось…»
(Я, извините за грубость, бегал до ветру и, сидя довольно далеко от батарейной линейки над очком специально отрытого нужника, кряхтя и по-солдатски повесив на шею ремень, отчаянно боялся, что именно сейчас начнется обстрел, налетит немецкий снаряд и я буду убит при столь постыдных обстоятельствах. Так что, едва справив нужду, я поскорее возвращался, застегиваясь на бегу, при общем добродушном смехе батарейцев…)
«16-111-16 г. Действ, армия. Милая Миньона! 14 марта батарея говела. Возле козырька, под которым стоит первое орудие, устроили нечто вроде иконостаса из срубленных елочек и установили походный алтарь. Расчистили площадку и посыпали ее песком. Утрамбовали. Над орудием арка из хвойных веток и над ней буквы, сплетенные тоже из хвои: Б. Ц. X. (Боже царя храни.) Ранним утром нас вызвали из землянок в «церковь».
Очень пасмурный, дождливый, пронзительно-холодный день. Вокруг непроницаемый туман. Дождь пополам со снегом и ледяной крупой, которая бьет по лицам и спинам. На площадке толпа серых шинелей, потемневших от дождя. Вхожу в эту толпу; стоим лицом к хвойной арке, откуда, из-под козырька орудия, доносится голос бригадного священника. Он громко читает молитву. После этого мы по очереди подходим к походному окладному алтарю: высокие козлы с брезентовым верхом, где лежит Евангелие. Видно, как священник, в теплой рясе с каким-то военным орденом, взмахивает епитрахилью, накрывает чью-то стриженую солдатскую голову, кладет на нее крестное знамение и наскоро бормочет невнятную формулу отпущения грехов, в которой улавливаю только «да простит господь бог». Склоненная голова без головного убора поднимается, рука крестит лоб, и фигура в мокрой шинели, согнувшись, отходит в сторону, давая место другой мокрой фигуре.
Собственно, исповеди никакой нет. Одна формальность. Все делается быстро, по-походному. Вот тебе и отпущение грехов. А каких, собственно, грехов? Какие грехи у солдат?
По окончании исповеди минут через пятнадцать краткая речь священника отца Аркадия и сейчас же без промедления причастие, совершающееся так же быстро, автоматически, как и исповедь.
Три солдата почтенной наружности – два баса и звенящий тенорок – поют нечто великопостное, и от этого пения в душе у меня вдруг начинает звенеть какая-то забытая с детства струна».
…что-то увиделось, как тогда в трамвае… Великопостная синева церковных окон, лампады, стройное тихое пение хора, запах ладана…
«Потягивало ладаном. Солдат, исполняя роль церковного прислужника, машет огнедышащим кадилом. Все причащаются, и я тоже причащаюсь теплым кагором и крошкой белого хлеба, превращенными в тело и кровь Христовы.
Причащаюсь и отхожу в сторону.
И от всего этого у меня осталось впечатление склоненных, коротко остриженных солдатских голов с красными от холода ушами, на мочках которых висят капельки дождя, как сережки.
Вокруг уже не моросящий, а проливной дождь, и скука в землянке, и чувство неловкости и даже стыда от этой евхаристии перед орудием, украшенным хвойными гирляндами.
Вспомните же дождливый день в конце некоего августа на даче, срывающий все планы на свиданье в садовой беседке!
Наш бревенчатый потолок как нарочно протекает над моей головой. А назавтра – вдруг! – солнечный день без единого облачка. Нет, Миньона, Вы только представьте себе: настоящая русская северная весна, словно бы картина из «Снегурочки». Звенят жаворонки. Кричат вороны. Все вокруг ослепительно блестит: лепечут бриллиантовые ручьи, ключи, речки, сияют озера. Из каждой лужи бьет в глаза солнце. В каждом солдатском зрачке – весна. Даже колесо белорусского колодца, из которого я набираю в ведро воду, скрипит и поет, как свирель Леля.
Господи, как прекрасен мир, а мы…
Если бы мне пришлось нынче умереть, я, пожалуй, пожалел бы о своей жизни, о молодости, о любви.
Неприятельские аэропланы, перестрелка, озера небесного цвета. Война!
Кто же все это смешал воедино, какой антихрист?
Ваш
А вот следующее письмо:
«11 мая 1916 г. Действ, армия. Пожалуйста, пришлите мне свою фотографическую карточку…»
Однако в чем дело? Почему такой длинный перерыв в переписке? Ах да! Я все-таки добился, конечно не без содействия Миньоны, командировки и провел пасхальную неделю в тылу, в родном городе, дома.
Об этой пасхальной неделе у меня сохранились самые смутные воспоминания, хотя осталось общее представление, что именно в этот короткий период в моей душе произошел какой-то странный поворот, а телесно я превратился из юноши, почти мальчика в молодого мужчину, и этому возмужанию содействовало все вместе: и яркая южная весна, и пасхальная неделя, которую я провел совсем не так, как предполагал, а главное, то ощущение причастия, которое я принял еще на страстной неделе в действующей армии перед походным алтарем, поставленным возле орудия смерти, на батарее, с непокрытой, коротко остриженной головой, мокрой от дождя пополам с мартовским снегом.
Меня не покидал серебряный и винный вкус причастия, которое торопливо сунул мне глубоко в рот бригадный священник. Впервые в жизни я не испытал таинственного страха, восторга и умиления, принимая святую частицу тела Христова и каплю теплой его крови. Я как бы почувствовал в тот миг, что это мое последнее причастие и отрешение от церкви. Я еще не сознавал, что со мной случилось нечто непоправимое: потеря веры. Веры уже не было. Ее убила война. А церковь еще продолжала меня волновать всеми соблазнами пасхальной заутрени, бумажными цветами, кострами свечей, перевитых тончайшими сусальными парчовыми и глазетовыми ризами священнослужителей, резкими восклицаниями хора, восторгом воскресения того, кто, «смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав…».
Не знаю, даровал ли он живот, то есть жизнь, мертвому Стародубцу и тем солдатам, которые тогда ночью лежали на снегу в лужах крови…
В эту пасхальную ночь я отбросил все мучительные мысли. Судьба несла меня куда-то, не спрашивая, хочу я этого или не хочу. Все сделалось вопреки моим намерениям.
…бренча неположенными мне по званию шпорами, купленными в галантерейном магазине, подтянутый, без шинели, впервые в жизни побрившийся в парикмахерской, где меня щедро обрызгали цветочным одеколоном, я окунулся в теплую мглу южной пасхальной ночи, озаренную огнями плошек, свечей, бумажных и стеклянных трехцветных коронационных фонариков, которые все же не могли затмить созвездий, висевших над городом. Созвездия как бы колыхались от слитого колокольного звона, гудевшего над крышами и ходившего тяжелыми волнами.
Не помню уже, каким образом, но я очутился в кладбищенской церкви за Привозом, среди толпы празднично разодетых мещан, христосующихся друг с другом. Незнакомая, не слишком юная девица с наркотическими глазами, прижатая ко мне толпой, сказала:
– Христос воскресе, солдатик!
Мы трижды поцеловались, и ее напомаженный рот оставил на моем лице неизгладимые следы.
Под ее праздничной кофточкой трещал корсет всеми твоими пластинками китового уса, и матерчатая роза уже вываливалась из прически а-ля Вяльцева. На ее грубо нарумяненной щеке рядом с несколькими точками невыдавленных угрей была прилеплена модная в то время мушка. Модница, подумал я, и мы, пробиваясь сквозь толпу, выбрались из храма на свежий воздух, под звезды, и она, крепко взяв меня за руку своей грубоватой рабочей рукой, новела в глубину кладбища, отыскивая глазами подходящее местечко, которое было не так легко найти: всюду сидели и лежали парочки. На некоторых могилах горели свечки. Под ногами хрустела скорлупа пасхальных крашенок.
Мы быстро добрались до кладбищенской стены, где в конце кладбища уже начали хоронить погибших на фронте военных летчиков, ставя на их свежих могилах вместо обычных крестов скрещенные пропеллеры. Здесь было глухо, безлюдно, черно и пахло фиалками.
Мы разговелись салом, крупными крашеными яйцами и несладким куличом в ее маленькой комнатке, оклеенной цветными картинками из пасхальных номеров иллюстрированных журналов.
Пасхальная командировка, на которую я возлагал столько надежд, обманула меня. С Ганзей я не увиделся, так как она уехала на праздники в деревню, в имение ее отца. Миньона выздоравливала после инфлюэнцы и ходила закутанная в оренбургский платок. Дома тоже было неладно. Тетя переехала в Полтаву. Отец постарел. Жильцы, которых пустили в свободные комнаты, не платили денег.
Казалось, что все в мире разладилось…
«Простите, что до сих пор не писал Вам. Мне нет оправдания. Почему не писал? Сам не знаю. Просто так. Никому не писал. О том, как я доехал до позиций, можете судить по стишку, приложенному к этому письму. У Вашего отца я был. Он обошелся со мной очень приветливо, и меня удивляет, почему, Миньона, Вы всегда рисуете его этакой грозой всех Ваших поклонников. Ничего подобного! Если же это так, то я исключение. Он поинтересовался, как я провел в тылу пасхальную неделю, беспокоился о Вашем здоровье, спросил, почему я до сих пор не произведен в бомбардиры, и даже поинтересовался, прислали ли мне на станцию лошадей. Он расспрашивал обо всех молодых людях, бывающих у Вас в доме, в частности припомнил верного рыцаря Вашей старшей сестрицы, небезызвестного красавца студента. Ох, чувствую я, что скоро Ваша старшая сестрица сделается мадам Ольшевской.
В батарее у нас нового мало. Все по-прежнему, если не считать, что перестроены окопы, блиндажи и землянки. Стоим на прежней позиции. Чего-то ждем. Зеленеют березы. Вечера стоят тихие, розовые, какие-то необычайно чуткие. Появились майские жуки, которые поют в воздухе, как виолончельные струны. В полях какие-то простенькие цветочки: желтые, розовые, белые, голубые. В лесу есть фиалки, но они почти не пахнут, а так, лишь чуть-чуть. Раскручивается молодой папоротник. Вероятно, скоро будут ландыши, уже предчувствуешь их тонкий водянистый запах. А потом пойдут и грибы. По крайней мере, в темных глубинах леса появился грибной дух.
В городе Сморгони, который от нас в сторону неприятеля за две с половиной версты, вокруг разбитых домов, среди развалин буйно цветут сирень, конские каштаны.
Пользуясь сравнительным затишьем, я часто хожу в Сморгонь.
Эти путешествия связаны с некоторой опасностью, но так жутко интересно. Город разбит вдребезги. Повсюду из груды мусора и обгорелых балок выглядывают где уцелевшая стена с обоями, где высокая кирпичная труба. Тишина вокруг поразительная. Тишина небытия. А сады благоухают так, что с ума можно сойти. Одурманивают. Развалины заросли бурьяном. Жутко бродить по изломанным деревянным тротуарам. Город небольшой, захолустный. Идешь мимо какого-нибудь провинциального особнячка с дырами вместо окон, заглянешь в палисадник, где как ни в чем не бывало разбушевались сирень и жимолость, и живо представляешь себе, как в этом самом палисадничке еще совсем недавно, в мирное время, мечтала какая-нибудь барышня литовочка или белоруска с косами белыми, как лен. Может быть, даже и целовалась с каким-нибудь студентом, приехавшим сюда на летние каникулы, или с юнкером местного сморгонского юнкерского училища, так называемым шморгонцем.
…наломаешь себе огромный-преогромный букетище сирени всех оттенков синего, лилового, розового цветов – и по глубокому ходу сообщения тащишь его домой, на батарею.
Вокруг леса, сосновые – синеватые, березовые и ольховые – янтарно-зеленые против солнца. А вечер розовый. Идешь – и в сердце грусть оттого, что некому бросить в окно этот роскошный букет сирени. Понимаете, как это печально, что
Вспоминается детство, когда я крал в чужих садах сирень и, ужасно смущенный, носил ее черноволосой девочке Тане, прилежно учившей уроки под окном, поглядывая на меня, стоящего возле дома с большой рогатой веткой краденой персидской сирени в руке.
Одиноко!
Придешь домой на батарею. Уже темнеет. Вокруг заброшенные поля. Давно уже не кошенные жита и овсы. В родной землянке товарищи мои, орудийцы. Наберешь в бак для каши воды, поставишь в него букет, сидишь на нарах и нюхаешь. Какой чудесный запах сирени! Немножко горький, миндальный, неповторимый.
А сколько этот запах вызывает воспоминаний!»
Описывая свое хождение за сиренью, я почему-то умолчал о главном. О том впечатлении, которое произвел на меня полуразрушенный костел. Проваленная черепичная кровля на трубах поверженного органа, разломанная раковина кропильницы, остатки раскрашенного деревянного распятия, опрокинутая кафедра – все это лежало на полу среди каменного мусора, покрытое остатками стрельчатых готических окон, напоминающих рыбьи кости.
Я стоял по колено в мусоре, среди подавляющей тишины этих руин, тишины, быть может, еще более оглушающей, чем взрывавшиеся здесь фугасы.
Казалось, отсюда было изгнано все живое, в все-таки из трещин уже пробивалась какая-то растительность, скользнула ящерица. Дух божий продолжал присутствовать здесь, ограниченный с четырех сторон остатками готических колонн.
Прижимая к груди букет сирени, я сел на камень и как бы слился всем моим существом с могущественной тишиной разрушенного храма, тягостной, как обвинительный приговор, вынесенный не кому-нибудь другому, а именно мне. Я был обвиняемый. Моя вина была огромна и доказана. Я признавал свою вину, еще не понимая, в чем она заключается. Я только смутно подозревал: неужели судьба выбрала именно меня стать последней каплей безумия, охватившего мир?
Это я, мальчишка, второгодник, бездельник, молил у судьбы бурю. Это передо мной тянулась бесконечная, как загробная жизнь, безлюдная, раскаленная улица, и я требовал у бога войны. Неспособный к созиданию, я стал разрушителем.
Теперь все в мире по моему хотению рушилось, как обрушились эти готические своды, на обломках которых валялось раскрашенное распятие с ярко-красным сердцем, нарисованным на грудной клетке распятого.
Не я ли убил христа? Не я ли был от рождения антихристом?
Эта догадка привела меня в ужас, который вспыхнул, как взрыв, и, не успев меня испепелить, вдруг погас и был мгновенно забыт, как слишком мучительное сновидение.
Что-то приснилось угнетающее, чего уже невозможно было вспомнить, проснувшись. Может быть, меня постигло мгновенное умопомешательство, умоисступление?…
«Был у нас бой. Несколько раз батарея попадала в такой переплет, что господи упаси! Например, немец бил но батарее шестидюймовыми бризантными и фугасными снарядами. Я сто раз умирал и сто раз воскресал. После обстрела вся площадь батареи оказалась изрытой, исковерканной, перепаханной, засыпанной кучами сырой земли. Ни одного живого места! Снаряды рвались за четыре-пять шагов от нашей землянки. И самое удивительное, что ни одного человека не только не убило, но даже не оцарапало.
В землянку телефонистов угодил снаряд – только щепки вверх полетели, оставив лишь глубокую яму, но, представьте себе, в землянке, на счастье, не оказалось ни одного человека: все были «в гостях» в первом взводе у земляков, которые только что получили посылку из дома и угощали их нежнейшим домашним свиным салом, завернутым в хустку.
Осколок от первого же снаряда, налетевшего внезапно, пока я еще не успел укрыться в блиндаж, попал в меня, но так как снаряд разорвался далеко, тупой осколок был на излете и просто стукнул, как камень. Даже не разорвал гимнастерку. Только синяк. Кровь, к сожалению, не пошла, а то подумайте – ранен и остался в строю. Верный Георгиевский крест! Досадно.
А бомбардира мне до сих пор не дают. Пустяки. А в команду связи телефонистом не назначают. Это уже не пустяки, это штуки Тесленко, который, кажется, меня почему-то невзлюбил.
Сегодня описывать наш батарейный быт не хочется.
Ходят слухи, что командиром нашей батареи назначается капитан Де Спиллер, а поручику Тесленко дают штабс-капитана и оставляют старшим офицером. Пожалуйста, напишите, знаете ли Вы Де Спиллера, и если знаете, то сообщите, что это за человек? Каков у него характер? И вообще…
Ради бога, пишите. Мне никто не пишет. Все меня забыли.
«Чем дальше от юга и моря, тем в сердце спокойней и проще, тем в сердце спокойней и проще и сердце полно тишиной. В открытые окна вагона дышали весенние рощи, дышали весенние рощи прохладой и мокрой землей… Заря занималась сквозь слезы, туманы скользили по елям, и пели в садах станционных, в росистых садах соловьи…»
Не сердитесь на эти дилетантские стишки, где смешались две пасхальные поездки: с фронта в тыл и из тыла на фронт. Я ведь ни на что не претендую. Но они посвящаются Вам. Вы же знаете, что я Вас люблю».
И тут я соврал.
«Нет, не тебя так пылко я люблю…»
«На одной станции на рассвете я увидел на платформе дво фигуры, стоящие под высоким деревом с шапками вороньих гнезд. Это была курсистка в маленькой шапочке пирожком и рядом с ней студент с длинными семинарскими волосами из-под фуражки.
Около них виднелся жалкий багаж: баульчик, плед с подушками, затянутыми двумя ремнями с деревянной ручкой, стопка книг. Кто они? Куда едут? Что ждет их в жизни? Брат и сестра? Жених и невеста? Я увидел их заспанные счастливые лица, чуть тронутые приливающим светом весенней зари, такие милые, такие русские, такие провинциальные.
Но паровик свистнул, эхо полетело куда-то в лесную даль, и эта жанровая картинка, как бы специально написанная художником-передвижником для весенней выставки, поехала назад и скрылась навсегда, оставив в сердце чувство умиления и странной горечи.
Извините за лирические отступления. Ваш А. П.».
И вот опять начались мучительные приливы неразделенной любви. Как же это все-таки случилось? – в сотый раз задавал я себе праздный вопрос. Ну, ходили за фиалками. Ну, когда она сняла шапочку, коса раскрутилась, рассыпалась, и на ее незаметное лицо упали волосы с золотистыми кончиками… Ну, потом я стал подниматься к себе на четвертый этаж, машинально считая ступеньки, что сохранилось у меня с детства, так же как привычка переступать через тени деревьев: между первым и вторым этажами было сорок четыре ступеньки, а между остальными по сорок пять. Лестничный марш с четным количеством ступенек считался счастливым, а с нечетным – несчастливым. Но в тот вечер все лестничные марши казались мне счастливыми потому, что меня как бы незримо сопровождала Ганзя или, во всяком случае, ее душа, в то время как она сама, ее телесная оболочка осталась внизу пить чай у Калерии и Вольдемара.
Не зажигая огня и не снимая шинели, я распахнул окно в своей крошечной отдельной комнатке и боком сел на подоконник. С моря дул ровный ветер, и казалось, что звезды дрожат не то от этого ветра, не то от весенней сырости.
Я перегнулся вниз до тьмы черного двора, куда падал свет из окон первого этажа, где в данное время находилась Ганзя и, вероятно, пила чай вместе с Калерией и Вольдемаром. У меня закружилась голова, плечи дрожали, я боялся упасть вниз с четвертого этажа. Я еще не вполне оправился после скарлатины, которой переболел зимой, и поход за фиалками был первой длительной прогулкой после выздоровления.
Красивую, но носатую Калерию я отверг, а с ее братом Вольдемаром сблизился.
Вольдемару уже пошел двадцатый год, и он казался мне вполне взрослым мужчиной, чуть ли не пожилым человеком с черными усиками и небольшими, косо подбритыми бачками, хотя, в сущности, он был таким же гимназистом, как я сам. Он учился туго, часто оставался на второй год, хотя был усидчив, педантичен и старателен. В его высоком, как бы сломанном голосе, стройной, несколько старообразной фигуре, волосатых руках, в правильном красивом лице и тщательной прическе было что-то, как мне тогда казалось, приказчичье.
…Такие молодые люди обыкновенно играют на мандолинах…
У него был высокий тенор неудачника, и когда он пел своим надорванным фальцетом романсы, то непременно на самой высокой ноте или срывался, или до того вытягивал шею, будто хотел дотянуться прической до потолка. И когда Вольдемар пел для гостей под аккомпанемент сидящей за пианино Калерии, я испытывал за него чувство неловкости.
Кроме того, будучи в душе натурой артистической, Вольдемар считал себя художником и писал масляными красками разные картинки, злоупотребляя черной краской в неразбавленном виде. Когда же я говорил ему, что чисто черного цвета в природе, а особенно в живописи, вообще не существует, то он мне снисходительно, как старший младшему, улыбался и, показывая на свои гимназические брюки, говорил своим высоким тенором:
– А брюки, по-вашему, какого цвета?
И был уверен, что прав и остроумен.
Рисовал он – именно рисовал красками, а не писал – главным образом портреты вымышленных красавиц или пароходов в открытом море, очень тщательно вырисовывая в женских портретах черные прически, брови и глаза, а в пароходах – мачты, спасательные круги, снасти, шлюпбалки, иллюминаторы и клубы очень черного дыма, выходящего из наклонных труб. На спасательных кругах особо тонкой кисточкой он выводил славянской вязью название парохода: «Русь», «Варяг» или что-нибудь вроде этого, патриотическое, – а также изображал бело-сине-красный кормовой флаг, как бы желая еще больше подчеркнуть свой патриотизм.
Волны у Вольдемара на картинках всегда выходили светло-зелеными, зубчатыми, с зигзагами пены – в духе Айвазовского.
Пароходы и море изображал он с таким знанием дела потому, что отец его плавал на пароходах Добровольного флота старшим механиком, и я иногда видел его во дворе, по которому он проходил, отправляясь в рейс, в черной военной фуражке с белыми кантами, по-нахимовски надвинутой на затылок, в короткой, как бы горбатой, тоже нахимовской шинели, держа в руке загадочный ящичек палисандрового дерева, содержащий в себе какой-то драгоценный прибор особой точности.
Вольдемар до страсти любил сниматься и дарил свои фотографии знакомым с цитатами из Кольцова или Апухтина. Снимался он на Дерибасовской улице в «Электрофотографии» и всегда в разных позах, но с одинаковым выражением красивого лица. Несмотря на нашу видимую дружбу, я и Вольдемар никак не могли сойтись на «ты» и говорили Друг другу «вы», в чем заключалось нечто тайно-враждебное.
Калерия сразу же поняла, что сделала непростительную ошибку, затеяв глупейшую прогулку за фиалками и познакомив меня с Ганзей. Ей стало ясно, что я потерян для нее навсегда.
Случилось то, что не могло не случиться.
Как только Ганзя стала перечесываться и Калерия посмотрела на меня, она поняла все даже раньше, чем понял это я. Слезы покатились по ее прелестным щекам и по крыльям большого носа.
Но уже было поздно и ничего нельзя было поправить.
…Я сидел на подоконнике и упорно думал о Ганзе. Она уже полностью овладела моей душой. Почему? Кто на это ответит? Быть может, это самая великая тайна жизни.
Мне представлялось, что я нахожусь на пороге прекрасной, небывалой любви. У меня на душе было так чисто, ясно, просто, я не сомневался, что стоило бы Ганзе приглядеться ко мне, узнать меня поближе, то она сразу бы полюбила меня, потому что я особенный, я почему-то ни на миг не сомневался.
Эта уверенность была во мне так крепка и естественна, если можно выразиться – так врожденна, что я не только пе пытался ее объяснить, но даже вряд ли ощущал ее в себе. Она была таинственной предпосылкой моего бытия, нечто как бы дарованное мне какой-то высшей силой.
Впоследствии я понял, что появление мое на свет божий от меня не зависело, так же как от моей воли не зависело ничто.
Все зависело от случайных обстоятельств. Необъяснимые обстоятельства сделали меня единственным и неповторимым, точно так же как единственным и неповторимым чувствует себя каждый человек, появившийся в мире.
Высшие силы распоряжались моей судьбой. Высшими силами были обстоятельства. Даже любовь явилась следствием не зависящих от меня обстоятельств ранней весны, морского ветра, мигающих звезд, освобожденных из-под котиковой шапочки волос и шпилек, набранных в бесцветные, скорее женские, чем девичьи, губы.
Она все время была рядом с ним невидимкой.
То, что она была почти невестой Вольдемара, не имело для меня никакого значения, потому что я в это не верил, не мог верить. Мне казалось, что я уже давно, с незапамятных времен, знаю и люблю Ганзю, что было бы странно, если б я не любил ее, что ее нельзя не любить и я буду ее любить всю жизнь, как бы длинна моя жизнь ни оказалась.
Стало холодно.
Я слез с подоконника и захлопнул окно, в стеклах которого мелькнули и закачались звезды. Я включил электричество, и моя крошечная комнатка с выбеленными стенами, предназначенная, по мысли архитектора, для прислуги, но доставшаяся мне, так как кухарку переселили в кухню, показалась мне такой же особенной, неповторимой, каким был я сам, отгороженный от всего мира.
Я положил локти на жиденький письменный столик рыночной работы с неряшливыми гимназическими учебниками и тощими тетрадками, погладил свой нафиксатуаренный пробор и решил, что новое положение впервые в жизни полюбившего человека обязывает меня завести дневник и подробно описывать в нем все свои чувства. Все так делают. По обстоятельствам всеобщности я уже неоднократно начинал дневник и тут же бросал его за неимением значительных, важных событий жизни, а также за неимением мыслей.
Теперь же со мной случилось не только нечто важное, значительное, но единственное на всю жизнь, и мне захотелось немедленно же выразить то странное душевное состояние, в котором я находился. Я вынул из ящика новенькую, еще скрипучую общую тетрадь в черном клеенчатом переплете, купленную специально для домашних работ по алгебре (красный обрез, страницы в клетку), развернул ее слипшиеся листы и на первой странице написал красивым почерком: «Дневник Александра Пчелкина». Затем подумал и написал внизу: «Весна 1914 года».
Подождал, когда чернила высохнут, перевернул страницу и задумался. Только что мне казалось, что повествование о любви с первого взгляда польется само собой, а теперь находился в затруднении, не зная, что же, собственно, нужно писать, с чего начать. Не худо бы, думал я, все, что случилось, изобразить по порядку: сначала как я пришел к Вольдемару и Калерии и вдруг увидел в столовой незнакомую девочку-гимназистку Ганзю, как мы познакомились и как она сказала: «А я вас представляла по описаниям Калерии совсем другим». Потом поход за фиалками и прочее.
Однако в этом не было ничего достойного тех чувств, которые охватили меня. Значит, следовало начать как-то иначе. Но как? Начну просто, подумал я, – я полюбил, а потом уж пойдет все само собою: как? почему? когда?
Я тер голову руками, но так ничего и не мог придумать, потому что на самом деле писать было не о чем.
Я старался сосредоточиться, силился представить себе Ганзю, описать ее возможно подробнее, объяснить, почему я ее полюбил, а вместо этого мне представлялась желтая полоса зари за каким-то цветоводством, бегущие трамвайные столбы, деревья, Калерия в касторовой форменной шляпе, весело рассказывающая про какую-то гимназическую подругу, толстую дурочку, перепутавшую что-то на уроке естественной истории и не умевшую сказать, что на что падает – рыльце на пыльцу или пыльца на рыльце…
Я встал со стула, прошелся по комнатке, отделявшей меня от всего громадного мира, подошел вплотную к оконному стеклу, отразившему мой нос и блестящие пуговицы моей черной гимназической куртки, возвратился к столу, снял пальцами с пера волосок, вытер испачканные чернилами пальцы о брюки и написал:
«Я полюбил…»
Поставил многоточие и больше уже ничего не мог придумать. Так и осталась на всю жизнь эта единственная недописанная строчка…
«15-V-16 г. Действующая армия. Милая Миньона. Вы, кажется, интересуетесь нашим бытом? Извольте.
Вообразите себе, что у нас на батарее нечто вроде «мобилизации промышленности», как сейчас любят писать газеты. Возле четвертого орудия открылся ложечный завод. У нас на фронте это не ново. Солдаты – народ сообразительный, привыкли применяться к обстановке и местности. Извлекают пользу из чего только можно. Теперь у нас, солдат-батарейцев, не встретишь традиционной деревянной ложки. Теперь мы все хлебаем борщ алюминиевыми ложками уже не деревенского фасона, вполне городского. Дело вот в чем.
Дистанционные трубки шрапнели и головки некоторых видов других снарядов изготовляются преимущественно из алюминия. После артиллерийских дуэлей дистанционными трубками и боевыми головками немецких снарядов вокруг нашей позиции усеяна земля.
Предприимчивые батарейцы собирают их, как грибы, затем плавят на огне и отливают в формы. Получаются очень приличные алюминиевые ложки. Место их производства называется в духе времени – «литейный завод».
Теперь представьте себе, милая Миньона, такую картину: среди елочек, маскирующих батарею, возле блиндажа четвертого орудия – куча песка, пылает костер, пахнет горелым, и в песке возятся, как дети, наши солидные, многосемейные батарейцы. Что же происходит? В костре стоит стакан стреляного орудийного снаряда, в котором плавится алюминий. В кучке песка копается с засученными рукавами гимнастерки мой друг бомбардир-наводчик, бывший рыбак с Голой Пристани Прокоша Колыхаев. О нем я уже Вам, кажется, писал. Русоусый симпатичный дядька.
Он поглощен работой – весь внимание. Он делает из песка литейную форму. Работа аккуратная, чистая.
Маленький немец-колонист из Малой Акаржи по фамилии Веварт сидит возле костра на корточках и закуривает от уголька цигарку. На его обязанности лежит поддерживать огонь и подбрасывать в костер сухой валежник. Сибиряк Горбунов колет дрова.
Возле Колыхаева разложено уже штук пять готовых, но еще не отшлифованных алюминиевых ложек. Они еще грубы, пористы, шершавы.
Колыхаев расчищает ровную гладкую площадку, посыпает ее слоем мелкого песочка. Затем берет деревянный ящичек без дна – ящичек от посылки, – набивает его мокрым песком, утрамбовывает своей могучей ладонью, намозоленной еще в мирное время веслами, и вдавливает в песок одну уже вполне готовую и отшлифованную ложку. Потом с величайшей осторожностью он переворачивает ящик и накладывает его вниз вдавленной ложкой на песчаную площадку. Опять трамбует все это литейное сооружение и с такой же осторожностью поднимает ящик. Затем бережно извлекает из мокрого песка ложку, прокладывает круглой палочкой желобок для расплавленного алюминия и опять накладывает одну половину уже пустой формы на другую.
Все это проделывается с чрезвычайно серьезным лицом, с видом собственного достоинства.
Немец-колонист Веварт сует палочку в шрапнельный стакан, где плавится алюминий. Палочка загорается.
– Колыхай, металл уже готов, – говорит Веварт на своем ломаном языке. – Белый, как мильх, как молоко, как сметан.
Колыхаев берет заранее приготовленные две палки, связанные вместе с одного конца телефонным шнуром, ухватывает ими раскаленный стакан.
– А ну тикай, тикай! – кричит он, устремляясь от костра к литейной форме. Палки на глазах обугливаются и дымятся. Колыхаев действует быстро, уверенно, сноровисто. Пока палки еще окончательно не загорелись, Колыхаев наклоняет шрапнельный стакан над формой, и тонкая струйка молочно-белой светящейся жидкости льется в желобок.
Готово!
Батарейцы окружают литейную форму и терпеливо ждут, когда металл остынет и настолько затвердеет, что готовую отлитую ложку можно будет вынуть из формы. Вскоре песок выбивают из ящика, в его сероватой горке поблескивает белая новорожденная ложка. Ее извлекают па свет божий. Она еще горяча, и Колыхаев любовно перебрасывает ее с ладони на ладонь. Полюбовавшись своим изделием, он присоединяет ее к другим еще не отшлифованным ложкам.
В стакан бросают обломки неудачно отлитых ложек, дистанционные трубки, разную алюминиевую мелочь, и все начинается снова.
Может быть, я неточно, бестолково и непонятно описал Вам, дорогая Миньона, процесс изготовления алюминиевых ложек, но, вероятно, я сам нечто вроде неудачно отлитой алюминиевой ложки и меня надо заново переплавить. Как Вы думаете?
Колыхаев так усердно старается потому, что ему хочется непременно сделать собственными руками ровно дюжину алюминиевых ложек, чтобы, когда поедет в отпуск, отвезти их в подарок своей жинке, о которой мы ничего' толком не знаем, кроме того, что ее зовут Нина. Или, как он говорит, «моя дорогая супруга Ниночка». В свободное время он шлифует свою дюжину, доводя ее до блеска. Вот это называется любовь!
Остается одно – постараться остаться в живых, дождаться своей очереди и поехать домой на побывку, захватить заодно с дюжиной алюминиевых ложек также фунтов десять ржаных сухарей, насушенных из остатков хлебного пайка, и мешочек сэкономленного рафинада.
Солдатский телеграф сообщает, что у нас в тылу начинается голод.
…Но едва Колыхаев успел отлить очередную ложку, как из своего окопчика высовывается дежурный телефонист:
– Батарея, к бою!
И мирная картина вмиг меняется.
Вот Вам одна из подробностей нашего быта. Извините, прерываю письмо. Сейчас будем стрелять. Черт бы его побрал!… Ну вот, слава богу, благополучно отстрелялись. Вы не думайте, что стрелять мы не любим. Стрелять мы любим, это наше постоянное занятие. Но, к сожалению, после каждой стрельбы полагается чистить дуло орудийного ствола, а это занятие тяжелое, хлопотливое, надоедливое, и мы его терпеть не можем.
Чистят орудийный ствол так называемым банником. Банник – это длиннющая круглая палка, состоящая из двух свинчивающихся половинок. В развинченном виде банник обычно прикреплен к лафету. Когда баннику надлежит идти на работу, обе половинки свинчивают и к концу одной из них еще привинчивается цилиндрической формы щеточка. Получается длинная палка с вращающейся щеткой на конце.
Опишу Вам процесс чистки дула орудийного ствола, который производится следующим образом, будь он проклят! Прежде всего ствол орудия приводится в строго горизонтальное положение, а затвор открывается. В самой чистке участвуют все восемь номеров орудийной прислуги под строгим наблюдением фейерверкера. Номера обносят банник вокруг пушки и останавливаются перед дулом. Фейерверкер поливает щетку банника керосином, и орудийцы, взявшись все вместе, осторожно вводят банник в канал ствола, что дело совсем не простое, так как щетка идет туго. Раз десять полагается провести банник туда и обратно из конца в конец канала ствола. А это не так-то легко.
Но это лишь начало!
После того как канал ствола прочищен как следует керосином, щетку обертывают чистой полотняной ветошкой, и снова начинается чистка – туда и обратно, – на этот раз для того, чтобы вытереть насухо от керосина. Тоже раз десять. Мускулы рук устают от напряжения.
Теперь канал ствола чист. Орудийный фейерверкер, зажмурив один глаз, заглядывает в ствол, как в подзорную трубу, внутри которого винтовая нарезка очищена до зеркального блеска.
Но тут появляется монументальная фигура фельдфебеля подпрапорщика Ткаченко. Он отстраняет величественным мановением руки орудийного фейерверкера и заглядывает сам, лично, в канал ствола своим хозяйским глазом. Не дай бог, если он обнаружит на зеркальной поверхности стали хоть одно пятнышко! Тогда процедура чистки начнется снова, а орудийному фейерверкеру – два наряда вне очереди! Однако бог миловал. Фельдфебель не имеет претензий и величественно удаляется, заложив руки за свой кожаный желтый пояс офицерского образца.
Однако это еще не все.
Теперь надлежит смазать канал ствола орудийным салом, которым обильно покрывают щетку, обернутую новой ветошкой, и наконец, как выражаются с досадой орудийные номера, – опять двадцать пять!
Короче говоря, чистка орудия продолжается часа полтора и повторяется каждый раз после стрельбы, даже если был произведен хотя бы один выстрел.
От чистоты канала ствола зависит точность стрельбы, которой мы особенно гордимся.
Зато потом, заглянув в ствол, я вижу витые зеркальные нарезы и маленький кружочек голубого неба с верхушкой елки.
Отбой!
Но так как батарее приходится стрелять по три, по четыре, даже по пять раз в день, то жизнь наша превращается в сплошную мучительную чистку орудий. Я думаю, что чистка орудий – самое ужасное следствие войны!
Ах дьявол!… Простите… Прерываю письмо, так как опять зовут чистить орудие. Бегу, бегу. Ваш А. П.».
Я откладываю в сторону письмо и, вытирая платком утомленные чтением своего же молодого, неразборчивого почерка, слезящиеся, слабые глаза, вспоминаю свою жизнь на батарее.
…«Литейный завод» работал полным ходом не только у нас на позиции, но также и в резерве и на передках у ездовых. Была даже, помнится, установлена рыночная цена на алюминиевую ложку. Сорок копеек штука.
Куда ни посмотришь, всюду сидят солдаты и, согнувшись, шлифуют только что отлитые шершавые алюминиевые ложки наждачной бумагой.
Во время одного из очередных обстрелов немцами нашей батареи налетевшая бомба, как на грех, угодила прямо в «литейный заводик». После этого непрошеного визита «литейный цех» оказался на крыше землянки в другой батарее. Дровишки, приготовленные для костра, обращены в труху, а куча чудесного речного песка исчезла вообще, рассеялась от взрыва.
Наши батарейные ветряки говорили, что гермáн (то есть немец) нарочно из любезности пустил свой снаряд вместе с алюминиевой дистанционной трубкой прямо в стакан, чтобы не затруднять наших производителей ложек.
Солдаты изобрели еще один вид окопной промышленности. Они научились красить белую материю в защитный, зеленый цвет. Делалось это очень просто. В котле кипятится на костре вода, бросаются в нее болотная трава, крапива, березовые листья, лопухи и тому подобные «красящие вещества». Когда настой хорошенько уварится, приобретет темно-зеленый цвет, в котел бросают исподнюю бязевую рубаху и кипятят часа полтора. После этого рубаха оказывается окрашенной в отличный защитный цвет и превращается из нижней в верхнюю, в гимнастерку. По вечерам, если нет стрельбы, у нас музыка и танцы. Играют на гармонике, на скрипочке и… на лавровом листе, добытом у повара. На батарейной линейке у правого фланга на самодельной скамье, вбитой в землю, сидят трое солдат: гармонист Фока Терещенко, называющий себя почему-то Абдул Фарис из Батума, рябоватый парень с чересчур крупным носом, высокий, нескладный, как Петрушка или Ванька Рутютю уличного кукольного балаганчика, затем канонир Куликов, играющий на чрезвычайно маленькой, почти детской скрипочке, и еще некая неизвестная нам личность, солдат из резерва. Он засунул в рот лавровый лист и извлекает из него тонкие жалобные звуки, не совпадающие со слитными звуками гармоники и скрипки. Однако именно это несовпадение и создает какую-то необъяснимую прелесть мелодии.
Несовпадение… Да, именно несовпадение, подобное несовпадению моей странной, необъяснимой, вечной любви к Ганзе со всем окружающим меня миром, со всей моей жизнью отчаянное несовпадение. Но такова уж, видно, была моя судьба.
Звуки гармоники, скрипки и лаврового листа почему-то до слез напоминали мне Ганзю, которую я никак не мог себе представить, а только всей душой чувствовал, что она как-то незримо, бестелесно присутствует в мире.
Мелодия моей любви.
«Гармоника испорчена, у нее западает несколько клавишей. И в этом тоже есть какая-то необъяснимая прелесть несовершенства.
Перед музыкантами большой круг хорошо вытоптанной земли. Батарейные танцоры посреди этого круга щеголяют друг перед другом четкостью и выделанностью танцевальных па. Преобладают танцы салонные – полька-кокетка, полька-стоп, вальс «На сопках Маньчжурии», венгерка и прочие. Но есть танцы и характерные русские народные: казачок, барыня, классический малороссийский гопак.
Не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но мне всегда кажется, что в этих танцах, порою и неуклюжих, есть и красота и грация. Вот, например, пара: взводный фейерверкер второго взвода в паре с телефонистом-наблюдателем Марченко. Трио играет польку-стоп. Крепкая, мощная фигура взводного плавно, ритмично нагибается; ноги ходят ходуном, и нежно побрякивают шпоры. Наблюдатель Марченко – совсем иное дело. Он танцует как бы неподвижно – танцует не передвигаясь по площадке, стоя на одном месте, танцует выражением лица, глазами, бровями, губами, осанкой, всей фигурой. Самый процесс танцев для него не важен. Скорее он не танцует, а статично переживает музыку, ее мотив, ритм.
Любил я солдатские танцы! И было мне грустно, да и сейчас жалко, что не научился я танцевать. Сколько радости потерял я в жизни…
…вот выходит в круг здоровенный, плотный, даже толстый, что редко бывало среди солдат, хохол, по прозвищу Тарас Бульба, старший фейерверкер, кавалер двух Георгиевских крестов, и начинает гопак. Он тоже, собственно, не танцует, а плавно выступает и время от времени выкрикивает нечто веселое, озорное, вроде:
– И-и-эх-ма! Пошел! Веселей, не жалей! И-и-эх!
Глядя на его огромную фигуру и круглое обширное лицо, более всего похожее на смеющееся солнце, все зрители помирают со смеху.
А тем временем где-то слева за лесом уже давно кипит ужасная артиллерийская перестрелка, от которой тяжело вздрагивает земля. Скоро, наверное, дойдет и до нас.
«Действ, арм. 27 мая 916 г. А вот Вам, дорогая Миньона, чтобы Вы не скучали, для развлечения – фантастический роман, как бы вроде «перевод с английского» в духе обожаемого Вами Локка, но сочинения Александра Пчелкина.
Итак, начинается роман:
«– Миньона! Какими судьбами? Главное, каким сверхъестественным образом?
Все это было так невероятно, так похоже на сон, что у меня в первую минуту не нашлось ничего другого, кроме этих банальных восклицаний.
Она подняла на меня свои серовато-сиреневые глаза и, чуть-чуть улыбаясь, промолвила:
– Вы, кажется, меня не ожидали.
Я молчал, придумывая, что бы предпринять, если все это окажется не сном, а действительностью.
Я был ошеломлен.
Миньона провела своим кошачьим язычком по губам и протянула мне руку:
– Ну здравствуйте. Как поживаете?
Я пожал ее нежную ручку, нерешительно помял в своей отвратительной немытой лапе и, перевернув, поцеловал в розовую ладошку.
Она звонко рассмеялась:
– Фу, какой вы смешной и… глупый.
Признаться, вид у меня был в ту минуту не очень умный. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Войдите в мое положение: быть дневальным на новой, только что построенной саперами и еще не занятой артиллерийским взводом позиции в полуверсте от немецких окопов, сняв сапоги, греть на костре в котелке воду для чая, обернуться и вдруг увидеть ее здесь, наяву, – исключается всякая вероятность, и тем не менее… Однако!… Гм… Я думаю, что не только меня, но всякого нормального человека подобное явление поставило бы в тупик, в угол носом.
Впрочем, мое смущение продолжалось недолго. На всякий случай я ущипнул себя за ухо, убедился, что не сплю, и решил быть невозмутимым.
Бывают же на свете чудеса.
– Миньона… Миньоночка… Но… какими же все-таки судьбами?
Она неопределенно махнула рукой, и я понял, что это, и сущности, не так важно.
– Садитесь, – сказал я, – за неимением дивана вот сюда, на траву. Я так давно вас не видел. Дайте же на себя посмотреть.
Она села рядом со мной на траву, подобрала под себя моги в туфельках номер тридцать четыре и тут же съехидничала:
– Во-первых, вы меня видели сравнительно недавно, на пасху, но вам тогда, кажется, было не до меня. А во-вто-рых, нечего на меня смотреть так внимательно: я такая же, как всегда.
И действительно, она была совершенно такой же, как всегда, как дома. Как на балконе. Белая матроска с большим желтым шелковым бантом, серенькая юбка; коротенькие кудряшки, перехваченные темной лентой. Лицо кукольное, и от носика к ротику характерная складка. Все как следует, туфельки ничуть не запачканные. Шляпы нет. Как будто бы она только что вышла из дома пройтись по Французскому бульвару, да и прошла совершенно случайно, незаметно, мгновенно тысячу верст от Одессы до наших передовых позиций, что случается только в фантастических романах.
А может быть, как-то перенеслась по воздуху, даже туфелек не испачкала.
– Однако у вас здесь, на позициях, недурненько, – сказалаона, – хотя офицеры неважнец. Грязные такие. Закопченные. Да вы сами тоже не особенно… Надеюсь, вы меня угостите чаем?
– Это можно, – ответил я, – вопрос только: есть ли у вас сахар?
Она с удивлением посмотрела на меня.
– Одну минуточку, – в замешательстве пробормотал я, – я сию минуточку сбегаю к пехотинцам в штаб батальона, там дежурит наш батарейный телефонист, может, у него разживусь сахаром, кстати и заваркой. А вы пока что постерегите котелок. Как только вода закипит – снимите.
Она понимающе кивнула. Я сорвался с места и ринулся к высокой железнодорожной насыпи, где виднелась землянка телефонистов пехотного батальона. На бегу я обернулся: она сидела возле костра на зеленой травке среди желтых, белых и синих луговых цветов. Она и сама была, похожа на цветок.
«Сердце мое дрогнуло. «Милая!» – подумал я и хотел послать ей воздушный поцелуй, но в этот миг вспомнил что-то важное и крикнул ей издали:
– Да! Еще вот что: если в блиндаж полезут пехотинцы, гоните их ко всем чертям, а то они порастащат все доски!…
Она кивнула.
Пока я бегал в штаб батальона и унижался перед телефонистами, умоляя позычить до следующей выдачи десять грудок сахара, заварку чая и кусок сала (хлеб у меня был) Миньона сидела и с любопытством разглядывала местность, куда она попала по воле автора этой фантастической повести.
Что же она увидела?
Справа шагах в ста тянулась высокая железнодорожная насыпь линии Минск – Вильно, надежно прикрывая нашу артиллерийскую позицию от глаз неприятельских наблюдателей. Под насыпью виднелись серые бугорки землянок, над которыми вился легкий дымок. Слева белели свежими сосновыми бревнами и обшитыми досками два резервных блиндажа, куда в случае наступления немедленно будут выдвинуты два наших орудия, так сказать, «кинжальный взвод». Эти блиндажи я и послан был охранять. Невдалеке от блиндажей извивалась, блестя на солнце, и тихонько журчала маленькая речушка, даже не речушка, а скорее ручей. В ярком небе плыли все еще как бы пасхальные облака. За железнодорожной насыпью, на переезде кудрявились березы, и далеко впереди, за бугром как декорация рисовался разбитый снарядами мертвый город. Из пожарища торчали остатки кирпичных стен и печные трубы, вокруг которых как ни в чем не бывало зеленели цветущие сады… Продолжение следует…»
Прочитав это, я усмехаюсь. Вот, оказывается, на какую хитрость пустился я, чтобы убить двух зайцев: описать свою фронтовую жизнь и в то же время поддержать полулюбовные отношения с генеральской дочкой. Выдумка с фантастическим романом давала для этого полную возможность.
«Д. арм. 1 июня 916 г. Фантастический роман без заглавия. Перевод с английского. Продолжение.
«Глава вторая. Через десять минут я вернулся из штаба батальона; подходя к ручью, у меня было опасение, что Миньоны я не увижу и вся эта история окажется не более чем плодом моего воображения. Но о счастье!
Она сидела в траве на прежнем месте между моими сапогами и серебряными извивами ручейка, вся в полевых цветах и сама, как уже было замечено, похожая на цветок.
– Ну как, моя дорогая, – спросил я, – вода в котелке закипела?
– Вода? А разве она должна была закипеть? – спросила Миньона, сделав большие глаза, и засмеялась, хотя ее смех показался не вполне уместен, так как вода в котелке клокотала и уже выкипела наполовину.
Я вздохнул, снял котелок с огня и бросил в кипящую воду щепотку заварки, добытую у телефонистов путем некоторых унижений. Я расстелил на траве носовой платок, который, к счастью, выстирал рано утром в ручье, положил на него кусок свиного сала, четверть пайковой буханки ржаного солдатского хлеба и десять грудок рафинада. 5* 115
Потом я сбегал в блиндаж, который охранял, захватил шинель, бинокль и единственный сдобный сухарь – высушенный ломоть пасхального кулича, привезенного мной из дома. Шинель я разостлал для Миньоны, сам сел подле нее на траву, и мы принялись за чай.
До сих пор я воображал, что Миньона питается исключительно утренней росой, цветочной пыльцой, лунным светом и запахом фиалок. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что полфунта свиного сала как не бывало! Сдобный сухарь под ее жемчужными зубками перешел в область самых отвлеченных воспоминаний. А опустошенный котелок стоял в траве как надгробный памятник, будя грустные воспоминания о девяти отошедших в вечность грудках рафинада.
Лично я съел кусок черного хлеба, сгрыз последнюю грудку сахара и взглянул на мир еще более оптимистично. Да и можно ли, о читатель, смотреть на мир иначе, когда вокруг нежное, солнечное утро, десять часов, роса на полевых цветах еще не высохла, у ног щебечет ручеек, а рядом с вами очаровательное существо с большими серо-лиловыми глазами, маленькими ручками, еще более маленькими ножками в туфельках номер тридцать четыре и волшебным именем Миньона?
Да-с!
– А теперь поболтаем, – сказала Миньона, облизывая кошачьим, как уже упоминалось, язычком прелестные губки, созданные не для свиного сала, а для поцелуя. – Объясните, где мы с вами сейчас находимся? И почему в то время как идет война, вы болтаетесь здесь без всякого дела? – И в ее голоске прозвучала генеральская нотка.
– О прелестная! – ответил я. – Находимся мы возле города Сморгонь, развалины которого вы видите, если можно так выразиться, на горизонте. А нахожусь я здесь, в непосредственной близости от неприятеля, в качестве сторожа, дневального. Сторожу же я вот эти два новеньких орудийных блиндажа в три наката. Мой взвод – две трех дюймовки – скоро перейдет в эти хорошенькие блиндажики и в должный срок неожиданно ударит по немцам с самой близкой дистанции, и даже, может быть, прямой наводкой, картечью. Через два часа, ровно в двенадцать, меня сменит другой дневальный, и я должен буду возвратиться обратно на батарею…
Она не дослушала и, прижавшись ко мне, с ужасом прошептала:
– Боже мой! Вы меня пугаете. Мы находимся в непосредственной близости от немцев? В таком случае у меня одна надежда на вас. Не оставьте меня!
– О, не бойтесь! Со мной вы как за каменной стеной! – воскликнул я, ловя себя на глупом желании поцеловать ее в шейку.
В этот миг за железнодорожной насыпью тяжело бухнуло, раздался сверлящий свист, и высоко над нашими головами пронеслась немецкая граната. Я по привычке сразу же припал к земле и потянул за собой Миньону. Мы услышали сухой дробный разрыв снаряда, и через некоторое время вокруг нас пропело несколько осколков. Немец стрелял через наши головы по ближнему лесу.
Миньона лежала у меня на руках как убитая. Лоб ее был холоден, а руки горячи. Я растер ей виски платком, смоченным остатками чая. Она очнулась.
– Миньона, дитя мое, – прошептал я, – не бойтесь. Это далеко. Это не опасно. Это обычно.
Она виновато посмотрела на меня.
– Если это обычно, тогда я не буду больше бояться. Я уже не боюсь.
В это время ударил второй пушечный выстрел. На этот раз она не вскрикнула и не упала в обморок. Я сунул ей в руки бинокль «цейс»:
– Смотрите туда.
Она приставила бинокль к глазам и посмотрела туда, куда я ей показывал. До нас долетел грохот взорвавшегося снаряда.
– Ах, как забавно! – восхищенно воскликнула она. – Жаль, что здесь нет моих сестричек. Вот бы тоже полюбовались взрывом.
Пропели осколки.
Потом я повел ее в Сморгонь посмотреть развалины. Ведь в фантастическом романе все может случиться.
Мы долго бродили по грудам обгорелых кирпичей, по запущенным садам, забирались на обгорелые чердаки разбитых снарядами домов. Наломали громадный букет отцветающей сирени. Она посмотрела в сторону полуразрушенного костела, стоявшего как призрак.
– А туда можно? – спросила она.
– Туда нельзя, – почти с ужасом ответил я, вспомнив расколотую раковину кропильницы, поверженное распятие и красное деревянное сердце на грудной клетке мертвого спасителя.
И я обошел костел стороной, как убийца, который преодолевает чувство притяжения к тому месту, где он совершил преступление.
Мы молчали. Между нами как бы стояло видение полуразрушенного храма с поверженным в прах распятием богочеловека. А он был так хорош. А мы были так молоды… Продолжение следует.
Продолжения не последовало; моя фантазия исчерпалась. Но главное, конечно, было не в том, что фантазия исчерпалась. Исчерпалась вера в то, что банальная влюбленность в хорошенькую Миньону может вытеснить из моего сердца Ганзю. А на фронте началось уже настоящее, и я впервые понял, что такое война.
«15 июля 916 г. Действующая армия. Дорогая Миньона, только что офицер, командующий стрельбой, объявил пятнадцатиминутный перерыв. Голова болит от жары и грохота. На наблюдательном пункте, кажется, Ваш отец вместе со стариком Шеллем. Они ведут стрельбу всей бригадой, то есть всеми шестью батареями сразу, стрельба редкая, но ужасно методичная, упорная, назойливая.
Это, вероятно, последние приготовления перед прорывом немецкого фронта. Так называемая артиллерийская подготовка. Господи, только бы…
Право, кажется, если бы нам удалось прорваться и отнять у немцев ближайшую цель нашего наступления – город Вильно, то не надо мне ничего: ни славы, ни здоровья, ни даже Ваших писем…
Простите, прерываю письмо: надо идти чистить орудие, будь оно трижды… Виноват!… Ей-богу, для нашего брата батарейца страшен не бой и даже не самая смерть, а чистка орудий…
…Ну, слава богу, почистили.
Я весь в орудийном сале и керосине. Время тянется невыносимо скучно. Я ждал жарких боев, передвижений, наступления, атак и прочего. А вместо всего этого скучное стояние на позиции, которую герман обстреливает шестидюймовыми бомбами. На днях пришлось пережить страшный обстрел. Я как раз был дневальным на новой позиции своего взвода. Позиция еще не занята орудиями. Блиндажи еще пустые. Я их охраняю. Но они находятся очень близко от пехотных окопов, всего саженях в двухстах. Так как одному дневалить скучно, то я забрался в окоп к телефонистам штаба батальона, где вместе с пехотными дежурят также и наши артиллерийские телефонисты – мои друзья.
Мы варили суп из молодого щавеля, который в изобилии растет среди развалин Сморгони, а также грели чай на костре. Вдруг нас побросало на землю, и по головам изо всех сил хлопнул упругий выстрел, как бы на один миг окрасивший все вокруг в кроваво-красный цвет. Сразу запахло какой-то химической гадостью. Вроде фосфора. Запах, характерный для немецких тяжелых бризантов. Мы ринулись в окоп спасаться.
А тут – массированный обстрел!
Снаряд за снарядом. Крыша землянки, как назло, жиденькая, тощенькая, всего в два наката. Бомбы ежеминутно рвутся рядом с землянкой.
Грохот… Химический запах… Сумбур в голове… И страх, страх… Даже не страх, а ужас… Непреодолимый, животный. Одна-единственная мысль острым гвоздем стоит в сознании: если немецкий снаряд прямым попаданием угодит в нашу землянку, то не то что убьет, а испепелит, превратит в ничто. И самое ужасное, что ведь, если разобраться, я сам этого захотел, пошел добровольно.
Я смотрю на телефониста. Он бледен. Губы сиреневые. При каждом свисте пролетающего снаряда мы все как по команде втягиваем головы в плечи и для чего-то прижимаемся к земляным стенкам, как будто это может спасти. Бьет лихорадка. Хочется убежать куда-нибудь в более надежное место. Но без разрешения командира мы не имеем права покидать свой пост. За это военно-полевой суд.
Я хватаю телефонную трубку и даю зуммером сигнал: одно тире. Слышу:
– Квартира у телефона.
– Доложите командиру, что штаб батальона под сильным обстрелом шестидюймовых батарей. Что делать? Просим разрешения перейти в укрепленный блиндаж второго взвода.
Медлительная пауза.
– Командир приказал, если возможно, уйти из штаба батальона.
От сердца отлегло. Мы быстро хватаем свой телефонный аппарат, разъединяем провод и бежим как обезумевшие к спасительному блиндажу. Вокруг ад. Фонтаны черной и рыжей земли. Воют осколки. Но вскоре мы уже в сравнительной безопасности. И тут же начинаем с непонятной жадностью есть сало, захваченное в штабе батальона.
(Свое сало солдат ни при каких обстоятельствах не забудет захватить с собой, хотя бы черти тащили его в пекло!)
В блиндаж вкатывается кубарем сверху телефонист-пехотинец. У него как-то странно согнуто тело, глаза дикие, налитые кровью. И жалко, и смешно, и в то же время до ужаса страшно. Он с ног до головы дрожит мелкой дрожью, перепачкан глиной, лоб мокрый от пота. Из трясущихся пальцев валится открытый перочинный нож и кружок черной изоляционной ленты, которой он, видимо, соединял перебитый осколком телефонный провод.
– Вы что? Ранены? Контужены?
Он ничего не в состоянии вымолвить, только продолжает дрожать и плачет. Оказывается, возле него разорвался снаряд, не убил, не ранил, а только подбросил и ударил об землю – и он до сих пор не может опомниться.
В блиндаж вкатывается еще несколько пехотинцев, застигнутых врасплох внезапным артиллерийским налетом. Они все дрожат как в лихорадке, у всех в глазах мольба: жить!
В угол блиндажа попадает бомба. Разрыва я не слышу и прихожу в сознание неизвестно через сколько времени. На меня смотрят несколько пар солдатских глаз. Оказывается, блиндаж не пробит. Счастливая случайность? Может быть. Но мне кажется, что бог наказал меня бессмертием. Он карает меня необходимостью и в дальнейшем участвовать во всем этом мировом безумии, которое я сам накликал.
Я не ранен. Даже не контужен. Душа моя потрясена
Обстрел прекратился.
Но мы все сидим еще полчаса в чудом уцелевшем блиндаже, не в силах унять дрожь, и никак не можем прийти в себя.
…потом тихий летний вечер, трава розовая от закатного солнца, цветы. Березки четко рисуются на фоне заката Через ручей – мостик. На мостике носилки с убитым солдатом. Убитый похож на большую куклу, наряженную в большие сапоги и рваную, окровавленную гимнастерку. Возле носилок стоят, видимо отдыхая, два санитара. Отвернувшись в сторону, они курят цигарки, свернутые из газеты, и сплевывают в ручей. А. П.».
«22 июня 916 г. Д. арм. 19 июня рано утром, часа в три. на рассвете, из телефонного окопа выскакивает старший на батарее:
– Батарея! Приготовь противогазы!
Это что-то новое и очень грозное. Неужели немцы пустили удушливые газы?
Я дневальный и только что собрался смениться и отправиться в землянку спать, Теперь же я бросаюсь вниз по земляной лестнице уже не спать, а будить спящих.
– Ребята, – кричу, – приготовьте противогазы!
Начинается суета, некоторое даже замешательство: впервые надо воспользоваться противогазом. А где эти самые противогазы, обязательное ношение которых до сих пор считалось ненужной формальностью? Противогазы всегда засовывались куда-нибудь подальше, в самый низ походных ранцев или вещевых мешков. Теперь противогазы разыскиваются, извлекаются на свет божий, и их начинают примеривать. Никто толком не умеет с ними обращаться – знали, да забыли.
Я как дневальный, то есть лицо ответственное, среди общего замешательства стараюсь сохранять спокойствие и быть распорядительным. Вместо того чтобы разыскивать свой противогаз и надеть его, приходится расталкивать заспавшихся батарейцев.
Со стороны пехоты слышится быстрый, какой-то непривычно бестолковый, нервный ружейный и пулеметный огонь.
– Батарея, к бою!
Никогда этот, в общем-то, привычный приказ не звучал так тревожно.
В начале войны противогазы были чрезвычайно примитивны: матерчатые наморднички, которые надевались на лицо и завязывались на затылке тесемками. Их следовало смачивать какой-нибудь жидкостью: водой, чаем, а если под рукой ничего не было, то и просто собственной мочой, всегда имевшейся под рукой. Смачивать наморднички мочой считалось даже лучше, так как, дескать, упомянутая жидкость хорошо нейтрализовала ядовитый газ. Но потом на вооружение поступили новые, более усовершенствованные противогазы: жестяные коробки с угольным порошком и резиновым респиратором, через который надо было дышать. Затем имелись очки в жестяной оправе для предохранения глаз, а также особые щипчики, которыми следовало защипнуть нос, чтобы удушливый газ не попал через ноздри в легкие. Щипчики висели на веревочке. Все это надо было долго прилаживать, а между тем огонь на передовой усиливается до шквального.
Нервы дрожат, как натянутые струны. Ведь именно нынче вечером должно было начаться наше наступление. Неужели немецкая разведка пронюхала это и немец упредил нас?
– Противник на участке Аккерманского полка выпустил газы! – раздается отчаянный крик из телефонного! окопчика. – Надеть противогазы!
Мы быстро, но не совсем умело надеваем противогазы, надеваем очки, зажимаем щипчиками носы, прилаживаем ко рту резиновые респираторы. Сквозь мутные, непротертые стекла очков плохо видно, но еще труднее дышать. Сидим как чучела друг против друга со щипчиками на носах, стараясь дышать поаккуратнее. Дверь в землянке распахнута. Лампа, висящая над столом, еще не погашена и горит по-утреннему тускло, как бы утомленно.
Дышать все тяжелее. Тишина. В висках стук. Чувствуешь, как кровь с напряженным шелестом струится по венам и артериям. Сверху в дверь начинает вползать слабый зеленоватый туман. То ли это обыкновенный утренний туман, то ли… ужасная догадка: неужели это и есть тот самый страшный удушливый газ, о котором мы столько слышали?
Но почему-то никому не приходит в голову, что нужно выйти из землянки наверх. Как-то привыкли считать, что в землянке, под тремя накатами безопасней.
Через несколько минут напряженного молчания и сопения кто-то начинает кашлять в респиратор. Канонир Ищенко по прозвищу Старик клонит голову и делает руками какие-то умоляющие знаки. Он задыхается. И никто не знает, что нужно делать, как помочь. Еще несколько человек с хрипеньем опускают головы. Они явно задыхаются. Я же почему-то чувствую себя замечательно. Мой респиратор хотя и хрипит, но довольно хорошо пропускает очищенный воздух.
Но что же делать? Чем разогнать газ, медленно наползающий, мощный, как тяжелая вода, сверху в наше подземелье?
Инстинктивно хватаю из ранца пачку писем мне, зажигаю и кидаю на земляной пол. Огонь и дым. Прощайте, милые письма, полученные мною из тыла от друзей и близких. Они так помогали мне переживать все тяжести войны. А Ваши письма особенно. Я берег их как драгоценность и часто перечитывал. Но что же делать, если другой бумаги не нашлось?
Костер горящей бумаги. Дым и огонь борются с наполняющим удушливым газом.
Старик погибает. Вот он уже лежит на земляных нарах, хрипит и судорожно пытается сорвать со рта респиратор, который, как видно, засорен и не дает дышать. Если сор-пот – верная смерть. Я хватаю его за руки. Мы боремся. По в этот миг сверху раздается крик:
– Батарея, к бою!
Мы выползаем наружу. Я буквально силой выволакивнаю Старика наверх. Все вокруг в газовом тумане. Каждое движение затрудняет дыхание. Но все-таки легче, чем под землей. Взводные передают команду своим орудиям. Их голоса звучат сквозь респираторы противогазов каким-то диким хрипом. Каждое слово для них почти гибельно. По ничего не поделаешь – надо же командовать стрельбой. В этом их подвиг: вести стрельбу во время газовой атаки! От утреннего холода начинает знобить. Хочется лечь па землю и уткнуться головой в траву. Но воинский долг есть воинский долг. Батарея ведет огонь, но работать при орудии невероятно трудно. Забираясь под очки, газ щиплет глаза. Дышать уже почти невозможно. Еще несколько минут – и мы погибнем. Батарейный фельдшер и противогазе проносит на своем могучем плече, как мешок с овсом, кого-то из потерявших сознание. Кто-то обезумевший срывает противогаз, пробегает с кровавыми глазами и кровью из носа и в судорогах падает на землю.
Но батарея, хотя и с трудом, с перебоями, не прекращает огня. Стреляем из последних сил. Почти в бессознательном состоянии я ставлю ключом дистанционные трубки, еле различая цифры на алюминиевом кольце шрапнельной боеголовки.
– Прицел сто тридцать, трубка сто двадцать пять, десять патронов беглых!
Умеренный утренний ветерок медленно рассеивает и уносит шлейф удушливого газа. Старший по батарее отрывает от губ респиратор противогаза, подавая пример и всем нам. Мы с облегчением следуем его примеру.
Но теперь неприятель начинает обстреливать нас восьмидюймовыми снарядами. Первый же снаряд попадает в соседнее орудие, только обломки колес полетели вверх ко всем чертям. Результаты: пять человек контужены, один ранен, четверо еще раньше отравлены газами.
Обстрел батареи продолжается. Снаряды рвутся совсем близко, глушат и притупляют сознание. Мы отвечаем, стреляя до изнеможения, и я уже ничего не чувствую, ничего не сознаю, ничего не боюсь и хочу всем своим существом только одного: тишины, степной южной ночи, сверчков, звездного неба.
По-моему, подобные мысли на батарее, ведущей смертельную дуэль, – признак начинающегося сумасшествия. Но что же делать, если это именно так.
Бой кипит до полудня. Потом отбой. Все батарейцы в изнеможении от усталости. Устали от грохота, от свиста осколков, от газов, от работы при орудии, от ежесекундного страха смерти…
Подсчитываем потери. Уносят раненых. Уводят контуженых. Убитых, как это ни странно, нет. Это сама судьба бережет меня и всех моих окружающих для каких-то неизвестных нам высших целей. Нет, серьезно. Даже странно. Я все время чувствую какую-то свою зловещую неприкосновенность. Теперь бы залезть в землянку и погрузиться в беспамятство сна.
Двое из контуженых еще продолжают лежать в землянке на нарах. Они спаслись от верной смерти просто чудом. Бледны, измучены, истерзаны ужасом, в полуобморочном состоянии. Я стараюсь помочь им чем могу. Но чем могу я им помочь? Я сам еле стою на ногах, наглотался газов, тошнит, в глазах темно. Безумно хочется спать… Но черта с два! Не тут-то было! Изволь носить пустые лотки, подбирать стреляные гильзы, которых накопились кучи, выгружать ящики новых, только что привезенных снарядов и т. д.
Наконец – чистить орудие! А ведь я Вам, кажется, писал, какая это мука!
Производим всю эту работу, собирая последние силы. Но это только так кажется, что последние. Их хватит, этих последних сил, еще на многое… Служба есть служба!
Мимо батареи по шоссе, мимо столетних кутузовских берез проносят носилки с ранеными. Сплошной вереницей тащатся с передовой санитарные и простые обозные повозки, нагруженные, как дровами, почерневшими трупами и полутрупами пехотинцев, попавших первыми под удушливые газы.
А когда газы дошли с передовой линии до нашей батареи, то их убойная сила почти иссякла. Да и ветерок нам помог. А то бы… И подумать страшно.
…Идут по шоссе в тыл на переформирование, еле передвигая ноги, с трудом таща на плечах винтовки, серые пехотные солдатики с пепельными лицами… и офицеры, пехотные прапорщики, мальчики девятнадцати-двадцати лет, которые еще совсем недавно гоняли голубей, играли в футбол, ухаживали за гимназистками, писали в альбом стихи…
Из дивизиона прибегает телефонист. Оказывается, землянка дивизионного командира разворочена до основания восьмидюймовым снарядом, превращена в яму с водой. Все место вокруг обстреляно специальными снарядами с удушливыми газами; соединение цианистого калия еще с какой-то химической дрянью называется хлорциан. Ветерок приносит со стороны разбитой дивизионной землянки залах, похожий на испарение эфира или чего-то в этом роде. Что-то одуряющее, сладковатое, миндальное, зловещее.
Однако, как это часто бывает, в дивизионной землянке как раз случайно никого не оказалось. Все были на наблюдательном пункте.
Часа два отдыхаем, а потом на батарею приходит приказ: в восемь часов вечера приготовиться к бою и навести орудия по таким-то и таким-то целям, заранее уже пристрелянным.
Солдатский телеграф тут же сообщил, что мы будем наступать на высоту правее дороги, которая проходит как раз рядом со вторым дивизионом нашей бригады. В восемь часов вечера предполагается взорвать минные галереи. Их уже давно втайне от немцев выкопали саперы впритык к неприятельским позициям. После взрыва наша пехота бросится в атаку и попробует выбить ошеломленного неприятеля с высоты, командующей над местностью.
Розово. Закат. Березы. Дула наших трехдюймовок смотрят на багровый диск заходящего солнца. Ни единого звука, кроме неугомонных жаворонков. Синие лампадки васильков.
Васильки – как синие лампадки в алом храме золотой зари.
Что, не нравится? Слишком кудряво? Безвкусно? Согласен. Но ведь каждый миг… Эх, да что там говорить! Где наша не пропадала! Рядом со смертью даже обыкновенная пошлость делается священной. Может быть, это моя последняя мысль?
– Через пятнадцать минут всем укрыться в блиндажи и окопы. Будет взорвана подземная галерея. После взрыва оставаться пять минут в укрытии, а затем номерам занять свои места у орудий. Будет бой. Открывать быстрый в точный огонь. – Таков приказ с наблюдательного пункта, переданный по телефону на батарею.
Все укрываются в блиндажи и с напряжением ловят малейший звук со стороны пехотной линии. Пятнадцать минут проходят. Ожидается страшный взрыв, грохот, землетрясение. Шутка ли? В минную подземную галерею заложено пятьдесят пудов динамита. Но никакого грохота нет. Вместо этого земля вокруг нас начинает потихоньку вздрагивать. Дрожь земли усиливается. Окоп, в котором мы сидим, качается, как корабельная каюта во время крепкой волны. Со стороны пехоты до нас доносится глухой слитный треск ружейной пальбы.
Выскакиваем из-под земли наверх. Взбираемся на земляной отвал окопа. На западе из-за леса поднимаются тяжелые зелено-желто-черные скалистые массы дыма. Они медленно ползут в зенит безмятежно розового закатного неба. Вокруг темно, как в пещере. В ужасающей тишине опять слышится крик фейерверкера:
– Батарея, к бою!
И через миг вокруг нас уже настоящий ад: артиллерийский бой, который много раз уже пытались описать, и всегда неудачно, потому что ни слов подходящих, ни красок таких нет.
Грохот пятнадцати батарей разных калибров сливается с ружейной и пулеметной дробью, сквозь которую слышится отдаленное «ура» пехоты, идущей в атаку. В ушах нечто вроде кузницы.
Смеркается.
Я работаю орудийным номером. Номеров мало, а потому приходится исполнять обязанности за троих: устанавливать дистанционные трубки, заряжать и подносить лотки с унитарными патронами. Лотки тяжелые. Взвалишь на каждое плечо по лотку и бежишь от погреба к орудию.
В ушах стоном стоят надорванные голоса орудийных фейерверкеров, бегающих по батарейной линейке с записными книжками, где записаны цели и прицельные установки.
– По цели номер двенадцать два патрона беглых!… Четыре патрона беглых!…
Почти каждую минуту мое орудие бросает в сгущающуюся темноту багровые полотнища яркого огня, и тогда елочки маскировки вдруг выхватываются из тьмы, словно отлитые из червонного золота, и тут же погружаются во мрак до следующего выстрела.
Из дула прыгающего орудия летит сноп искр.
Я ослеплен и оглушен. Со стороны пехоты «ура» усиливается. Офицер, командующий стрельбой, кричит сорванным голосом, стараясь перекричать грохот боя:
– По телефону передают!… По телефону!… Аккерманский полк!… Передают из пехоты!… Аккерманцы заняли первую линию немецких окопов!… Немецких окопов!… Девяносто восемь немцев взято в плен!… Девяносто восемь!… Захвачено четыре пулемета!…
В душе вспыхивает радость. Впервые я неожиданно для самого себя чувствую поэзию и вдохновение боя.
Батарея работает с удвоенной энергией, ведя огонь безукоризненно точно и быстро. Недаром же наши трехдюймовочки называются скорострельными.
Через час новое сообщение:
– Аккерманцы заняли вторую линию! Высота наша! Немцы отступают!
От восторга я чуть не кричу «ура».
Бой продолжается всю ночь до утра. На рассвете все стихает. Мы ложимся отдыхать возле своих пушек прямо на земле, среди стреляных неубранных гильз и осколков. Сквозь сон слышу, что Аккерманский полк залег между второй и третьей линиями неприятеля. Слава богу! В наказание за газы пленных не брали. Перекололи всех. Так им и надо!
Впрочем, нет. Голос порядочности говорит, что колоть пленных – гадость и низость. Но другой голос, как бы опьяневший от крови, кричит: неправда! так и надо! коли! бей! уничтожай! И вдруг я сам себе делаюсь отвратителен… Боже мой! И это я? Тот самый нежный, мечтательный влюбленный, который… Нет! Я уже ничего не понимаю. Понимаю только одно: есть и спать! Но нет! Опять «батарея, к бою!». Опять бой. Опять оглушающий грохот. Теперь мы отбиваем немецкие контратаки. Бьемся без перерыва двое-трое суток. Высота наша. Ее взять помогли взорванные минные галереи, проложившие в земле траншеи, в которых закрепилась наша пехота.
Сейчас уже 22 июня. Наверное, ночью снова будет бой. Вот уже наша соседка справа, третья батарея, начинает стрелять очередями. Сейчас будем и мы. Я устал, устал. На душе темно. Отчего Вы не пишете? Я с каждой почтой ожидаю от Вас весточки. Неужели Вы забыли прошлое лето?
Ваш собственный корреспондент
Газы выели вокруг всю зелень. Трава – как осенью. Листья берез пожелтели, будто их облили серной кислотой. Жуткий вид. Вот Вам пожелтевший от фосгена молодой березовый листок, сорванный мною на нашей батарее. Сохраните его в назидание потомству.
Я тщетно искал среди ветхих страничек березовый листик, некогда сожженный фосгеном. По-видимому, он давно уже истлел и рассыпался в прах.
Как сейчас вижу кучу сжигаемых мною писем на земляном полу землянки, и особенно мне жалко одно-единственное от Ганзи, которое она прислала мне на фронт скорее всего лишь потому, что считалось хорошим тоном хотя бы раз написать на фронт знакомому воину – офицеру или солдату, как бы подчеркивая этим свой патриотизм. В письме Ганзи было несколько строк, в которых она ободряла меня и желала всего лучшего, однако же не просила меня ей писать. Помню, как я был взволнован, получив в канцелярии конверт, надписанный ее полудетским почерком. Помню, как я шел с ее письмом в кармане из канцелярии на батарею.
«22 июля 916 г. Д. арм. Дорогая… Дождь. Холод. Сыро. Серо. В халупе неуютно и пусто. Не хочется ни читать, ни писать. Натер себе ногу и не могу ходить. Батарея стоит по аэропланам. Охраняем стоянку нашего знаменитого аэроплана – гиганта «Ильи Муромца». Впрочем, их не один, а два, но не знаю, как будет родительный падеж, множественное число: «Ильей Муромцев»? Ну, кончаю. Всего Вам доброго, моя славная, дорогая Мин. Живите счастливо и весело. Не болейте. Не простужайтесь. Влюбляйтесь в студентов. Берите от жизни все. Я сейчас в очень скучном настроении и не могу написать Вам ничего интересного. Был отравлен газами. Ваш отец навестил меня в лазарете. Я был очень тронут. Но все обошлось, остался лишь кашель. Ну улыбнитесь же мне! За окном дождь и порывистый, совсем не южный, холодный осенний ветер, а во дворе кричат куры. Кажется, надо говорить – не кричат, а квохчут? Ну пусть квохчут. Но это не важно. Ваш
Столько событий – и такое коротенькое письмо, всего одна страничка небрежным почерком. Видно, опять начался прилив любви к Ганзе, как я ни старался заменить ее в сердце своем Миньоной.
Я думаю, что этому приливу способствовала сумрачная, холодная погода, напоминавшая мне ту осень, когда однажды собралась наша постоянная компания и очутилась в глухом приморском переулке, в саду чьей-то дачи с заколоченными окнами и уже по-зимнему завернутыми в солому штамбовыми розами на клумбе, усыпанной рыжими листьями.
В поисках уголка мы забрались в беседку и некоторое время прислушивались к гулу штормового прибоя, звеневшего бронзой в прибрежных скалах, и к пронзительному крику чаек, летающих среди клочьев морской пены.
Черные стволы осыпающихся деревьев, ранняя ржавая заря, запах гниющих астр.
Мы сидели – кто на сырой скамье, кто прямо на дощатом круглом столе, кто верхом на перилах. Девочки были уже в зимних пальто, но еще в касторовых форменных шляпах, а мальчики в теплых шинелях, попахивавших нафталином.
Нас было всего человек шесть.
Ганзя Траян сидела на столе, свесив ножки все в тех же почти детских башмачках на пуговицах и все в том же черном плюшевом пальто, в котором была в тот незабвенный мартовский день, когда я впервые увидел ее.
Я вспомнил, как тогда вечером сидел на подоконнике один, думал о ней и мне казалось, что начинается прекрасная, светлая, ясная любовь, которую я предчувствовал еще зимой, выздоравливая после скарлатины, а в тихой квартире на обоях краснели закатные отпечатки окон.
В моем юношеском романе это было описано примерно в таком роде. У него (то есть у меня) на душе было так чисто, хорошо и просто. Он (то есть я) не сомневался, что если бы она узнала его поближе, прислушалась к его словам, пригляделась к нему, то, наверное, сразу бы полюбила его (то есть опять же меня, так как роман был написан в третьем лице, хотя я имел в виду именно самого себя).
«Ему (то есть мне) было досадно, что тогда, в марте, когда ходили за фиалками, я так мало говорил с ней, и мне очень хотелось поскорей увидеться с ней снова и доказать, что он достоин любви, что он не такой, как все, а особенный. В том, что я особенный, неповторимый, я почему-то никогда не сомневался. Уверенность в своей неповторимости была так крепка, так естественна, что я никогда даже и не пытался объяснить себе, почему, собственно, я единственный и неповторимый. Эта уверенность была как бы врожденной. Он напряженно и бессознательно повторял ее странное имя, сквозь которое все вокруг получало как бы некое новое значение. Мир вокруг обновился. В этом мире царила только она одна. У нее такое особенное лицо. А какое такое? На этот вопрос я не мог ответить, потому что не мог его вспомнить. Оно было неуловимо, абстрактно. И у нее были такие печальные, тоже абстрактные глаза. Вероятно, она глубокая, но скрытная натура. Несомненно, у нее есть какой-то свой, особенный, прекрасный, ни для кого не доступный душевный мир, в котором она живет одна и в который никого не пускает. Даже влюбленного в нее Вольдемара. Она одинока. Одиночество ей тягостно. Но когда-нибудь, и даже, наверное, очень скоро, она встретится с таким же, как она, умным, глубоким, одиноким, особенным, единственным в мире молодым человеком, который поймет ее, полюбит – но, конечно, не такой пошлой, мещанской любовью, как, например, Вольдемар, а любовью возвышенной, прекрасной, достойной ее, впустит ее в свой тайный душевный мир, и с ним она будет вполне счастлива. Этим человеком будет он. Иначе и быть не может, потому что разве есть на свете хоть один человек, который умел бы так сильно ее полюбить с первого взгляда и был бы лучше и поэтичнее его? Надо только, чтобы она поняла это. И он беспрестанно думал об их будущей любви и счастье, которое ему представлялось несколько литературно: запущенный сад, кусты цветущей сирени, закат, а может быть, и не закат, а раннее солнечное утро, и они идут вдвоем, совсем одни по благоухающей аллее. Самой судьбой они предназначены друг для друга. Но только она должна это понять, и тогда… О, тогда!…»
Так оптимистично я представлял себе дело в своем романе, путая «он» и «я».
Однако что же? Да ничего. Наступило и прошло лето, на время приостановившее болезнь моей любви, так как все разъехались. Потом наступила осень, а с нею и на время забытая любовь. Я не сказал бы, что любовь вспыхнула с новой силой. Она просто при первой же встрече обнаружилась как не слишком опасная, но неизлечимая болезнь, довольно мучительная.
И вот:
«Деревья шептались, а сад пожелтелый отжившие листья ронял».
Расстегнув шинель, Вольдемар достал из бокового кармана щеточку для усов и бровей, а также гребешочек, которым, сняв фуражку, поправил пробор. Затем, повернув к Ганзе красивое лицо с черными бровями, усиками и подбритыми височками, запел с надрывом: «Я вновь пред тобою стою очарован и в ясные очи гляжу».
Он пел высоким любительским тенором, дрожащим фальцетом, откровенно обращаясь к Ганзе, только к ней одной. Он отдавал ей всю свою душу. И это понимали все. Он вымаливал у нее взаимности, а она с лицом, полузакрытым полями форменной шляпы, казалась совершенно равнодушной.
Я силился угадать, какие чувства владеют Ганзей. Скорее всего ею не владели никакие чувства. Она как бы даже не понимала, что Вольдемар поет исключительно для нее. Или делала вид, что не понимает. А у него в глазах стояли слезы, и горло с небольшим кадыком вылезало из узенького крахмального воротничка и напряженно дрожало.
«Она его не любит», – думал я словами Чацкого, сам себе и веря и не веря. Но одно только чувствовал я, что меня она не полюбит никогда.
Почему? Неизвестно. Между нами с самого начала возникла как бы непреодолимая преграда. Мы легко разговаривали друг с другом, даже шутили, больше того, мы чувствовали друг к другу приязнь. Но мне этого было мало. Я жаждал взаимной любви. А ее-то и не было.
Я любил Ганзю, если так можно выразиться, отвлеченно, как будто не я ее увидел, и выбрал, и вспыхнул, а кто-то другой, не ведомый ни мне, ни ей, выбрал ее для меня на всю жизнь, не спрашивая, хочет она меня полюбить или не хочет.
Все совершалось помимо меня и помимо нее.
Может быть, моя любовь к Ганзе была не материальная, а то, что называется платоническая, и не вызывала в ней ответной искры.
Но, боже мой, насколько эта платоническая, еще даже не юношеская, а детская любовь оказалась сильнее той, другой, уже не вполне платонической, а материальной, даже почти страстной влюбленности, которая ненадолго вспыхнула летом, когда у нас во дворе появились девочки в кружевных платьях, из которых одна была уже совсем взрослая барышня, две другие – близняшки-третьеклассницы, а средняя с короткими бронзовыми кудряшками и серо-лиловыми глазами была Миньона.
Жаркими июльскими ночами Миньона снилась мне, она овладела моей душой, и я забыл Ганзю.
И вдруг осенью в осыпающемся саду, куда уже незаметно прокрались ранние сумерки, а в беседке, где сидела наша компания, сделалось совсем темно, я почувствовал такой прилив любви к Ганзе, что у меня похолодели руки. Я понял, что люблю по-прежнему ее одну и никакой другой, кроме нее, не существует, а почему – неизвестно.
Я почувствовал щемящую грусть.
«Деревья шептались, а сад пожелтелый отжившие листья ронял. Смеркалось. И вдруг чей-то голос несмелый в вечерней тиши задрожал. Окрепли и льются певучие звуки, и с каждым мгновеньем растет в них властная нота непонятой муки и слез накопившихся гнет».
«Я вновь пред тобой стою очарован и в ясные очи гляжу».
«Певец неизвестный, ты счастлив, страдая, ты можешь хоть в песне любить и, в звуки дрожащие душу влагая, страданья свои облегчить. А я, я с любовью своей одинокой, никак не согретой, живу без жгучего взгляда, без песни глубокой, без светлого сна наяву».
Все померкло в моей душе. Чем же все это могло кончиться? Ничем.
И вот теперь в белорусской халупе, где-то в районе, под шум холодного ветра, глядя в маленькое окошко на белые пузыри проливного дождя, я с отчаянием произносил ее имя: Ганзя, Ганзя, неужели ты меня никогда не полюбишь? Уж лучше тогда пусть меня убьет осколок немецкой гранаты.
«25 июля 916 г. Действующая армия. Дорогая Миньона, докладываю, что после боя 19 июня, о котором я подробно писал Вам, началась полоса боев. Ночи превратились в беспрерывный оглушающий грохот, блеск разрывов, пулеметную дробь, напряженную, сверх человеческих сил работу возле орудия и пр.
Дни – мертвая тишина на батарее, ослепительный летний зной, тяжелый, кошмарный сон без сновидений, без мыслей и ощущений бытия.
Только когда в полдень приезжает кухня с обедом, люди в силу физической необходимости выползают из прохладной глубины окопов-погребов. Лица у всех помятые, опухшие от сна. Тоже бредят во сне, вскакивают, скрипят зубами, стонут, мычат. Я так утомлен, истерзан. Болят глаза. И я это чувствую во сне. Мучительно! Наверху, на батарейной линейке, тягостная тишина. Зной. Слышатся чьи-то шаги и звон шпор. Дверь отворяется, и в подземный сумрак блиндажа косо падает широкая полоса яркого полуденного света.
В блиндаже храп, сопение, стоны сквозь сон… Можно подумать, что на нарах лежат тяжелобольные, умирающие…
Я открываю глаза и вижу в дверях, в столбе солнечного света сухую фигурку Тесленко с биноклем через плечо. Он подходит к нарам и долго, внимательно всматривается в спящих солдат. Вся его фигура выражает трогательную заботу. Он как бы шепчет спящим солдатам: «Спите, милые, отдыхайте».
Спросонья я удивленно смотрю на Тесленко и ничего не понимаю. Сажусь на нарах и что-то бормочу непонятное.
Тесленко смотрит на меня и смеется. Говорит:
– Вольноопределяющийся Пчелкин, спасибо за службу. Как себя чувствуете? Ну спите, спите… Не вставайте. До свиданья, Пчелкин, вы вчера ночью были молодцом!
Он выходит из землянки, и только тогда я вскакиваю и становлюсь по стойке «смирно». Но уже поздно. Его шпоры звучат наверху, на батарейной линейке. Вслед ему я бормочу: «Рад стараться, ваш… всок… бродие» – и тут же падаю на нары, погружаясь в сон, похожий на небытие.
Вокруг сопят, плачут во сне, тяжело стонут, всхлипывают»…
Прочитав полустертые временем строки, я вспоминаю этот случай с Тесленко, имевший тогда для меня большое значение. Дело в том, что недавно произведенный в штабс-капитаны и назначенный командиром нашей батареи Тесленко был, как тогда говорилось, из простых, чем очень отличался от других офицеров нашей бригады, в большинстве дворянских и помещичьих сыновей.
Все в Тесленко, начиная от фамилии, было простонародно, а внешностью своей он скорее походил на пехотного солдатика, чем на артиллерийского офицера, разве что от солдата его отличал цейсовский бинокль и хромовые офицерские сапоги, впрочем довольно потертые. Ну и, конечно, четыре новенькие звездочки на офицерских полевых погонах, не золотые, а защитного цвета.
Он был, как уже упоминалось, любимцем солдат и быстро делал карьеру, но не по протекции, а по личным качествам самого храброго офицера в бригаде, умевшего лучше всех стрелять, то есть вести огонь батареи с наблюдательного пункта: быстро, точно, не хоронясь от неприятельских пуль и осколков за бруствер. Если надо, он стоял во весь рост, наблюдая за тем, как ложатся наши снаряды.
Остальные офицеры бригады – чаще всего так называемая белая кость – его недолюбливали; впрочем, как и он их. Конечно, это не имело характера антагонизма, а скорее скрытой неприязни.
Тесленко видел во мне недоучку, попавшего в бригаду по протекции генеральской дочки, с тем чтобы пробиться в прапорщики или даже, чего доброго, схватить Георгиевский крестик. Единственно чего Тесленко не мог понять – почему я не воспользовался привилегией жить вместе с офицерами, а зачислился на батарейный котел и поселился с солдатами. Он сразу же взял меня на заметку и через фельдфебеля подпрапорщика Ткаченко, своего верного слугу и помощника, стал приводить меня в христианский вид, то есть выбивать из меня дух свободного волон-терства: романтическую дагестанскую папаху, кожаную куртку, офицерский пояс и слишком широкие погоны с накладными пушечками, но без номера части.
Через того же фельдфебеля он обмундировал меня, как положено нижнему чину артиллерии – канониру, – и засадил за зубрежку всех воинских уставов. Он неукоснительно следил за тем, чтобы при встрече с ним я становился во фронт, чего от других батарейцев не требовал. Дело в том, что по уставу нижним чинам, как правило, полагалось становиться во фронт не только генералам, но также и своему ротному или батарейному командиру, если даже он был младшим офицером. В действующей армии, в виду неприятеля, под огнем это не очень соблюдалось, но так как я уже один раз нарвался на командира дивизиона, а Тесленко строго следил, чтобы я не манкировал, то я тянулся изо всех сил.
Короче говоря, Тесленко решил или сделать из меня исправного солдата, или замучить дисциплинарными взысканиями и в конце концов выпереть из батареи.
Я это понял и решил не давать повода к неудовольствию своего батарейного командира, старательно исполняя все свои обязанности.
В последнем бою таскал на плечах тяжелые лотки со снарядами из погреба на батарею, обливаясь потом; торопясь и еле дыша, холодея от свиста немецких снарядов, которые рвались совсем близко и даже иногда осыпали меня фонтанами сырой земли и оглушали скрежещущим полетом зубчатых осколков, я все-таки, пробегая мимо командующего стрельбой Тесленко, каждый раз становился ему во фронт и делал это до тех пор, пока он не крикнул мне сквозь грохот разрывов:
– Ну уж ладно, хватит! Можете не становиться во фронт! – Махнул рукой и вытер свое маленькое, как бы помятое личико перчаткой.
Теперь же, спустившись в землянку к спящим батарейцам, он похвалил меня за хорошую службу, и я понял, что в устах легендарного Тесленко это была не только похвала, а как бы даже боевая награда вроде Георгиевской медали, посвящение меня в настоящие боевые солдаты.
Может быть, именно с этого дня началась моя подлинная фронтовая жизнь.
Странно, что об этом важном событии я ничего не написал Миньоне. О каком только вздоре я ей не писал, а об этом, быть может самом значительном, – молчок.
Да что ж… Мальчишка был, о себе прошлом думаю я, и мальчишка довольно-таки скверный. Может быть, я, этот мальчишка, и был носителем бациллы войны: становился под артиллерийским огнем во фронт и чувствовал себя героем.
«В разгаре боев, – было написано дальше в моем письме Миньоне, – днем иду я в лавочку, чтобы купить кофе и папирос, без которых уже не могу обойтись. Привык! По дороге встречается какой-то пехотный подпоручик, который, увидев меня, кричит во всю глотку:
– Пчелкин! А чтоб ты пропал! Иди сюда!
Я обдергиваюсь, направляюсь к нему строевым шагом и строго по уставу, с рукой под козырек, не доходя четырех шагов, останавливаюсь как вкопанный и рапортую:
– По вашему приказанию прибыл. Чего изволите, ваше благородие?
– Ты что – выпил или опупел? Какое я тебе благородие? Не узнал, что ли?
Вглядываюсь. И вдруг, к своему крайнему изумлению, узнаю в пехотном подпоручике своего бывшего гимназического товарища Мишку Подольского, который еще в прошлом году бросил гимназию и поступил в военное училище, выпекавшее за четыре месяца пехотных прапорщиков. Теперь он уже дослужился до подпоручика, на его шашке болталась красная лента темляка ордена Анны четвертой степени, так называемая клюква, и он даже, ввиду большой убыли пехотных офицеров, уже командовал ротой.
Я его сразу не узнал, потому что на его сильно загорелом лице выросли довольно большие усы и вообще… Офицерские погоны, на шашке клюква… Сами понимаете!
– Ах, черт возьми! Какими судьбами? Ты где?
– В Аккерманском полку. Командую ротой, брат. А ты?
– В Шестьдесят четвертой артиллерийской.
– Артиллерия – бог войны.
– Пехота – царица полей.
Обменявшись армейскими любезностями, через некоторое время я уже сижу у Подольского в землянке, и мы пьем чай из настоящих стаканов, с настоящим вишневым вареньем без косточек и курим настоящие папиросы фабрики Попова «Сальве» с противоникотиновым фильтром в мундштуке.
Шикарно!
Все-таки мне как-то не по себе, и я никак не могу отделаться от мысли, что мне, нижнему чину, приходится сидеть в присутствии офицера, хотя этот офицер всего только Мишка Подольский, не более. То и дело я вскакиваю, тянусь и называю его «ваше благородие». Видно, школа Тесленко и Ткачеико дает себя знать.
Впрочем, вскоре, как Вы понимаете, начинаются интимные разговоры о женщинах, о любви…
А о чем еще могут разговаривать на фронте два молодых военных в перерыве между боями?
Он повествует о своей последней любви, а я ему о своей, разумеется, не называя имени.
Говорит подпоручик Подольский настоящим армейским баритоном и обращается к своему денщику (подумайте только, у Мишки уже есть денщик, пожилой тульский благообразный мужичок в солдатской одежде) примерно таким образом:
– А ну-ка, братец, подлей нам еще кипяточку.
Разговор у нас самый задушевный. Мы вспоминаем гимназию и учителя арифметики, которого некогда так боялись. Вспоминаем, как я разбил стекло в актовом зале. Боже мой! Как это было давно и как это было прекрасно! Миша Подольский кладет ноги на свою походную офицерскую кровать и, пуская колечки табачного дыма в бревенчатый потолок, вещает многозначительно, поднимая брови:
– Да, брат Саша, ничего не скажешь: женщины в нашей жизни – это все! Как хочешь, а без любви не проживешь: любовь, братец Пчелкин, великая вещь!
И он довольно многословно и отчасти витиевато развивает мысль о любви.
Я выпил чай с вареньем (с вареньем!), выкурил штук пять «Сальве» и не имел основания оспаривать его соображения насчет любви.
Тем более что… Впрочем, не буду об этом…
– Да, Миша, – говорю я со вздохом, – любовь – это великая вещь. Полюбить можно раз, только раз всей душой, и любовь эта будет чиста, как лазурное море на юге весной, как росинка в изгибе листа…
– Росинка? – с некоторым изумлением поднимает но брови, но, немного подумав, говорит: – Н-да… Росинка… Пожалуй, ты прав.
Мы условливаемся почаще встречаться, благо служим в одной дивизии, и я ухожу.
Вечером перед началом очередного ночного сражения я мельком вижу его на шоссе рядом с нашей батареей. Он едет верхом на сивой лошадке, ведя свою уже довольно потрепанную роту из резерва на передовую.
Ночью бой, в котором Миша убит, о чем я узнаю от раненого пехотинца Аккерманского полка, бредущего по шоссе в полевой госпиталь.
Вот тебе и чай с вареньем, вот тебе и последняя любовь! Действительно последняя. Спи с миром, дорогой боевой товарищ! Сегодня ты, а завтра я. Тот, кто сумел умереть за родину, вероятно, умел по-настоящему и любить! Умел и имел право на большую взаимную любовь.
Вот так, дорогая Миньона. Скучно на этом свете, господа, как выразился Гоголь».
Прочитав эти строки, я сначала поморщился, а потом рассмеялся, вспомнив, как однажды вскоре после революции в толпе гуляющих по традиционному круговороту (Дерибасовская – часть Екатерининской – Пале-Рояль – узкая щель между Пале-Роялем и стеной городского театра – Николаевский бульвар – опять часть Екатерининской – и опять Дерибасовская; замкнутый круг, вернее некое городское кровообращение во мгле декабрьского вечера, скупо освещенного еще действующими электрическими фонарями), среди демобилизованных офицеров-фронтовиков, черноморских моряков с посыльного судна «Алмаз» и броненосца «Синоп», студентов, гимназистов, приказчиков, проституток, эмансипированных горничных и работниц с табачной фабрики Попова, среди папиросных огоньков, – и вдруг нос к носу столкнулся с убитым Подольским, который уже без погон и с красным бантом на груди, зажатый фланирующей толпой, вел под руку сестричку милосердия в косынке, едва прикрывающей кокетливую челку над широким крестьянским лбом с двумя вертикальными морщинками и подкрашенными бровками в шнурок.
По-видимому, это была его последняя любовь, самая что ни на есть последняя, уже послереволюционная.
Как и следовало ожидать, раненый солдат что-то напутал, потому что Подольский был передо мной вполне живой, и мы с ним обменялись веселыми приветствиями, приложив руки к козырькам.
«22 июня утром, едва только кончился бой и батарейцы повалились как мертвые в своих блиндажах и один только я остался наверху, будучи дневальным по батарее, как прилетел немецкий тяжелый снаряд и со страшной силой разорвался недалеко от батареи. За ним другой, третий, четвертый… Да не простые, а восьмидюймовые… И – все они делают порядочный перелет, и вдруг я вижу, что из воронок, вырытых этими снарядами, на батарею ползет какой-то странный, необычный желтовато-зеленый дым, и я чувствую зловещий миндальный запах фосгена. Ясно, что снаряды газовые. Бросаюсь в блиндаж, одной рукой хватаю висящий на стене противогаз, а другой рукой начинаю трясти первого попавшегося спящего батарейца. В мозгу гвоздем сидит одна-единственная мысль: если не успею разбудить, погибнет от газа. И все остальные спящие тоже погибнут.
– Ребята, – кричу, – подъем! Вставай! Живо надевать противогазы!
Потом выскакиваю наверх и начинаю бегать по блиндажам будить спящих. Ведь я дневальный. На мне ответственность.
– Ребята! Вставай! Газы!
Я выкрикиваю эти слова и в то же время пытаюсь натянуть на голову резиновую противогазовую маску новой конструкции, выданную нам взамен устаревшей.
Но уже глаза начинает жечь и щипать. Горло сжимают спазмы. Не имею силы вздохнуть. В груди острая боль, отдающаяся в лопатках. Мысль-молния: наглотался фосгена.
Восьмидюймовые немецкие снаряды продолжают рваться за батареей, и оттуда легкий ветерок тянет на батарею тяжелый ядовитый туман.
Солдаты выскакивают из блиндажей. На их лицах ужас. Они торопливо натягивают на головы новые противогазы. Мне худо. Головокружение. При каждом вздохе в легких кинжальная боль. В висках оглушительный шум. Сначала стучит сильно, звонко и часто. Потом все реже и реже. Сознание неотвратимо уходит. Я уже еле сознаю, что со мной делается. Где? Почему вокруг меня какие-то люди? Кто они? Ах да, тень фельдшера и рядом с ним тень моего взводного. А я сам почему-то лежу на одеяле, разостланном на траве, и почему-то призрак фельдшера берет призрак моей руки, потом подносит к моему носу какую-то склянку. Что-то пронзительно острое. Нашатырный спирт. На миг сознание проясняется. Фельдшер наклоняется надо мной и что-то говорит. Не слышу. Не понимаю. Два спорящих голоса доносятся как бы из-за глухой стены. Я делаю усилие, стараясь улыбнуться, дать понять, что я жив еще, и в тот же миг лечу в пропасть небытия.
Где я? Трава. Солнце. Ветер. Деревья. Шевелится стеклянная листва. Я укрыт шерстяным одеялом. Ах да! Я узнаю это одеяло. Такие одеяла, пахнущие карболкой, имеются у нас в околотке. А вот и знакомый доктор. Рыжий. Громадный. Вороньи глаза. Тараканьи усы.
Сразу почему-то вспоминается, как он орудует у себя в околотке вместе с фельдшером по фамилии Шкуропат. Какая странная фамилия. Оба в халатах поверх военной формы.
– Открой рот. Покажи горло.
Доктор немного боком, как ворона, мельком заглядывает в разинутую солдатскую пасть.
– Ангина. Шкуропат, смажь ему горло йодом. Шкуропат берет из стакана специально обструганную
лучинку, оборачивает ватой, макает в склянку с японским йодом и лезет черной, как деготь, ваткой в багровое горло. Солдат морщится, кривится, сплевывает.
– Иди в батарею. Следующий!
У меня до сих пор при виде не то рачьих, не то вороньих глаз доктора возникает во рту резкий и в то же время мучительно сладковатый вкус японского йода. Почему именно японского? Потому что японцы наши союзники и присылают нам всякие медицинские товары, в частности йод, который выделывают в Японии из океанских водорослей, а также очень маленькие, крошечные термометры – стеклянные палочки немногим больше спички. Их надо не ставить под мышку, а держать во рту, что очень смешит наших больных солдат…
Но теперь доктор наклоняется ко мне, выслушивает меня стетоскопом и командует:
– Шкуропат! Быстро! Поверни его спиной вверх, задери ему рубаху!
Меня переворачивают, и доктор крепкой опытной рукой вонзает мне шприц в ту же лопатку, куда он недавно вкатывал противохолерную прививку. Я не успеваю крикнуть, как он вгоняет второй шприц. Это камфора.
Впоследствии доктор как-то заметил мне:
– Скажите спасибо, что я не пожалел для вас казенной камфоры и вкатил вам по знакомству не один, а два укола. А то бы вы были уже давно на том свете.
Меня несут в санитарную повозку. Чувствую себя легче. В повозке кроме меня еще четверо раненых и отравленных газом. Двое хрипят, умирают. У них почерневшие, как уголь, лица. Повозку трясет по набитой фронтовой дороге. И под хрипенье умирающих я вдруг засыпаю и через какое-то время вижу чисто вымазанные белые стены какой-то комнаты. Сознание возвращается. Я слышу паровозные свистки, стук вагонных буферов и понимаю, что нахожусь в дивизионном лазарете на станции Залесье. Дышать легче. Понимаю, что спасен. Меня спас второй укол, сделанный по знакомству. Ведь мне приходилось встречаться с доктором еще до фронта у Вас в доме. Кажется, он даже пытался ухаживать за Вами? Значит, в конечном счете это именно Вы спасли меня. Вам я обязан жизнью…
Белый хлеб. Слабый больничный супчик. Халат и туфли. Понимаю, что меня здесь держат на офицерском положении, чем я тоже, вероятно, в конечном счете обязан Вам…
Утро. Солнце бьет в окно. Я только что проснулся. Сижу на постели и думаю. Хочу восстановить в памяти по порядку, что же со мной произошло в течение последних суток. Но все как-то не складывается. Кашляю.
Из соседней палаты доносится позвякиванье шпор, и у моей койки появляется Ваш папа. Ну да. Для вас он просто папа, но для меня, артиллерийского солдата, он ваше превосходительство, генерал-майор, командир бригады, мое самое высшее прямое начальство, так что можете себе вообразить мое самочувствие. Смесь страха, радости и гордости: меня, ничтожного канонира, посетил сам командир артиллерийской бригады.
Это надо понять!
– Здравствуйте, Пчелкин.
Я делаю отчаянную попытку вскочить с койки, но из этого ничего не получается, я падаю обратно на тюфяк.
– Здрав… Желай… ваш… дительство… – только и успеваю я пробормотать хриплым голосом.
– Ничего, ничего, лежите, – говорит Ваш папа, улыбаясь Вашей улыбкой. И снова его круглая, ежиком стриженная, серебряная голова, его небольшая фигурка, его розовые щеки и подстриженные усики, его внимательные серо-голубые глаза сиреневого оттенка напоминают что-то глубоко Ваше, фамильное, милое.
Я очень тронут его посещением, которое произвело большое впечатление на весь лазарет: еще бы, генерал посетил нижнего чина!
Мои шансы в лазарете повысились.
К вечеру Ваш папа присылает мне с адъютантом несколько переводных романов, иллюстрированных журналов и газет. Мне приносят также и почту. В том числе письмецо от Вас.
Боже, как хорошо: дни солнечные, душистые, июльские. Поправляюсь после фосгена. Разрешают выходить. В полдень лежу на стоге только что скошенного сена в халате, в туфлях и читаю.
Меня хотели отправить на лечение в Москву. Большой был соблазн увидеть первопрестольную! Но я упросил начальство, чтобы меня отправили долечиваться обратно в батарею, тем более что через неделю вся бригада уходит со старых позиций под Сморгонью. А у меня легкие не задеты. Только бронхи, так что надеюсь скоро совсем выздороветь. Может быть, буду хрипло разговаривать – только и всего…
Моя батарея снова назначена по аэропланам. Переход более двухсот верст пешком…
…На днях опять уходим. Если верить солдатскому телеграфу, уходим очень далеко, чуть ли не на другой фронт. Будем грузиться на поезд.
До свидания, до следующего письма, в котором все опишу подробно.
В этом моем старом письме, полном множества событий, чувствуется спешка. Я стал вспоминать события, не попавшие в письмо. Прежде всего прощанье со старыми позициями под Сморгонью, с местностью, где я прожил почти семь месяцев, к которой привык, где так много пережил, передумал, перечувствовал, где остались развалины костела, поверженное распятие, красное сердце на грудной клетке деревянного Христа.
Всякое расставание – это расставание навсегда, хотя кажется, что все прошлое еще может вернуться. Нет! Прошлое превращается в воспоминание, в нагромождение минувших событий, мыслей, чувств, расположенных уже без всякого порядка. Время уже не властно над памятью. У памяти свои законы. Время исчезает, оставляя лишь хаос раскрепощенного сознания.
Мучительное мгновение превращения настоящего в прошлое. А подлинные события, ушедшие в небытие, вдруг возвращаются откуда-то, как из черного провала обморока, видоизмененные, очищенные, препарированные и бесконечное число раз повторяющиеся в двух перспективах, как отражение горящей свечи, поставленной между двух зеркал, уходит в бесконечность прошлого, а также одновременно в бесконечность будущего.
В бесконечность прошлого и в бесконечность будущего ушли вспомнившийся мне прифронтовой лес, желто-красные колонны мачтовых сосен и маленький пехотный солдатик, мужичок-землячок, сидящий на снегу под сосной. Лес, казавшийся мне до сих пор пустынным, вдруг оживился. Откуда ни возьмись появились солдаты: ездовые в стеганых телогрейках, пехотинцы в коротких порыжевших шинельках, санитары в бязевых халатах. Они стояли вокруг солдатика под сосной, в ужасе глядя на его окровавленную смерзшуюся бороденку, безумные глаза великомученика и трясущиеся руки, протянутые вперед. Ужасные руки с оторванными кистями. Вместо кистей из запястий висела странная лапша, как бы составленная из красных, желтых и синих оборванных волокон, сочившихся сукровицей.
Солдатик мычал, как немой, и все его тело дрожало мелкой дрожью. Он мычал и плакал. Слезы текли по его лицу.
Оказывается, у него в руках взорвалась дистанционная трубка, которую он свинтил с неразорвавшегося немецкого снаряда. Солдатик пытался развинтить эту боеголовку, дистанционную трубку, с тем чтобы добыть из нее алюминиевые кольца, необходимые ему для изготовления алюминиевой ложки.
Чувство самосохранения подсказало ему, что боеголовка – штука опасная, и он, чтобы уберечься от возможного взрыва, спрятался за надежный ствол мачтовой сосны, обнял его руками и начал ковыряться ножиком в боеголовке; спасая голову, он забыл о руках. Боеголовка, как и следовало ожидать, взорвалась в руках у неопытного пехотинца и напрочь оторвала ему обе кисти, которыми он, еще не сознавая, что случилось, схватился за лицо и обмазал бороду кровью, уже свернувшейся и почерневшей на морозе.
Эта картина, возникшая из прошлого, встала теперь передо мной с такой стереоскопической детальностью, что я застонал.
Другая картина из прошлого представляла летний пейзаж с песчаным косогором, поросшим диким кустарником, по которому я пробирался из обоза на батарею. Внезапно я увидел небольшую суглинистую плешину и три фигуры. Двое из них, судя по погонам, были комендантского взвода, а третий – худой, высокий, белобрысый человек в какой-то странной синеватой шинели, висевшей на нем, как халат, – усердно копал лопатой яму и уже стоял в ней по пояс. Один из солдат комендантского взвода держал ружье на изготовку, а другой, как бы дожидаясь чего-то, курил козью ножку, свернутую из газетной бумаги, и поплевывал себе под ноги.
В этой группе, расположившейся в глухом месте, вдалеке от артиллерийских и пехотных позиций, показалось мне что-то неприятно-странное, и я спросил:
– Что это вы, братцы, делаете?
На мой вопрос тот солдат, что курил и поплевывал, держа винтовку у ноги и обнимая рукой штык, ответил: – Да вот поймали в нашем боевом расположении шпиона: чи он переодетый немец, чи поляк. Ничего особенного. А вы, господин вольноопределяющийся, идите себе, куда идете.
Я откозырял и пошел своей дорогой, пробираясь сквозь кустарник, и лишь отойдя на порядочное расстояние, вдруг со всей ясностью осознал значение только что увиденного, в особенности согбенную спину человека в синеватой шинели, стоявшего с лопатой в руках по пояс в яме, его желтые волосы, шевелящиеся на ветру.
В первое мгновенье я обомлел, но тут же мне пришла спасительная мысль: ничего, мол, не поделаешь, так надо, война есть война, а шпион есть шпион.
Все же мутный осадок остался на всю жизнь.
Оба случая – и солдат с оторванными кистями рук под мачтовой сосной, и белобрысый шпион, копающий собственную могилу под наблюдением двух стрелков из комендантского взвода, – являлись случаями исключительными. А жизнь на батарее текла своим привычным порядком.
Как это ни странно, война научила многих неграмотных солдат читать и писать.
Зимой, когда почти все боевые операции были приостановлены и жизнь ушла глубоко под землю, в блиндажи и землянки, батарейцы стали скучать. Время заполнилось перечитыванием писем с родины, игрой в самодельные шашки, или, как они назывались, в дамки, чтением вслух неизвестно откуда взявшихся потрепанных лубочных книжек с заглавиями вроде «Любовь авантюристки», «В погоне за золотом», а также классической повести еще, вероятно, со времен Ермолова и покорения Кавказа «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа».
Иногда до глубокой ночи в нашей орудийной землянке чадила керосиновая лампочка без стекла, копоть щипала глаза, в густом воздухе топор можно повесить – и батарейцы, затаив дыхание, слушали назидательный голос грамотея, который почти по складам читал им всю эту чепуху.
Я, считая своим долгом «сеять разумное, доброе, вечное», написал отцу, чтобы он прислал мне какую-нибудь книгу Льва Толстого, и, получив «Анну Каренину», начал читать солдатам вслух этот роман. Солдаты слушали его, затаив дыхание, как, впрочем, и все предыдущие книжки, причем больше всех им понравился Стива Облонский, его они весьма одобряли, а что касается Анны Карениной, то она была единогласно названа шлюхой.
Разумное, доброе, вечное мои товарищи по батарее воспринимали весьма своеобразно.
Вообще-то грамотных в батарее оказалось больше, чем неграмотных. Неграмотных всего трое: мой друг Прокоша Колыхаев, цыган из города Ананьева по фамилии Улиер и огромный, как медведь, но по-детски добрый и даже ласковый, со щербатыми зубами сибиряк Горбунов откуда-то с берегов Байкала.
Первым научился грамоте Колыхаев. Он получал через каждые два дня письма от своей обожаемой, как он выражался, благоверной и благочестивой супруги Нины, в которую до сих пор был влюблен и втайне страдал от вынужденной разлуки. Его угнетала необходимость читать ее письма и отвечать на них. А так как в письмах содержались откровенно любовные, а также семейные секреты, то Колыхаев пытался сам их читать, а иногда обращался за помощью ко мне. А уж ответ приходилось писать кому-нибудь из грамотеев под его диктовку, например столяру Попленко, и это Колыхаева очень стесняло.
Потом Колыхаеву пришла дерзкая мысль написать жене письмо самому, не прибегая ни к чьей помощи. Попробовал. Забился в угол землянки, достал из вещевого мешка заветную стеариновую свечу, которую очень берег на всякий случай, зажег ее, прилепил к выступу мазаной печки и развернул последнее письмо своей «благоверной, благочестивой и сильно грамотной» супруги Нины. Он изучил его детально и всесторонне, а потом «позычил» у меня лист почтовой бумаги, приладил его к какой-то дощечке и стал что-то царапать химическим карандашом, время от времени обильно его обслюнивая, отчего губы его стали лиловыми.
Он действовал бесхитростно: переделывал письмо своей супруги, обращенное к нему, мужчине, применительно к ней, к женскому роду. Жена писала «дорогой Прокоша» – значит, следовало написать почти то же самое, но только заменить слово «Прокоша» словом «Нина».
«Дорогой Нина», – вывел он крупными буквами, так называемыми воробьями. Дня через два письмо было готово и отослано. Благоверная Нина, конечно, ничего не поняла, но любящим сердцем угадала, что хотел написать ее дорогой супруг Прокоша. С тех пор Колыхаев писал жене сам, в крайних случаях советуясь со мной, напрактиковался и стал писать весьма недурно.
Потом под моим руководством научился писать сибиряк Горбунов. Начал он писать как-то сразу, хотя и с ошибками, но, в общем, толково. У него появилась мечта стать вполне грамотным, и я обещал летом научить его как следует писать и читать, а он за это помогал мне стирать белье а научил пилить и колоть дрова.
Цыган Улиер с черно-синей бородой и кудрявой шевелюрой цвета ежевики тоже брал у меня уроки грамоты и даже пытался писать самостоятельно, но ничего у него не вышло. Он был чудесный, добрый, хороший человек, но уж очень неразвитый от природы. Одно письмо жене своей в город Ананьев он писал месяца три, всю зиму, да так и не дописал.
За пять верст от батареи, в тылу, в деревушке Бялы открылась лавочка земского союза. В ней продавались белые булки, сало, табак, рафинад, печенье «Мария» и «Альберт». Когда становилось известно, что лавочка открыта, орудийная прислуга приходила в волнение. Сейчас же снаряжались два-три человека за покупками. Деньжата у солдат водились. Ведь мы получали денежное довольствие. Канонир получал пятьдесят копеек в месяц, бомбардир – семьдесят пять, младший фейерверкер – рубль десять копеек. У кого был Георгиевский крест, тот, кроме того, получал в месяц три рубля.
Были также среди солдат картежники, игравшие на деньги, а у картежников, как известно, всегда то пусто, то густо, но чаще всего густо.
Мой взводный фейерверкер Чигринский, о котором я уже упоминал, был крупный картежник. Когда позволяла обстановка, он ходил куда-то в пехоту, где велась крупная Игра в «очко» и «железку». Иногда он возвращался в выигрыше. У него всегда имелось в наличности рублей десять – сумма для нас фантастическая.
Однако впоследствии я понял, что его исчезновения из батареи, хождение в пехоту и в соседние артиллерийские дивизионы имели двойную цель: во-первых, игру в карты, а во-вторых, еще что-то гораздо более значительное. Я думаю, игра в карты являлась только прикрытием тайной, подпольной политической деятельности. В чем заключалась эта деятельность, я тогда совсем не понимал, но чувствовал в ней что-то скрытно революционное.
Однажды я случайно услышал, как, дежуря по батарее и расхаживая по линейке вдоль орудий, красавец Чигринский мурлыкал про себя: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой, братский союз и свобода – вот наш девиз боевой». Мотив и слова были мне до сих пор неизвестны. Песня была не общеизвестная солдатская, не народная, а какая-то совсем другая…
…Лавочка представляла обыкновенную белорусскую халупу, разделенную на две части. В одной помещалась собственно лавочка, а в другой жила заведующая лавочкой сестрица. Лавочка обыкновенно открывалась в одиннадцать часов утра, так как земсоюзовская сестрица любила поспать в полное свое удовольствие. Но уже с девяти часов у двери Лавочки, на которой висел амбарный замок, собирается длинная очередь, именуемая по-армейски затылок. Кого только нет в этом затылке: саперы, артиллеристы, пехотинцы, санитары, фельдшеры, даже однажды появился мортир Черноморского флота, прикомандированный к пехоте вместе со своей двухдюймовой морской скорострельной пушечной системой Гочкиса с деревянным прикладом, из которой он палил по немцам с самого близкого расстояния. Пушечка эта была снята с какого-то военного корабля.
…Затылок шумит, волнуется, в морозном воздухе пахнет махоркой. Здесь особенно заметна работа солдатского телеграфа.
Из уст в уста передаются самые последние новости и слухи – не только фронтовые, но также и тыловые, политические, подчас зловещие: насчет воровства в интендантстве, насчет полковника Мясоедова, повешенного за шпионаж и измену, насчет сибирского мужика Распутина, хозяйничающего в доме Романовых, как у себя в избе, насчет голодающего народа, насчет лучших земель, захваченных кулаками и помещиками, насчет неизбежного военного поражения и скорого заключения мира, о котором вся армия только и мечтает.
Хватит! Повоевали! Будя! Попили нашей солдатской кровушки!
Обо всем этом говорилось больше намеками, с присказками, ужимками, многозначительными умолчаниями, скорее ворчливо, чем грозно.
Солдаты не стеснялись высказываться в моем присутствии. Меня давно уже считали как бы своим, несмотря на мои погоны вольноопределяющегося.
Ах, как это было непохоже на мое прежнее представление о войне!
Вот бы, думал я тогда, привести сюда авторов военных рассказов, заполняющих газеты и журналы того времени, и поэтов, воспевающих в своих патриотических стихотворениях безымянных героев в серых шинелях, идущих на врага «с железом в руках и с крестом в сердце».
Но вот ровно в одиннадцать появлялась неизвестно где ночевавшая сестрица в черной кожаной куртке на меху, в валенках и папахе, не без лихости заломленной над блудливым румяным личиком с кудряшками на лбу.
– Здравствуйте, солдатики!
– Здрав… жлай… сестрица!
– Ну-ну, не толпитесь, не напирайте. Всем хватит. Щелкает амбарный замок.
– Кто с передовых позиций, вперед!
Несколько пехотинцев протискиваются вперед. Они вне очереди. Это их священное право.
Вскоре по всем фронтовым дорогам и тропинкам идут на позиции солдаты с узелками и кульками, а больше всего с пачками махорки «Тройка» и книжечками папиросной бумаги, оттопыривающими карманы их потрепанных, а местами слегка обгорелых боевых шинелек.
Лица счастливые, розовые с мороза. Они уже выбросили из головы все, что принес им солдатский телеграф, пока стояли в затылке у входа в лавочку.
Но нет. Они не выбросили из головы. Не забыли.
…Они не забыли… Они не забыли…
Против лавочки рубленая избушка – солдатская банька. Возле нее христолюбивое воинство топчется со свертками белья и березовыми вениками под мышками. Вениками, наломанными с кутузовских берез, они запаслись впрок еще прошлым летом и хранили их в своих вещевых мешках вместе с противогазами, не зная, доживут ли они до зимы.
В промежутке между боями шла монотонная армейская жизнь, страх смерти исчезал, а «равнодушная природа» продолжала свой круговорот: морозы сменялись оттепелями, зима переходила в весну, сверкали ручьи, голые деревья покрывались зеленью, наступало лето, солнце жгло неимоверно, случались грозы и ливни со всей их неописуемой красотой, в лесах пахло грибами, незасеянные крестьянские поля зарастали сорняками, скудная белорусско-литовская земля, истерзанная войной и засоренная камнями, принесенными сюда еще со времен ледникового периода, которые давно уже никто не убирал и не складывал на обочинах, как водится, белыми пирамидками, кое-где рождала хилый колос самосеяной ржи или синюю коронку василька, теплящуюся, как лампадка.
В один из таких знойных дней я сидел на лафете, грелся на солнышке и думал о Ганзе, о своей страшной безответной любви, когда сзади ко мне подошел Колыхаев, постоял некоторое время молча и наконец произнес:
– Вот это насекомая так насекомая!
С этими словами он осторожно двумя пальцами снял с воротника моей гимнастерки и показал жирную полупрозрачную платяную вошь, зеленовато-черную внутри.
Добродушно улыбаясь в усы, он положил насекомое на ноготь большого пальца и прищелкнул другим ногтем так, что послышался звук лопнувшего пузырька.
Я был ошеломлен. Я так тщательно следил за собой, ходил в баню, часто стирал белье; даже в лютые морозы. Выстиранные рубахи и подштанники, развешанные на елочках маскировки, надувались от жгучего северного ветра, да так раздутые, с раскинутыми рукавами и леденели, гремя, как жестяные. Когда я вносил их в натопленную землянку, они оттаивали, но оказывались совершенно сухими. Мороз высушивал их. Приятно было надевать свежевыстиранное белье, пахнущее с мороза ландышем!… И вдруг на мне нашли вошь!
Конечно, подумал я, это простая случайность. Вошь наползла на меня с кого-то другого. Но Колыхаев внимательно осмотрел меня со всех сторон своими зоркими рыбацкими глазами и снял с моего погона еще одну вошь, которая с медленной скоростью секундной стрелки мелкими стежками ползла по нагретому солнцем сукну.
– Так что поздравляю вас, обовшивевши, – добродушно сказал Колыхаев, казня второе насекомое.
– Не может быть! – воскликнул я, покраснев так ярко, словно меня уличили в чем-то постыдном, в позорной болезни.
– Что тут, друзья, за происшествие? – раздался сановный голос фельдфебеля Ткаченко, вместе со всеми остальными батарейцами вылезшего из своей особой фельдфебельской земляночки погреться на солнышке.
Я резво вскочил на ноги и вытянулся.
– Ничего. Не тянитесь. Седайте обратно, – сказал Ткаченко, выпятив по своему обыкновению живот и грудь с Георгиевскими крестами и медалями, и сделал передо мною несколько шагов туда и назад, как бы перед фронтом.
Он обдумывал происшествие: в армии велась неусыпная борьба с вшивостью.
– А ну, господин вольноопределяющийся, – наконец сказал он, – попросю вас, скидайте гимнастерку, и давайте побачим, что у вас там такое завелось.
Я снял пояс и стянул через голову гимнастерку, ту самую, из толстого японского сукна, некогда купленную на толчке. Гимнастерка вывернулась наизнанку, показав все свои внутренние швы и завязанные узелочками шнурки, которыми были прикреплены пуговички погонов. Шнурки эти оказались покрытыми белесым бисером гнид, которые блестели также внутри швов.
Ткаченко нахмурился и приказал вызвать на линейку всех свободных от нарядов батарейцев. Он прошелся несколько раз туда и обратно вдоль строя, погладил себя по своему офицерскому поясу, облегавшему живот, и сказал:
– Вот что, друзья. Скидайте гимнастерки и рубахи, и посмотрим, что у вас там делается.
Мне и сейчас, уже старику, неприятно вспоминать картину знойного июльского дня и ряд полуголых батарейцев, сидящих кто на земле, кто на лафете, кто на пороге землянки и под наблюдением фельдфебеля бьющих вшей, выловленных в складках нижних рубах и гимнастерок.
– Вот, друзья, до чего вы себя допустили за долгую зиму в землянках. А ну-ка скидайте шаровары, так как насекомые больше всего любят размножаться в суконных штанах и подштанниках. Не стесняйтесь, так как здесь в радиусе на двенадцать верст вы не найдете ни одной жинки, кроме дивчины из лавочки земского союза. Так что действуйте смело!
Развели костер из сухого валежника, и батарейцы трясли над ним верхнюю и нижнюю одежду, выжаривали насекомых, которые, падая в огонь, электрически потрескивали.
Фельдфебель, в общем, был удовлетворен: его батарея не слишком сильно обовшивела за зиму. Могло быть и хуже.
…На пять или восемь верст в окружности между развалинами Сморгони, деревней Бялы, железнодорожной станцией Залесье и деревянным мостом через синюю реку Вилию, на который немецкие аэропланы постоянно сбрасывали бомбы, и всегда версты на две мимо, лежала лесистая местность, казавшаяся такой мирной, даже безлюдной, а на самом деле набитая войсками всех видов оружия, особенно артиллерией.
Бродя в свободное время по окрестностям, я то и дело натыкался на хорошо замаскированные батареи разных систем и калибров. На одну версту фронта я насчитал сто пять, как принято говорить, стволов: несколько батарей полевых трехдюймовок, гаубичные дивизионы, тяжелые орудия и даже две железнодорожные платформы с чудовищными виккерсовскими дальнобойными пушками:. их наблюдатели находились в корзинах привозных аэростатов и постоянно висели высоко в небе. Я уж не говорю о морских двухдюймовках системы Гочкиса, размещенных в пехотных окопах.
Вся эта могучая убойная сила была нацелена на одну сравнительно небольшую высотку, занятую немцами.
Я сначала не понимал, на кой черт тратить столько усилий против такой сравнительно пустяковой цели. Но как-то, побывав на станции Залесье в вагоне-лавке Союза городов, я купил столичные газеты и увидел в них множество цензурных плешей и целых длинных статей, замазанных черной цензурной так называемой икрой, действительно похожей на паюсную. Кроме того, там были помещены указы о смещении старых и назначении новых сановников. Все это заставляло думать, что в тылу далеко не все благополучно, что Российскую империю трясет.
Прочитав же телеграммы из-за границы, а также сводки верховного главнокомандующего, и шагая по железнодорожному полотну Минск – Вильно в свою батарею, впервые понял я истинные масштабы войны, которую до сих пор не воспринимал как мировую. Я понял, что наступает критический момент и мы спасаем своих союзников – французов и англичан, отвлекая немецкие дивизии с западного фронта на себя. Мощная демонстрация на нашем небольшом участке фронта, о котором будущие историки, может быть, даже и не упомянут как об одной из героических страниц русской славы и верности союзникам, стала для меня особенно дорогой, и мне не хотелось переходить на какой-то другой фронт.
Но ведь я сам вместе со всеми батарейцами проклинал утомительную позиционную войну, сидение на одном месте, надоедавшее до последней степени, неизвестно когда этот кошмар кончится.
И вот он кончился. По-видимому, для нас кончилась позиционная война и наконец-то начнется война веселая, полевая, с быстрыми передвижениями, как и подобает войне наступательной, победоносной.
Я уже забыл на некоторое время распятие среди развалин костела и тягостное ощущение, что сам антихрист вселился в меня.
Я желал перемен в своей судьбе. А стоило мне только чего-нибудь пожелать, как оно исполнялось. В этом было что-то зловещее.
«Г. Ренн, Бессарабской губернии, 11 августа 916 года. Сейчас я в Рени. Дунай – серая, как бы пыльная, широкая, некрасивая река. Арбуз стоит три-четыре копейки. Привет всем Вашим. Дорогая Миньона, продолжаю прерванное. Прежде чем попасть на берег Дуная, нам еще пришлось порядочно помотаться. Оставив наши насиженные места под Сморгонью, мы прошли пешим порядком верст пятьдесят по лесистым местам и болотистым дорогам и остановились в убогой, седой деревеньке: бревенчатые избы с почерневшими соломенными крышами. Может быть, эти-избы еще помнят Наполеона и войну двенадцатого года.
Рябины с гроздьями огненно-воспаленных ягод. На огородах репа и грядки белых, лиловых, розовых маков. В небе сизые тучки. Север! Возле деревни, за ручьем, посередине ярко-зеленой зыбкой топи, пружинящей под сапогами, аэропланная позиция, которую мы должны охранять. Там находится надежно замаскированный отряд военных летательных аппаратов типа «Илья Муромец» конструкции молодого политехника Сикорского.
Вы, наверно, об этом уже читали в газетах.
Признаться, я не без волнения узнал, что мы будем охранять прославленные аэропланы «Илья Муромец», это ведь наша национальная гордость. Наше единственное свое собственное, неповторимое изобретение в области воздухоплавания, или, точнее, авиации. До сих пор нигде, кроме России, нет такого устойчивого, громадного, грузоподъемного аппарата тяжелее воздуха. Куда с ним тягаться неуклюжему немецкому дирижаблю «Граф Цеппелин»!
Наши трехдюймовки установлены на новых деревянных усовершенствованных станках, позволяющих без труда поднимать орудийные стволы почти вертикально, в зенит, почему появилось новое словцо «зенитная артиллерия», наши трехдюймовочки стали зенитками.
Разбиты палатки для прислуги, остается ждать немецкого налета. Однако погода хмурая. Значит, немец не прилетит?
Ужасно хочется хотя бы одним глазом посмотреть на легендарного «Илью Муромца», которого мы назначены охранять. Однако до сих пор мы его еще не видели. Только иногда из-за леса, где расположены защитного цвета большие палатки авиационного отряда, доносится грозный громоподобный гул могучих аэропланных моторов.
Иногда густое пение невидимых пропеллеров становится до того явственным и близким, что все мы невольно задираем головы, надеясь увидеть в тучах легендарный самолет. Напрасно. Это всего лишь слуховой обман. Моторы работают не в небе, а пока лишь на земле. Их пробуют.
Наши офицеры уже успели побывать в гостях у авиаторов и видели диковинные аэропланы-гиганты. Говорят, нечто изумительное. Огромные, но в то же время легкие, отлично сконструированные.
Я ждал с нетерпением, когда и мне посчастливится увидеть их своими глазами.
Наконец дождался.
Раннее утро. Только что взошедшее солнце бросает свои красные косые лучи на мою палатку. Палатка внутри наполнена розовато-желтым светом утреннего солнца. Я выхожу из палатки и вижу ярко-зеленую трясину, кустики можжевельника и на стеблях луговых трав и цветов капельки росы – остатки предутреннего тумана. Эти капельки в лучах солнца ярко горят всеми цветами радуги – янтарными, рубиновыми, изумрудными, фиолетовыми.
Отчего я проснулся в такую рань? Спросонья мне кажется, что где-то совсем недалеко идет бой. Его гул катится по лесам. Но ведь мы далеко от передовых позиций, верст за пятьдесят. Выстрелов не может быть слышно. Может быть, просто шалят нервы? Прислушиваюсь. Гул, похожий на звуки боя, короткими упругими волнами ходит в воздухе, раздаваясь где-то наверху, в небе, и отдается многократным эхом по окрестным лесам.
Задираю голову.
В небе слышатся шум и гром мощных авиационных моторов. Вижу: прямо надо мной, в самом зените, крестообразно распластанный летательный аппарат. Это «Илья Муромец» или, может быть, «Русский витязь». Какой огромный! Как спокойно и быстро плывет в.небе. Он летит очень высоко. Так высоко, что его каюта, о которой мы слышали от офицеров, видна еле-еле.
Аэроплан, похожий на в десять раз увеличенный «фар-ман», описывает красивый, плавный круг и уходит куда-то далеко за зубчатую кромку леса, синеющего на горизонте. Уменьшается. Постепенно теряет форму распластанного креста распятия. Теперь видны обе его плоскости как две слабые полоски. Шум моторов слабеет. Солнце поднимается выше. Две плоскости аэроплана сливаются в одну, превращаются в точку. Он уже очень далеко, верст за семнадцать, а все-таки еще виден простым глазом.
На батарее оживление. Все смотрят в небо. Выпукло поблескивают офицерские бинокли.
Говорят, что «Муромец» ушел далеко во вражеский тыл, захватив с собой порядочный запас бомб.
Через три часа знакомый гул моторов. Но на этот раз несколько жидковатый. В полуденной синеве отчетливо силуэтится знакомый воздушный корабль, возвращающийся с боевого задания. К вечеру солдатский телеграф сообщает, что «Муромец» совершил налет на немецкие тылы, взорвал склад снарядов, сделал важные наблюдения, сфотографировал узловую станцию и подвергся ураганному обстрелу неприятельской зенитной артиллерии, подбившей два его мотора, так что он с трудом дотащился домой на остальных двух моторах, оставляя за собой шлейф дыма.
На следующее утро получаю разрешение и отправляюсь в авиационный отряд посмотреть муромцев. Отряд расквартирован в чьем-то старинном родовом имении. Огромный столетний парк, такой густой и темный, что сквозь листву небо просвечивает слабой голубой сеткой. Пахнет сыростью, мхом, древесной старой корой. Поражают крупные бабочки. Через ручей перекинуты затейливые мостики, сделанные из березовых сучьев. Круглые беседки с белыми колонками. Пруд с почти черной, тяжелой, неподвижной водой, покрытой водяными лилиями – ненюфарами. В барском доме помещаются наши авиаторы, которых с легкой руки футуристов уже называют новым словом (неологизмом!) – летчики. Там и сям на дорожках мелькают их синие костюмы.
Палатки с аэропланами находятся позади парка, в поле. Палаток всего две. Они очень велики, просторны и укреплены сложной системой веревок и кольев. В сущности, это даже не палатки, а целые полотняные ангары.
Я и сопровождающий меня моторист отряда входим в первую палатку-ангар. Здесь ровный, желтоватый, как бы полотняный свет и чувствуется много неподвижного воздуха.
…столетний парк и красивые бабочки, сидящие на пнях, напомнили мне парк Хаджибеевского лимана. Незабвенный парк…
Посредине палатки стоит громадный, раза в четыре больше обыкновенного «фармана», многоместный и четырехмоторный, по виду легкий, несмотря на свой многопудовый вес, биплан. На его крыльях во время полета может свободно ходить механик и в случае надобности, так сказать на лету починить мотор или даже два мотора, а всего их четыре, но не вращающиеся вместе с пропеллером, как традиционные «гном-роны», а стационарные, неподвижные.
Кабина похожа на небольшой железнодорожный вагон, может быть, даже вагон конки с квадратными окошками.
Вы, наверное, видели в «Ниве» или каком-нибудь другом журнале фотографию государя императора в походной форме на борту «Ильи Муромца»: держась одной рукой за поручень, он стоит на фюзеляже и своими лучистыми глазами смотрит с улыбкой прямо в объектив фотографического аппарата – вот, дескать, какой у нас богатырский боевой аэроплан.
Вместе с мотористом, который дает мне объяснения, я обхожу вокруг аппарат, удивляясь толстым резиновым шинам его колес. Он представляется мне чем-то вроде скелета доисторического животного, выставленного напоказ в некоем полотняном походном музее.
Всего не опишешь, но впечатление большое. Особенно поражает, как я уже говорил, легкость всей конструкции, хотя вес аэроплана более ста пудов.
Потом мы переходим в другую палатку, и я осматриваю другой аэроплан того же типа, тот самый, который на днях выдержал ураганный огонь немецкой зенитной артиллерии.
Я смотрю на его поцарапанные осколками, местами залатанные плоскости и живо представляю себе, как вокруг него в небе рвалась неприятельская шрапнель, в то время как из-под его нижней плоскости отрывались подвешенные там грушевидные бомбы и со свистом и воем падали на немецкие тылы, поднимая целые облака черного дыма, в середине которых мигали красные молнии.
За взрыв неприятельского артиллерийского склада, беспристрастно зафиксированный пластинкой фотографического аппарата, специально установленного на «Илье Муромце», командир корабля представлен к белому крестику.
Наша зенитная батарея почти все время бездействует, так как немцы почему-то в нашем районе не летают. Поэтому возле батареи в палатках помещаются только дежурные орудийные номера на случай тревоги, а остальные живут в деревне недалеко от позиции.
Я и два моих товарища-вольноопределяющихся занимаем отдельную квартиру. Большая бревенчатая комната, где мы занимаемся уставами, читаем и пишем письма, всегда чисто вымыта и выметена, стекла в окнах протерты. Хозяева наши – три белорусские красавицы с льняными косами. Всех их родственников мужского пола забрали на войну. Они остались одни. Им скучно, и мы в некотором роде развлечение для них.
По вечерам при свете керосиновой лампочки происходит нечто вроде посиделок, или, на нашем с Вами языке, легкий флирт (о, совсем невинный, уверяю Вас!) с примесью милого сельского кокетства. Бога ради, не подумайте худого. Вы же прекрасно знаете… Впрочем, о своих чувствах молчу… молчу…
…но вот в один прекрасный день призвал меня к себе командир батареи, куда меня недавно перевели для дальнейшего прохождения службы, и сказал приблизительно следующее:
– Так как вы имеете право на получение офицерского чина, то я должен сказать, что нашить на вас офицерские погоны нетрудно. Но их надо заслужить. Вас недаром перевели в мою батарею. В прежней батарее вы слишком сблизились с нижними чинами. Отчасти это хорошо, так как вы научились тянуть солдатскую лямку. Но теперь вы должны готовиться стать офицером, и дальнейшее сближение с нижними чинами не только нежелательно, но даже вредно для службы. Вы уже имеете одну нашивку. Вы заслужили звание бомбардира… (Представьте, я даже забыл Вам написать, что недавно меня произвели в бомбардиры. Так что Вы теперь со мной не шутите!…) Теперь перед вами стоит задача получить звание младшего фейерверкера как важную ступень к офицерскому чину. Для этого от вас требуется… – И так далее и тому подобное…
За четверть часа командирского внушения, которое я выслушал по стойке «смирно», ноги мои превратились в деревяшки, а живот до сих пор так и остался втянутым, хотя с тех пор прошло уже месяца полтора.
Короче говоря, на другой день утром я посмотрел в окошко и увидел перед нашей халупой разведчика, который держал в поводу оседланную лошадь. Он постучал деликатно в окно и позвал меня:
– Господин вольноопределяющийся, пожалуйте на верховую езду.
В сердце у меня стало пусто и холодно, желудок опустился. Я вышел из халупы. За домом, за огородом, в чистом поле стоял в картинной позе молоденький прапорщик, взводный офицер моей новой батареи Матюшенко, по виду ужасный тонняга, держа в одной руке стек, а в другой веревочную корду. Он поздоровался со мной на несколько небрежный гвардейский манер, на что я, естественно, вытянулся и гаркнул на всю окрестность:
– Здрав… желай… вашбродь! Недалеко от него стояла лошадь.
– Подойдите-ка поближе, вольноопределяющийся, э… э… как вас? Пчелкин!
Я подошел поближе.
– Перед вами стоит животное под названием лошадь, – сказал он, показывая стеком на лошадь. – Повторите.
– Лошадь, ваше благородие, – сказал я бодро.
– Хорошо. Наука о лошади называется гиппологией. Повторите.
Я повторил.
– Прекрасно. Вы делаете успехи. Теперь займемся наукой о лошади, то есть гиппологией. Итак. Э… лошадь, которую вы видите перед собой, разделяется на три части: перед, туловище и зад, называемый в обществе порядочных людей круп, – сказал профессорским голосом прапорщик Матюшенко и для большей наглядности обвел стеком все три части лошади. – Повторите.
– Перед, туловище и зад, имеющий также название круп, – сказал я.
– Прекрасно! – сказал прапорщик. – Перед лошади состоит из головы, туловище из туловища, а зад, который, как вы уже знаете, в приличном обществе принято называть круп, оканчивается так называемым хвостом.
Он подошел к лошади и приподнял рукой в замшевой перчатке густой лошадиный хвост, откуда вылетело несколько крупных летних мух.
– Повторите.
– Голова, туловище и круп, оканчивающийся так называемым хвостом, – отчеканил я.
Прапорщик строго нахмурился, но не сумел сдержать мальчишеской улыбки и принял предложенную мною игру.
– Прекрасно, вольноопределяющийся, очень хорошо. Вы делаете успехи в науке, которая называется гиппология. Так как же называется наука о лошади? Повторите.
– Гиппология, ваше благородие.
– Блестяще! Пойдем дальше. Туловище лошади снабжено четырьмя ногами, снабженными на конце так называемыми копытами. Повторите и покажите передние ноги и задние. – И т. д.
Забавляясь таким образом, я под руководством прапорщика изучил в общих чертах науку гиппологию, после чего начались практические занятия верховой езды. Это уже было хуже. Обливаясь потом, я вскарабкался на спину проклятого животного, и тогда началась настоящая драма. Я уже, правда, и раньше ездил верхом и даже считал, что езжу недурно. Но, оказывается, я ездил не по правилам, и моя дилетантская езда оказалась детским лепетом по сравнению с тем, что меня ожидало теперь под мудрым руководством прапорщика Матюшенко.
Теперь, когда я уже беру барьеры, знаю толк в лошадях и твердо усвоил, что то, чем бегают лошади, называется ногами – передними и задними, – мне все это кажется забавной комедией, именуемой уроками верховой езды.
Но тогда!
О господи! Довольно толстая рыжая кобыла по кличке Жито, бегая по кругу на корде, трясется подо мной и норовит каждую минуту сбросить меня на землю. Еле удерживаюсь в седле, которое уже достаточно сильно набило и натерло мой, так сказать, круп. А прапорщик Матюшенко ходит посредине круга и покрикивает своим шикарным гвардейским тенором:
– Черт знает что! Вы сидите на лошади, как собака на заборе! Доверните носки! Не хватайте лошадь за брюхо, вы ее этим раздражаете! Держитесь «шлюзами»! Не держитесь за луку! Это неприлично. Не хватайтесь руками за холку! Лучше упасть с лошади, чем хвататься за холку!
Я трясся, как мешок с овсом, и думал: тебе хорошо, черт полосатый, кричать, а мне-то каково! Доверните носки. А если они не доворачиваются? Сам попробуй довернуть носки, если это тебе так нравится!…
…В общем, через неделю я вполне понял, как страдал Ваш воздыхатель Жора Мельников, принужденный в прошлом году в период своих знаменитых уроков верховой езды изящно сидеть у Вас в гостиной и поддерживать великосветский разговор о погоде, о лошадях, о женщинах, в то время как его, если так можно выразиться, часть тела южнее спины горела как на сковородке, натертая и набитая седлом.
О, как я ему должен был бы сочувствовать!
…Каюсь: я уже успел в нашем приаэропланном селе слегка влюбиться. Что ж: северные девушки не хуже наших южных. Представьте себе,какая идиллия ходить вдвоем в лес по грибы, есть чернику, пачкающую губы как бы школьными лиловыми чернилами, любоваться закатом и коротать летние бледно-звездные ночи, сидя на старом бревне перед халупой, и петь дуэтом песни вроде «Позарастали стежки-дорожки, где проходили миленькой ножки». И все это – клянусь Вам! – вполне невинно.
Ну ладно. Довольно. Только что объявили поход. А куда – неизвестно…»
Чтение этого длинного письма утомляет меня, я решаю дочитать его завтра и ложусь спать, приняв, как всегда, легкое снотворное. Но почему-то на этот раз недочитанное письмо не то чтобы волнует меня, но вызывает чувство, похожее на горечь разлуки с дорогим прежним, пережитым, и предчувствием чего-то нового, неизвестного. Я как бы навсегда прощаюсь с теми местами, где провел первые семь месяцев своей службы, вспоминая подробности этого времени, выпавшие из памяти.
Мне вспомнилось:
…Начало апреля. Снега растаяли. Прошло несколько весенних дождей. По дорогам и низинам непролазная грязь. Ночью хвойные леса шумят вокруг, как море.
Батарея стоит слева от шоссе, которое находится под обстрелом: у многих берез обрублены снарядами верхушки и надломлены стволы. Вдоль шоссе – солдатские могилы с уже посеревшими деревянными крестами. Березы склоняют над ними сети своих ветвей, с которых падают дождевые капли. Как слезы. Ветер кропит ими могильные холмики.
Ночью, если днем была перестрелка, с пехотной линии мимо батареи несут, везут или ведут раненых. Они тяжело стонут, а то и просто кричат грудными надорванными голосами.
В ясную погоду с нашей батареи отчетливо виден сморгонский костел, уцелевший от немецких снарядов. Но это только так кажется, что он уцелел. Он весь в трещинах и пробоинах, еле держится:
Я навсегда прощался с хрупким видением костела, с разросшейся вокруг него персидской сиренью, с разбитой кропильницей и деревянным распятием, поверженным среди строительного мусора.
Деревянное красное сердце на желтой грудной клетке богочеловека.
Справа синеет река Вилия и желтеет новенький бревенчатый мост через нее, построенный саперами.
Батарея расположена на открытом месте, а потому замаскирована небольшими елочками, срубленными в бору. Поэтому издали батарея похожа не то на молодой лесок, не то на питомник.
На этой позиции, помнится, мы стояли больше месяца, и солдаты обзавелись кое-каким комфортом. Возле землянок устроили сосновые дощатые столики, скамьи, вбитые в землю, на столиках начертили шашечные клетки и по целым дням сражались в дамки. Многие так навострились, что, пожалуй, достойны называться чемпионами шашечной игры. Впрочем, общеизвестно, что лучшие в мире игроки в шашки – русские солдаты.
В дамки играют люди солидные, сверхсрочники, а молодые, с действительной службы, все свободное время посвящают игре в городки, или, как здесь говорят, в скракли: выбивают издали тяжелыми березовыми палками сонные сосновые чурочки, разлетающиеся во все стороны со звуком, действительно схожим со словом «скракли». Батарея ведет огонь часто, но понемногу, разгоняет своей шрапнелью небольшие партии неприятеля, производящего земляные работы.
В два часа пополудни стрельбы почти никогда не бывало.
– Герман пьет каву (то есть кофе).
После двух часов, выпив каву, герман идет на земляные работы, и наша батарея, уведомленная об этом по телефону с наблюдательного пункта, начинает разгонять германа.
Батарейцы хорошо усвоили это боевое расписание и пользуются случаем – греют на костре в чайниках воду и попивают чаек, чаще всего «вприглядку».
– Герман каву, а мы чай Высотского.
Но один раз не угадали: только что насыпали в кипяток скуповатую заварку, как из телефонного окопчика выскочил дежурный:
– Батарея, к бою!
– Тьфу, черт, не дают спокойно чайку попить. Побросали кружки, ломти черного хлеба, и через
миг орудийные номера стояли уже на своих местах у орудий.
– По цели номер сорок пять. Угломер пятнадцать – тринадцать. Уровень тридцать – ноль. Пушки сто сорок. Гранатой. Первый взвод – огонь! Первое-, второе!
И пошло и пошло!…
После отбоя высказывается соображение, что немец хитрый, черт: разделяется на две партии. Одна партия копает, другая пьет каву. Потом одна каву пьет, другая копает. А мы стреляй! Пока отстреляемся " – глядишь, и чай захолонул. Обратно надо греть. Этак и дров не напасешься.
…Против германа растет глухое неудовольствие…
А вокруг дивный солнечный день, в небе два-три белоснежных круглых облачка, с исподу голубоватые, плоско синеет река Вилия, желтеет новый наплавной мост, синеют леса, источая бальзамический запах хвои.
Благодать!
Прощай, белорусско-литовское Полесье. Жаль с тобой расставаться, да ничего не поделаешь. Такая наша солдатская служба.
Если день ясен, летают аэропланы. Уже с утра откуда-то сверху льется сонный журчащий звук мотора. Летит герман. Из землянок наверх выползают сонные батарейцы и поднимают помятые лица к небу. Долго не могут найти в яркой глубине белую точку. Водят пальцами в разные стороны, щурятся, пока кто-нибудь случайно не наткнется на «таубе», вокруг которого апрельское небо уже покрыто белой оспой наших шрапнельных разрывов. Беленькие оспинки пухнут, превращаются в небольшие трескучие тучки. Скоро все небо становится рябым.
Но, в общем, на земле тихо. Тишину нарушают жаворонки, вороны, ручейки… Весна…
О, как горько и вместе с тем как сладостно она напоминает поход за фиалками и Ганзю!
Никогда больше я не увижу ни этой, ни
…Перед закатом я пошел к реке. Небо по-прежнему устойчиво безоблачное. Солнце лучистое, как будто сквозь слезы; с берез сыплются крупные капли. Идут весенние соки. Солдаты пробуравили стволы берез, приладили деревянные желобки и собирают березовый сок в свои манерки и бачки.
Я вдруг ощущаю на губах вкус березового сока: чуть сладковатый, душистый, прохладный.
Помню, шел я мимо соседней батареи, опустив голову и глядя в землю. На душе у меня было тихо, горько и как-то очень хорошо… как в детстве…
Ночью я стоял у орудия дневальным. Небо полно звезд. Месяц на закате похож на раскаленный уголек, подернутый голубоватым пеплом тучки. Изредка слышатся отдаленные редкие ружейные выстрелы: па-та-ра! па-тара!
Странно, что все звездное небо как бы находится в незаметном вращательном движении. Еле уловимо глазом плывут знакомые с детства созвездия. Одна только маленькая, почти незаметная Полярная звезда неподвижна, как и моя любовь. Но не к той, которой я пишу, а к другой. В ту, которой я пишу, я влюблен. А ту, другую, я люблю. Влюблен и люблю. Две вещи совершенно разные, хотя и похожие.
Несовместимость!
Теперь мне это ясно. А тогда я мучился.
Теперь в не совсем прямоугольном, мягко очерченном светящемся пространстве появляется женская фигура в алых развевающихся одеждах, приближается, и ее грубый, но прекрасный профиль заполняет экран. У нее волнистые волосы и открытый рот полубога.
Богиня с лицом архангела. Она поет.
«Нет, не тебя так пылко я люблю. Не для меня красы твоей блистанье. Люблю в тебе я прошлое страданье и молодость, и молодость погибшую мою».
Теперь ее глаза смотрят на меня в упор. Божественный женский голос с мужскими модуляциями, сливаясь с божественной струнной музыкой, есть воплощение моей души, полной восторга и отчаяния.
«…и молодость, и молодость погибшую мою…»
Я вытираю высохшей старческой кистью руки, покрытой гречкой, мокрые щеки, вспоминая свою погибшую молодость, белорусские или литовские леса, по которым двигалась наша артиллерийская бригада, – а куда? Никто не знал… Даже солдатский телеграф.
Чувствовалось, что война принимает новый оборот…
Открывался румынский фронт.
Скрипя по мокрой песчаной дороге, батарея, в которую я был переведен из своей прежней батареи уже в звании бомбардира, с одной лычкой на погонах и с надеждой на звание младшего фейерверкера, то есть на вторую лычку, – батарея шагом выехала из смолистой тьмы леса и стала подниматься на бугор.
Впереди на серой лошади, опустив поводья, ехал еще мало мне знакомый командир батареи. Его сутуловатая высокая фигура немолодого штаб-офицера мерно покачивалась в такт лошадиному шагу, и казалось, что он бормочет себе под нос что-то спросонья. За командиром следовали трубач и два конных разведчика.
Чубатые разведчики держались молодцевато, и у всех у них фуражки были сбиты набекрень.
За разведчиками плелась двуколка, нагруженная катушками телефонного провода, а за двуколкой бренчали и подрагивали на выбоинах дороги пушки с передками и зарядные ящики, сдвоенные между собою так называемой стрелой.
На лафетах трехдюймовок, обвешанных вещевыми мешками, ранцами, скатанными шинелями, котомками, чайниками и прочей дребеденью, сидя спали орудийные номера, хотя это и запрещалось уставом: они должны были идти рядом со своим орудием.
По сторонам зарядных ящиков и пушек, влекомых по тяжелому песку конной телегой с верховыми ездовыми, на крепких сытых лошадях сонно покачивались орудийные фейерверкеры.
Остальная прислуга, те, кто не сумел словчиться сесть на передок или зарядный ящик, шла пешком, тяжело роя сапогами сырой после ночного дождя песок, то и дело засыпая на ходу и спотыкаясь.
За ночь прошли тридцать верст, и солдаты изнемогали от усталости. Светало. Небо из черного, ночного стало водянисто-серым, и уже можно было различать лица солдат и масти лошадей. Где-то недалеко совсем по-домашнему кукарекнул петух, то ли предсказывая скорый восход солнца, то ли накликая дождь.
Я вспоминаю, как во время этого мучительного перехода без остановок мне удалось пристроиться на лафете и просидеть некоторое время с еще мало мне знакомым наводчиком Подкладкиным.
Мы проговорили напролет всю ночь, не спали и к рассвету ужасно надоели друг другу. Разговор шел о крестьянских делах, о которых я не имел никакого понятия и только читал кое-что в книгах и газетах, в то время уже изуродованных цензурой. Мы совершенно не понимали друг друга, волновались, сердились, перебивали друг друга.
– Слушайте, Подкладкин, – говорил я, раздраженно сдвигая на затылок фуражку и вытирая лицо ладонью, – дело совсем не в том, что аграрный вопрос в России…
– Господин вольноопределяющийся…
– Постойте! Не перебивайте! Дайте докончить!… Дело, повторяю, совсем не в том, что биржа…
– Нет, теперь вы постойте с вашей биржей… Не перебивайте. Дайте мне. А потом говорите себе сколько вам угодно. Вы, конечно, как образованный, с аттестатом первого разряда, а мы, конечно, как люди темные, можно сказать, даже совсем без образования… Вот вы все говорите – аграрная, аграрная или биржа, биржа…
И Подкладкин начал сбивчиво и торопливо в десятый раз доказывать нечто совсем мне непонятное.
Я понимал, что Подкладкин совсем не умеет выражать ясно и понятно свои мысли, и это меня мучило, раздражало. Но еще больше раздражал меня его какой-то необъяснимо оскорбительный тон, как будто бы я был виноват во всех народных бедствиях, волновавших Подкладкина. А самое главное, что слово «говорить», он произносил с ударением на втором «о», то есть «говорить» что воспринималось мною чуть ли не как издевательская насмешка.
Я чувствовал, что, говоря о земле, Подкладкин недоговаривает чего-то самого главного: то ли не умеет выразить свои мысли, то ли не доверяет мне как человеку чужому.
А я привык, что в моей бывшей батарее солдаты считали меня вполне своим и не стеснялись выражать в моем присутствии самые крамольные мысли, даже, например, такие, что пора всю эту волынку с войной кончать и начать делить помещичью землю.
К орудию подъехал фейерверкер Черпак. Он сидел на грузной большой кобыле, и все на нем казалось тяжелым, большим: и шашка, и большой револьвер-наган в большой, старой, до блеска протертой кожаной кобуре, и сапоги, и шпоры.
– О чем у вас разговор, Александр Сергеевич? – спросил он меня.
– Да вот все спорим о земельном вопросе в России. Посудите сами: Подкладкин утверждает…
– Ничего я вам не утверждал, – угрюмо промолвил Подкладкин.
Черпак махнул рукой и обратился ко мне:
– Угостите папироской.
– Пожалуйста, пожалуйста. – Я достал кожаный портсигар, который завел совсем недавно, и протянул фейерверкеру.
Черпак тяжело наклонился с седла, вытянул папироску, вырубил кресалом из кремня искру и стал закуривать от дымящегося трута, поставив ладони ковшиком. На миг огонек папиросы бросил красное пятно на грубое, но красивое лицо Черпака, и предутренний ветер отнес в сторону сизый дымок.
– Легкий, турецкий, – с удовольствием произнес Черпак тоном знатока, – «Дюбек лимонные», фабрики Асмолова. Аромат!
Еще минуты две для приличия Черпак ехал рядом, а потом тронул лошадь шпорами и свернул в сторону.
– Эй, Черпак! – крикнул я ему вдогонку.
– Чего изволите? – спросил Черпак, возвращаясь. Он уже как бы чувствовал во мне будущего офицера.
– Скоро бивак? А то больше сил нет.
– Деревушка вон там, за бугром, – ответил Черпак, показывая плеткой вперед! – Не помню названия. Чи Гаскевичи, чи Сухневичи, чи Заскевичи. Одним словом, как говорится, на «чи»… Чи не пойдете вы… – Черпак добродушно произнес нецензурное выражение, засмеялся, оскалил белые зубы.
– Слушайте, Черпак, а нам с вольноопределяющимся Петровым можно будет искать себе квартиру отдельно?
– Отчего же нет? Раз командир батареи разрешил, значит, можно. На то вы и вольнопёры, будущие офицеры…
В этих словах мне послышался как бы некий упрек, некое недовольство, даже как бы скрытая угроза.
Вообще эта ночь, сумбурный спор с Подкладкиным как бы снова приоткрыли для меня нечто скрытое, то, что делалось в стране, в тылу, далеко от линии фронта.
Я соскочил с железного лафета и, припадая на отсиженную ногу, пошел по глубокому песку косогора, обогнал передок, ездовых, зарядный ящик, скрипящий своей стрелой, и подошел к головному орудию, на лафете которого дремал другой вольноопределяющийся, Петров, недавно прибывший в бригаду, малый веснушчатый, худой и безбровый.
– Как дела, Петров? – спросил я покровительственно и протянул своему коллеге, еще не нюхавшему пороху, портсигар.
– Курите. «Дюбек лимонные». Асмолова.
Петров поднял нестриженую голову и улыбнулся спросонья мне, своему старшему товарищу, детской, несколько провинциально-застенчивой улыбкой.
– Вот что, Петров, сейчас будет бивак. Мы с вами поселимся отдельно, вместе, в квартире по моему вкусу. Я уже говорил с начальством. Разрешено. Вы хорошо выспались на лафете? Мягкие части не отсидели?
– Выспался лучше не надо! – бодро ответил новенький.
– Небось снились саратовские барышни?
– Не без этого.
– О, да вы, оказывается, донжуан! А я, представьте себе, всю ночь разговаривал с наводчиком Подкладкиным насчет аграрного вопроса в России.
– Какой там аграрный вопрос, когда у мужика все равно ни черта нету земли, – пробормотал Петров. – Голодает народ.
– Но позвольте, ведь Государственная дума… – начал я, выпуская табачный дым из ноздрей и представляя себе карикатуру, виденную недавно в «Огоньке»: купол Таврического дворца в Петрограде и над ним зловещая стая черных ворон…
– Е…ли они Государственную думу, – неожиданно, но с прежней детской улыбкой сказал Петров как нечто давно уже всем известное. – А вы знаете, – прибавил он как бы в виде извинения, – кажется, опять собирается дождь. – И посмотрел на хмурое небо.
Он слез с лафета, и мы пошли рядом в ногу по краю дороги, вдоль полосы мокрой розовой гречихи, от которой перед дождем особенно сильно пахло медом.
– И пахнет медом от гречихи, – мечтательно процитировал я.
– И коростель скрипит во ржи, – дополнил Петров. Мы оба засмеялись…
…А в это время где-то далеко, за тридевять земель, в тридесятом царстве прошлой жизни, жили-были и, может быть, еще не проснулись, лежа на горячих подушках, две девушки, не знакомые друг с другом: одна яркая, прелестная, как бы внезапно появившаяся из куста сирени, а другая неописуемо никакая, неяркая, незаметная, как та звезда, которую всегда так трудно найти в небе, полном знакомых созвездий.
…погружаемся в эшелон на станции со странным названием Столбцы, возле Барановичей.
Пушки втаскиваем на железнодорожные платформы по доскам, а лошади, звонко стуча подковами, идут по настилу в товарные вагоны со знаменитой надписью «Сорок человек – восемь лошадей».
И точно: в числе сорока человек нижних чинов я попадаю в вышеупомянутый товарный вагон-теплушку и устраиваюсь на нарах, покрытых соломой, от которой пахнет лошадьми.
Четверо нар. Двое налево, двое направо, одни над другими, на каждых по десять человек, итого – сорок. Точно, Все правильно.
Длинное путешествие по железной дороге, а куда – неизвестно. По названиям станций ничего не поймешь. Военная тайна! Но, видимо, где-то срочно нужны наши трехдюймовки.
Эшелон гонят без остановок.
Солдатский телеграф сообщает, что генерал Брусилов прорвал австрийский фронт и нас гонят к нему на подкрепление.
Это приятно. Надоело топтаться на одном месте – ни взад, ни вперед. Хочется наступления, подвигов, взятия городов, боевых наград!
А пока что наша теплушка, отчаянно мотаясь и гремя на стыках, стремглав катится вперед, и в широко раздвинутых ее дверях мимо нас проносятся леса, полустанки, головастые водокачки, озера, изредка таинственные решетчатые «тригонометрические знаки», реки, над которыми мы пробегаем по железным мостам, наполняющим воздух музыкально-броневым грохотом.
Посредине вагона в проходе традиционная печурка с коленчатой трубой, выведенной в боковую форточку. Ну уж тут, натурально, появляется традиционный орудийный чайник, вмещающий едва ли не ведро кипяточка, мелко, по-хозяйски, расчетливо наколотый рафинад, походные ржаные сухари, скупая артельная заварка чаю.
Летний железнодорожный сквозняк вытягивает из теплушки сизый дымок махорки «Тройка»…
И начинается мирное солдатское теплушечное житие: кто-то рокочущим густым басом негромко начинает любимую солдатскую песню о Ермаке, покорителе Сибири:
«Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали, и непре-рыв-но гром гремел, и вихри в дебрях буше-ва-а-ли…»
Сорок разнообразных солдатских басов, альтов и даже дискантов подхватывают знакомую, родную песню, и в несущейся невесть куда теплушке солдатский хор грозно и мрачно звучит, как орган, на котором неведомый органист играет Баха, но не просто Баха, а какого-то еще более могучего русского Баха, может быть даже самого Ермака, сидящего с глубокой думой на берегу гремящей сибирской реки – Иртыша, что ли?
Не знаю, какое тайное значение солдаты придавали древней романтической картине: гроза, буря, молнии и сидящий на диком бреге Ермак. За кого они, его принимали: за охранителя границ великого Русского царства или за самого Пугачева?
Но меня беспокоили солдатские лица, в общем-то свойские, вдруг ставшие грозными, как бы отражая гром и молнии приближающейся народной бури.
Народная баллада к грядущей революции.
Что-то нынче солдатами не пелись сентиментальные песни про «стежки-дорожки, где проходили миленькой ножки», или «пожалей ты меня, дорогая, освети мою темную жизнь». Нет. Нынче что-то другое владело их душами. Их душами владело «славное море, священный Байкал» – слова, которые я сначала понимал превратно или совсем не понимал. Что за «корабль – омулевая бочка»? Что за баргузин, который должен пошевеливать какой-то вал? Что за вал? Что за баргузин? Баргузин представлялся мне громадной фигурой какого-то легендарного сибирского богатыря вроде Ермака, державшего в могучих руках деревянный вал, чудовищное весло величиной с сосновый струганый ствол, опущенный в воду священного Байкала.
Но все это оказалось лишь плодом моего незрелого воображения. На самом деле баргузин – это название ветра, вал – это волна, которую пошевеливает этот ветер баргузин. Вот и все. Но магия этих странных сказочных слов осталась, и в общем солдатском хоре я с удовольствием подтягиваю своим немузыкальным голосом чудным звукам народной песни.
Но ведь это не простая песня. Это баллада. Она воспевает мужество беглого каторжника. А откуда он бежит? Он бежит с царской каторги. Очень возможно, что он попал на царскую каторгу как революционер, которому сочувствует народ: «Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой». В этом суть всей песни. А забайкальский пейзаж говорит о ссыльных декабристах.
«…ох, дорогая Миньона, совсем не прост наш солдатик, защитник веры, царя и отечества. Я начинаю задумываться над судьбою России.
Впрочем, забудьте и вычеркните. Это не для цензуры. А письмо опять постараюсь отправить не полевой почтой, а с оказией, чтобы не вышло неприятностей.
Но как Ваше здоровье? Берегите его. У Вас слабые легкие. Не простужайтесь.
Итак, наш воинский эшелон несется в неизмеримо громадных просторах России, а куда – неизвестно.
«Конь несет меня лихой, а куда – не знаю».
Наконец мы оказываемся в Буковине, и солдатский телеграф разносит весть о том, что нас бросают в Брусиловский прорыв.
Рано утром разгружаемся на станции Черновицы. Сама станция и дома вокруг нее разбиты снарядами. Пыльно. Солнечно. Зелено. Слева на горизонте в легком, как бы голубом тумане голубые горы. Это уже не то Румыния, не то Австрия. Гористо и красиво уже какой-то чужой, не русской красотой.
Вот оно куда занесло нашу артиллерийскую бригаду, оторванную от своей пехоты. Впереди завоеванная Буковина.
Вперед, на помощь героям брусиловцам! Пыльная дорога. Мужчины в белых холщовых штанах, в жилетах поверх длинных вышитых рубах, в шляпах, из-под которых падают на плечи длинные нестриженые волосы. Женщины в ярко вытканных платьях. Пыль на дорогах особенно белая, мелкая, как мука. Она садится на лицо, на руки, пудрит обмундирование, делая всех седыми, а черные артиллерийские шаровары превращает в серебристо-бархатные. В пыльных садах чертова уйма спелых лиловых слив, покрытых бирюзовым налетом, груш, яблок, грецких орехов в темно-зеленой мясистой кожуре. Ешь – не хочу! Но скоро надоело, объелись, пардон, до поноса. Город Черновицы. Потом вдребезги разбитая Коломыя. Развалины, поросшие бурьяном, остатки стен особнячков с аляповатыми фресками амуров, нимф…
Тяжелые переходы. Ночью привалы в палатках, при свете какой-то нерусской луны. Поход форсированным маршем. Потом уже Галиция. Тот же зной, то же солнце, те же отяжелевшие от пыли фруктовые сады, подсолнечники и высокие розовые, белые, алые, кремовые мальвы, на кольях плетней – глечики.
Огромные партии пленных австрийцев в серо-пыльных мундирах, похожих скорее на какие-то больничные халаты.
Ночью за горизонтом беглый блеск артиллерийской стрельбы. Ее звуки все ближе и ближе… И вдруг – стоп! Назад! Куда же? Опять неизвестность. Солдатский телеграф молчит. Нами всеми руководит чья-то таинственная железная воля.
…И вот мы опять грузимся на платформы и в теплушки – сорок человек и восемь лошадей.
Замелькали поля Галиции, отроги голубых Карпат, пыльная фруктовая Буковина. Под нами сверкнул стальной быстрый Днестр. Бессарабия. И вдруг знакомая с детства станция Жмеринка, крупный узел Юго-Западной железной дороги. Здесь уже все знакомое, степное, родное. Новороссия. До нашего города совсем недалеко. Неужели туда на переформирование?! И сразу мне представляется куст персидской сирени, белая скамья над обрывом, морской простор.
По поводу ожидаемого переформирования в тылу в нашей теплушке пир горой. Откуда ни возьмись появилось ведро бессарабского белого вина, не вполне честным путем раздобытого разведчиками в Жмеринке, и мы на радостях основательно выпили, закусывая сливами и грушами. С непривычки я опьянел, пел всякую чепуху про любовь и целовался с орудийным фейерверкером, у которого оказались колючие жесткие усы.
Я всех любил, и меня все любили и предсказывали, что скоро я получу звание младшего фейерверкера, а там и рукой подать до золотых погон.
В таком возбужденном состоянии я заступил на дежурство при двух орудиях моего взвода, ехавших на открытой платформе.
Поезд тронулся. Степной ветер быстро выдул из меня легкий хмель слабого бессарабского вина, и я сидел на лафете с обнаженным бебутом в руке, наслаждаясь стремительным движением нашего эшелона, с каждой секундой приближавшего меня к Вам.
Мимо пробегали телеграфные столбы, и я считал в уме расстояние между ними секундами: раз-два-три-четыре-пять. Обычный пассажирский поезд пробегал между двумя столбами за семь секунд. Теперь же от столба до столба было четыре секунды. Наш эшелон гнали со скоростью курьерского поезда. Не останавливаясь мы проскочили крупную узловую станцию Барзула. И вот уже – станция Раздельная. Чуть ли не сорок верст до моря, до Вас. Можете себе представить мое волнение! Еще каких-нибудь полчаса – и ко мне вернется прошлое…
Но не тут-то было. Близок локоть, да не укусишь. Видно, прошлое уже никогда не возвращается.
На станции Раздельная короткая остановка, после чего наш эшелон переходит по стрелкам на другую сторону и поворачивает на запад. Куда? Кто-то пускает слух, что бригада наша направляется в Тирасполь и станет там лагерем в ожидании новых событий: со дня на день доселе нейтральная Румыния должна вступить в войну против Германии и, таким образом, сделаться нашим союзником.
При слове «Тирасполь» в душе у меня все переворачивается. Ведь Тирасполь – это Ваш город. Там стояла 15-я артиллерийская бригада, которая после начала войны выделила из себя нашу 64-ю. А до войны вы все, барышни Заряницкие, каждое лето проводили в лагере у своего отца под Тирасполем. В Вашем представлении Тирасполь всегда казался чем-то вроде земного рая: природа, воздух, парное молоко, романы с артиллерийскими офицерами. Вы и Тирасполь в моем воображении неразрывны. И вот теперь чья-то неведомая воля мчит меня именно в Ваш Тирасполь. Чудеса!
Ночь. Звезды. Маленькая фиолетовая луна. Туча искр из паровозной трубы. Поле, откуда доносится запах конопли, иммортелей, полыни, чебреца. Теплый ветер бежит по звездам.
Станция Тирасполь!
Поезд стоит тридцать минут. Я дежурю на открытой платформе, прислонясь к орудийному колесу, весь под обаянием тех прошлых тираспольских ночей, которые я никогда не переживал, но прелесть которых всем своим существом чувствую по Вашим рассказам.
Но что это? Три звонка. Свисток. Стук буферов. Под моими ногами платформа дергается. Я хватаюсь за орудийный щит. Поехали дальше! Мне грустно. Я люблю Тирасполь, а он уплывает куда-то назад, вдаль, в степную ночь…
…И вот мы уже на берегу Дуная, в городе Рени…
…как у нас поется в бригаде: «Я на камешке сижу, на реку Дунай гляжу», а об Одессе и не мечтай! Ваш
Вспоминается мне пыльный, знойный придунайский городишко Рени в Бессарабской губернии. В мирное, довоенное время этот городок жил сонной жизнью уездного захолустья. Два ресторана. Базар, где продаются местные кавуны, дыни да помидоры. Собор с синим полинявшим куполом. Кондитерская «Реномэ», парикмахерская «Реноэ», фотография «Реномэ». И бюро похоронных процессий тоже «Реномэ». И все это принадлежит одному хозяину-греку.
Теперь не то.
Город, говорят старожилы, не узнать. Он весь теперь какой-то военный, как бы защитного цвета хаки. Куда ни посмотришь – всюду военные. Пехотинцы. Артиллеристы. Авиаторы. Моряки. Саперы. Военные врачи. Сестры милосердия. По деревянным тротуарам позванивают шпоры. То и дело, обдавая облаками мелкой, белой, как мука, бессарабской пыли местных так называемых кисейных девиц, прокатывают парные неуклюжие фаэтоны, унося в неведомую даль ослепительно белые, словно отлитые из гипса, накрахмаленные кители и черные нафабренные усы морских офицеров Дунайской флотилии.
По окраинам расположены непрерывно прибывающие и прибывающие войска всех родов оружия. Вот на пыльном, поросшем бурьяном и будяками пустыре красуется совсем новенькая четырехорудийная, видно, еще не побывавшая в деле гаубичная батарея. Вот только что не египетские пирамиды, сложенные из блоков прессованного сена. Палатки. На плетнях развешаны солдатские портянки, бязевые рубахи, кальсоны. Проветриваются шаровары и раскинувшие рукава гимнастерки. Дымят походные кухни, кипятильники на колесах.
Вспоминается, как проходил я мимо бивака сербских добровольцев, лихих молодцов в странных головных уборах, которые теперь распространены повсеместно и называются пилотки, а тогда вызывавшие удивление.
Возле канавы, густо поросшей дерезой, унизанной бледно-лиловыми продолговатыми ягодками, между вербами протянута коновязь и топчутся лошади, отбиваясь хвостами от мух и слепней. Лица у братушек-сербов смуглые, глаза как угли и как-то по-западному, даже по-американски, по-ковбойски сжатые энергичные рты.
Вот на плацу бивак наших казаков, лихих донцов с чубами из-под фуражек. Вот пулеметная команда.
Все чего-то ждут.
Солдатский телеграф сообщает, что не сегодня завтра нейтральная Румыния объявит Германии войну и тогда сразу же мы переберемся за Дунай, в Добруджу и вместе с румынами ударим по врагу.
Но тянулись дни, а румыны все еще чего-то выжидали.
Войска изнывают от жары, пыли, безделья, нетерпенья.
Но что из себя представляет это скопление всех родов оружия – неясно. Кто говорит, что это новый фронт, кто считает это отдельной особой армией, кто – экспедиционным корпусом. Однако единого командования еще нет, отсюда какой-то всеобщий беспорядок.
Всем распоряжается, как говорят солдаты – всем заворачивает, некий контр-адмирал Дунайской речной флотилии, военный комендант города Веселкин, фигура отчасти комическая, отчасти зловещая. Он тучен, курнос, бородат, полупьян, неряшлив, и если бы не его летний белый сюртук из чертовой кожи с контр-адмиральским черным орлом на погонах и не кортик, то его можно было бы принять за чеховского околоточного. Солдатский телеграф уверяет, что адмирал Веселкин – незаконный сын императора Александра III. Вполне возможно. Он похож на него как две капли воды, только немного пониже ростом.
У Веселкина навязчивая идея: всюду наводить порядок. Он воюет на базаре с торговками, бьет морды солдатам, не ставшим ему во фронт, сажает на гауптвахту фланирующих по бульвару прапорщиков, штрафует извозчиков, непристойными словами ругает барышень.
Увидав издали белый сюртук, прохожие шарахаются в стороны, прячутся по домам, торговки в развевающихся юбках убегают с базара, таща свои лотки и корзины, из которых сыплются в пыль огурцы и помидоры, солдаты прыгают через плетни и прячутся в дерезе, извозчики изо всех сил хлещут своих лошадей и несутся вскачь – дрожки вихляются и заезжают на деревянные тротуары. Адмирал Веселкин грозит им кулаками и оглашает воздух самой что ни на есть непечатной бранью.
О каком же тут порядке может идти речь? Сплошной хаос! И это все буквально накануне открытия нового фронта военных действий.
Даже сейчас, когда жизнь моя уже прошла, память с поразительной отчетливостью воскрешает все, что я испытывал тогда на берегу Дуная, и прежде всего внезапную, нестерпимо острую тоску по родному дому, по городу, по тому неповторимому миру юности, от которого я так глупо бежал.
Боже мой, что я наделал!
Я испытывал почти ощутимую близость родного новороссийского августа, пламенную густоту неба, грубый запах разросшегося за лето бурьяна, осыпавшего ботинки желтым порошком своего некрасивого, но могущественного цветения, трепет пухлых мотыльков-бражников, кружащихся в палисадниках над яркими, как бы целлулоидными разноцветными циниями, огненными каннами, и каменную скамью над обрывом.
Я готов был бежать домой и стать дезертиром.
Искушение было так велико, что однажды я отправился на железнодорожную станцию, перешел через рельсы на запасной путь, где стоял пустой состав пассажирского поезда Рени – Одесса, взобрался по высоким ступеням и открыл незапертую тяжелую дверь пустого вагона «микст» – наполовину желтого, наполовину синего. Я вошел в уборную первого класса и запер за собой дверь на задвижку. Здесь было прохладно, очень тихо и пахло душистой дезинфекцией хорошо вымытого фаянсового унитаза и умывальника с куском туалетного брокаровского мыла и льняным полотенцем с монограммой железной дороги – «ЮЗЖД».
Я увидел себя в зеркале и удивился. Я давно уже не видел себя в зеркале. Загорелое незнакомое лицо, уже не детское, возмужавшее, но все еще не вполне солдатское. Стриженая голова. Пыльные жесткие волосы. Выгоревшая фуражка с солдатской кокардой. Две защитного цвета пуговички на помятом вороте летней гимнастерки с покоробившимися погонами вольноопределяющегося, украшенными скрещенными пушечками и бомбардирской лычкой. Узкие глаза, как у покойной мамы. Щеки со следами недавнего бритья. Безвольные потрескавшиеся губы и общее выражение преступного отчаяния.
Кто я? Трус? Дезертир? Ах, все равно, лишь бы поскорее любой ценой вернуться в тот мир, который я так легкомысленно отверг. И тут же я почувствовал, что к прошлому нет возврата. Вернее, того прошлого уже вообще нет. Оно невозвратимо. И я сам этого захотел! Я сам его уничтожил.
В ртутном блеске зеркала, исцарапанного алмазными вензелями, я увидел окаянные черты антихриста, падшего ангела, наказанного тем, что все его желания исполнились.
Теперь мое преступное желание бежать от войны могло исполниться, стоило только не отпирать задвижку до тех пор, пока поезд не подадут к перрону и потом он не тронется, увозя меня обратно, в утраченный мир любви и юности.
А воинская присяга?
Ведь это я сам без принуждения положил два пальца на серебряный оклад Евангелия, и присягнул умереть за веру, царя и отечество, и целовал поданный мне наперсный крест бригадного священника, обжегший на морозе мои детские губы. Теперь я стану клятвопреступником, меня предадут военно-полевому суду, сорвут погоны, и я буду копать яму шанцевым инструментом – лопатой, – уже стоя в яме по пояс, в то время как два солдатика из комендантского взвода, один с винтовкой на изготовку, а другой скручивающий из газеты цигарку, будут стоять надо мной, терпеливо дожидаясь, когда я наконец кончу копать.
Я очнулся и, торопливо оглядываясь по сторонам, открыл задвижку, выбрался из уборной и спрыгнул из тамбура на железнодорожное полотно, усыпанное ржавой щебенкой с кусочками кремня и сгоревшего угля.
На этот раз мое желание как будто бы не исполнилось. И слава тебе, господи! Я перекрестился, как бы желая изгнать из себя дьявола.
Но я ошибся. Желание мое все-таки исполнилось самым неожиданным образом. Как только я добрался до бивака своей батареи, меня потребовали к командиру, который с несколько насмешливой улыбкой приказал мне отправиться в бригадную канцелярию получить суточные, приварочные, командировочные, увольнительные документы на пять суток и железнодорожные литеры. Оказывается, по приказанию из штаба бригады меня командировали в Одессу на пять суток, считая время проезда по железной дороге.
– Повезете с собой бригадную почту, а на обратном пути захватите у генеральши Заряницкой два пуда муки для офицерской столовой. А то вы здесь болтаетесь без всякого дела. Обратно вернетесь как раз к началу военных действий.
Таким образом, я, все еще не веря своему счастью, поехал в том самом пассажирском поезде, но только в вагоне третьего класса, в любезный мне город, смутно догадываясь, что эту поездку устроила мне Миньона. Так оно и оказалось. Но только вряд ли здесь была любовь, а скорее дружеское участие.
– Скажите мне спасибо, – были ее первые слова, когда я, гремя шпорами, которые купил, едва сошел с поезда, в галантерейной лавочке на углу Канатной и Пироговской, против Куликова поля, появился у Заряницких, переступив порог бледно-зеленых дверей с начищенной медной дощечкой.
Я не сразу узнал Миньону в вышедшей мне навстречу низкорослой девушке в косынке с красным крестом, в сером платье сестры милосердия. Только бледно-сиреневые глаза и кончик бронзового короткого локона, высунувшийся из-под косынки, напомнили мне ту Миньону, которую я видел в последний раз на первый день пасхи, после бессонной ночи с той модисточкой, мимолетную связь с которой я и вовсе не считал изменой, потому что это находилось в той теневой стороне моей жизни, которая никакого отношения не имела к жизни, так сказать, подлинной, настоящей.
Эти две жизни как-то не принято было смешивать. Они соотносились друг с другом, как бодрствование и состояние глубокого сна со сновидениями, не всегда даже потом запоминающимися.
В полдень я стоял перед Миньоной в состоянии бодрствования. Я был я. Она была она в своем пасхальном платьице. Сквозь полуоткрытую дверь коридора в солнечном луче виднелась часть пасхального стола с куличами, гиацинтами и винными бокалами зеленого стекла. Слышался говор офицеров-визитеров. Синел папиросный дым. Миньона и я, слегка помедлив, похристосовались и покраснели – я сильно, она слегка.
Теперь на том же самом месте, как тогда, она подала мне руку, я неловко ее поцеловал, почувствовав слабый йодистый госпитальный запах. Из столовой доносился стук швейных машинок. Там дамы-патронессы – офицерские жены – шили солдатское белье и щипали корпию.
Все было не так, как я себе представлял. Миньона показалась мне старше, чем была в действительности. Я пошел провожать ее в лазарет, где она дежурила. Город явился мне праздничным, хотя как бы и не вполне знакомым: густая августовская зелень бульваров и парков, знойное небо, яркое море с белоснежным маяком и множество военных, среди которых попадались итальянские и французские офицеры и англичане во френчах с ленточками орденов. Попадалось много автомобилей и экипажей. Видимо, город процветал. Война щедрой рукой разбрасывала стотысячные ассигнования, земские союзы и ведомство императрицы Марии не скупились на сотенные бумажки, так называемые катеньки, для раненых офицеров, разъезжавших со своими желтыми костылями на извозчиках в сопровождении госпитальных сестриц или дам-патронесс в больших шляпах. В магазинах шла бойкая торговля. В табачных лавках продавались жестяные коробки с английским трубочным медовым табаком – кэпотеном. Мальчики-газетчики бегали по улицам, возвещая скорое вступление в войну Румынии.
Миньона взяла меня под руку с левой стороны, так как правой рукой я все время отдавал честь проходящим и проезжающим офицерам.
В парке ярко краснели августовские цветы.
– Вы молодец, что так много мне писали, – сказала она, прощаясь со мной возле госпиталя. К сожалению, сегодня я дежурю, а завтра…
Она слегка прижалась к моему плечу, и я уловил в ее глазах знакомую, немного насмешливую улыбку.
– Что завтра? – спросил я.
– Завтра я буду свободна целый день… Попрощавшись с Миньоной, я пошел по знакомым, но
почти никого не застал дома. Иные еще не возвратились после летних каникул. Иные уже куда-то уехали. Многие из моих товарищей поступили в школы прапорщиков. Вольдемар стал так называемым земгусаром, то есть полувоенным чиновником Союза городов, и носил узкие погончики и странную кокарду, даже, кажется, с красным эмалевым крестиком. Он куда-то торопился и был заметно смущен своим видом, говорившим мне, что его сестра Калерия гостит на Куяльницком лимане у Ганзи и они вернутся не раньше конца августа.
Произнеся имя Ганзи, он многозначительно и отчасти горестно поднял свои короткие густые брови, и голос его зазвенел знакомым надтреснутым фальцетом обидчивого самолюбивого ревнивца, из чего я заключил, что из его романа с Ганзей ничего не вышло и он получил отставку.
– А вы, Саша, я вижу, настоящий герой-фронтовик. Но где же ваш Георгий? – Он засмеялся своим блеющим смешком и погладил усики, придававшие ему вид провинциального красавца.
Упоминание Ганзи меня обожгло. Но я сделал вид, что это мне безразлично. Я даже нашел в себе силы спросить как бы вскользь:
– А она еще не вышла замуж?
Мой вопрос, в свою очередь, настолько обжег Вольдемара, что он не нашел в себе мужества ответить как-нибудь остроумно и лишь процедил сквозь зубы:
– Насколько мне известно, нет.
Вспоминая все это, я с грустью понял, что моя исключительная память, которой я некогда славился, почти ничего не сохранила о моем коротком пребывании в тылу.
Кроме того, что на некоторых городских пустырях проходили пехотные учения юнкеров или солдат запасных батальонов, одно только и осталось в памяти ярко и отчетливо – это то, что, как я узнал от Вольдемара, Ганзя проводила летние месяцы на Куяльницком лимане, вероятно, на той самой даче, куда некогда я проводил ее по степи, поросшей иммортелями и полынью, и потом мы сидели на террасе, и мама Ганзи принесла нам на блюде нечто, показавшееся мне в сумерках, при еще очень слабом свете восходящей луны, оранжевыми ломтиками голландского сыра, а на самом деле это были скибочки нарезанной дыни, сразу же наполнившей теплый воздух своим персидским, несколько спиртуозным ароматом.
Лицо Ганзи трудно было рассмотреть в сумерках, хотя полынь на горе уже слегка серебрилась от лунного света. Впрочем, я никогда не мог рассмотреть ее лица, да и сейчас не берусь его описать. Единственное могу сказать – что бог, создавая Ганзю, не забыл положить в нее немного корицы…
…Потом принесли лампу, вокруг которой летали мотыльки…
Тогда я не пробыл дома даже пяти дней. Румыния вступила в войну. Мне следовало спешить в действующую армию.
Вечер накануне отъезда я провел с Миньоной. Она сняла форму сестры милосердия, надела свое обычное летнее платьице английского стиля, с большим атласным бантом на шее и превратилась в прежнюю Миньону.
На голове кружевная накидка, на плечах оренбургский платок. Ее знобило. Может быть, у нее и впрямь начинался туберкулез? Она продолжала играть роль друга и покровительницы, хотя была моложе меня. На правах любимой дочки командира бригады она строго расспрашивала меня о продвижении по службе и удивлялась, что я до сих пор не произведен в младшие фейерверкеры, а все еще хожу в бомбардирах, которым, кстати сказать, не положено носить шпоры, а я их ношу. Впрочем, о шпорах она упомянула с лукавой улыбкой. Эта улыбка как-то сблизила нас, чему содействовала густая темнота августовской ночи в разросшемся саду дачи Вальтуха.
Задевая темные кусты давно уже отцветшей сирени, в недрах которой кое-где таинственно тлели зеленые камушки светлячков, мы вышли к знакомой скамейке над обрывом.
Черное небо, осыпанное скоплениями крупных и мелких звезд, отражалось в как бы отсутствующем море, откуда доносились размеренные всхлипывания волн.
Вокруг стояла настороженная военная тишина, и голубой луч прожектора скользил по звездам и вдруг пропадал, с тем чтобы снова возникнуть и пройтись стеклянно-фосфорической дугой по небосводу от горизонта до горизонта.
Маяк ввиду военных действий на Черном море был погашен.
Я искал глазами среди скопления августовских созвездий Полярную звезду. Для того чтобы ее обнаружить, следовало провести между двух крайних звезд ковша Большой Медведицы воображаемую прямую и продолжить ее почти до самого зенита, где Находилась Полярная звезда, маленькая, ничем не замечательная, еле заметная, поражающая воображение своей вечной неподвижностью, недоступностью.
– О чем вы думаете? – спросила Миньона.
Я положил руку на спинку скамьи и не без осторожности сделал попытку обнять Миньону за плечи.
– Миньона, – сказал я, – кажется, я вас люблю.
– Только, пожалуйста, не врите, – сказал она и отвела мою руку своей опасно горячей ручкой.
Это мое «кажется» было, конечно, заимствовано из романса «Средь шумного бала».
Я стал преувеличенно сильно кашлять, как бы давая понять, что опять эти проклятые газы, этот фосген…
Отчасти это было правдой. Я все еще продолжал время от времени покашливать.
– Ах, бедный мальчик, – сказала Миньона не без иронии.
И опять наши отношения не выяснились. А письма из действующей армии продолжались.
«…вся пристань запружена повозками, обозами, артиллерией, лошадьми, блоками прессованного сена, рогожными тюками. Погрузка идет полным ходом. Визжат лебедки, скрипят сходни, слышатся крики грузчиков, фырканье лошадей. Баржи выкрашены в защитный цвет. Почти все баржи румынские или греческие. Фоном для этой картины служит прекрасный Дунай с пыльной, серебристо-кудрявой зеленью на противоположном, уже румынском берегу.
Как-то я написал Вам, что Дунай – скучная река. Не верьте. Это, наверное, тогда у меня было скверное настроение. Дунай прекрасен! Полуденное солнце бьет почти отвесно в стальную, широко движущуюся воду, и оттуда прямо в глаза летит поток ослепительных лучей и искр.
Не помню, писал ли я Вам об адмирале Веселкине, коменданте местного гарнизона. Если не писал, то тем лучше. Слава богу, прибыл наконец командир корпуса генерал-лейтенант Гернгросс, и я был свидетелем, как Веселкин сдавал ему командование всеми войсками, доселе находившимися в его подчинении.
Я в это время только что приехал и еще находился на перроне вместе со всеми Вашими посылками, связками писем и мешком хорошей пшеничной муки мелкого помола, посланной Вашей мамочкой для Вашего папочки, что делало меня похожим на вьючного мула.
По перрону бегал, наводя порядок, адмирал Веселкин. В это время подошел экстренный поезд, остановился, и к синему пульмановскому вагону подкатили красную ковровую дорожку. В тамбуре вагона стоял худой, строгий генерал в летней походной форме, с орденами на груди и на шее, в лайковых перчатках и походной фуражке с полями, приподнятыми на прусский манер. Одну руку генерал заложил за широкий пояс отличной коричневой кожи, а другой рукой слегка опирался на золотой эфес своей шашки с георгиевским темляком. Сделав небольшую паузу, генерал упруго соскочил на перрон, где его уже ожидал вытянувшийся в струнку адмирал Веселкин, выкатив глупые романовские глаза в красных жилках. Слегка пошатываясь, он подошел к генералу Гернгроссу, приложил руку к козырьку и отрапортовал о сдаче командования новоприбывшему.
Генерал Гернгросс корректно, но очень коротко и не без брезгливости пожал лапу Веселкина в белой нитяной перчатке и сказал: «А теперь, ваше превосходительство, можете быть свободны», сел в автомобиль и отбыл в свой штаб.
И в городе, слава тебе господи, воцарился порядок, а разрозненные воинские части почувствовали себя единым целым, то есть отдельным особым армейским корпусом.
У коменданта пристани мы – я и несколько отставших артиллеристов нашей бригады – наводим справки и визируем свои командировочные удостоверения. Наша бригада два дня назад переправилась в Румынию. Мы ее догоняем, и нам предстоит путешествие вверх по Дунаю на барже, которая должна отвалить от пристани часов в пять еще вполне солнечного вечера. На баржу уже погружен наш артиллерийский парк и обоз второго разряда. До отплытия время тянется скучно и сонно. Утомляет портовый шум и гам.
Наконец все готово. Два десятка барж битком набиты телятами, лошадьми, прессованным сеном, солдатами. Мы устраиваемся в большой головной барже, отлично приспособленной для перевозки войсковых частей. Здесь и чистая кухня с котлами для борща, каши и кипятка, и поместительные трюмы с койками для людей и на совесть выскобленными обеденными столами, на одном из которых я и пишу не без удобства это письмо.
Видно, что со стороны подготовки к войне (в смысле средств передвижения) Румыния больше чем постаралась.
Маленький буксирный пароходик «Рени» пыхтит возле нашей баржи, и видно, как на его пузатом борту суетятся матросы и флегматично покуривает трубку-носогрейку смуглый коренастый капитан, по внешнему виду итальянец или грек.
Баржи соединяются по четыре в ряд впереди и по три сзади. В таком порядке буксирный пароходик должен потянуть их за собой вверх по течению. Как-то не верится, что он в состоянии это сделать: не хватит силенок!
Но вот все готово. Убирают трапы. На баржи с пристани прыгают последние матросы. Визжат паровые лебедки, накручивая якорные цепи. С передних барж передают на буксир стальные тросы, и «Рени», методично бурля винтом, натягивает их, как струны. Течение медленно поворачивает баржи боком. Набережная отделяется и уходит назад. Кипит вода. Баржа идет без единого толчка, без малейшего намека на движение. С буксира что-то кричат в рупор.
Дунай сейчас удивительно красив. Он потерял свой обычный серый цвет и полностью отразил в себе закатное небо, стал голубовато-розовым и удивительно гладким, без единой морщинки. В таких случаях принято писать, что река как зеркало, в котором отразились живописные берега.
Городок Рени уходит, все уходит назад, вот он уже потонул в садах. Лишь у пристани белеет и блестит в лучах заходящего солнца ожерельем иллюминаторов флагманский корабль адмирала Веселкина, бывшего начальника местного гарнизона.
И как странно на этом живописном фоне, на этой, так сказать, палитре беспорядочно смешанных закатных красок видеть защитного цвета баржи и солдат в защитном, фронтовом.
Вот уже Рени совсем скрылся из глаз, растворился в отражении закатного зарева, стал всего лишь воспоминанием…»
Вот именно, думаю я, перечитывая эти стертые карандашные строки: скрылся из глаз, потонул, стал невозвратимым прошлым. Ах, как легко и бездумно менял я в юности свою жизнь, превратившуюся в воспоминание.
Ну какой черт понес меня на войну? О, если бы я тогда знал, что однажды покинутое уже больше никогда не возвратится, а если и возвратится, то уже совсем другим.
…Отец постарел, вставил себе зубы, и они как-то зловеще изменили его родное лицо. Квартира не прибрана. Раньше мне никогда не приходило в голову, на какие средства мы живем. Отец с утра до вечера ездил по урокам. Сначала ездил на трамкарете, на конке, потом на электрическом трамвае, изредка позволял себе роскошь нанять извозчика за двугривенный. А много ли он зарабатывал? Как говорится, едва сводил концы с концами. Выручали жильцы, которым сдавали лишние комнаты. Но они платили неаккуратно. Один даже оказался запойным пьяницей. Квартира напоминала постоялый двор. У младшего братишки, гимназиста, была своя жизнь – друзья, футбол, шаланда в «Отраде». В сущности, всего и осталось что увеличенный фотографический овальный портрет покойной мамы в черной раме, да красная лампадка, озаряющая венчальный образ спасителя с пальмовой веткой, похожей на сложенный пластинчатый китайский веер, и бутылочка святой воды за образом, как-то напоминая навсегда ушедшую жизнь.
Нищая юность!
Я любил отца, но никогда о нем не думал, из действующей армии ему писем почти не шЛал, разве только для того, чтобы попросить что-нибудь прислать: табаку, сахару, что-нибудь вкусненькое, копченой колбасы, сыру, ванильных сухарей, денег, глицеринового мыла. Мне как-то даже в голову не приходило, что все это достается с таким трудом.
Как заботливо отец собственноручно зашивал в холстину эти посылки, аккуратно переводил мне пятерки и даже десятки, которые с таким трудом ему доставались!
А прекрасные хромовые офицерские сапоги, бывшие в то время на мне? Я получил их в посылке, пришедшей по полевой почте, на биваке возле Черновиц. Сапоги, сшитые на заказ, стоили никак не меньше двадцати рублей. В сущности я мог бы свободно обойтись казенными, солдатскими. Но мне хотелось шикнуть, и я послал отцу мерку.
Сапоги были действительно отличные, правда, тесноватые, но разносятся! Они придавали мне нечто офицерское, особенно со шпорами.
Все это вдруг показалось мне ужасным. Я разыгрывал воина-фронтовика, защитника отечества, не забывая на каждом письме ставить слова «Действующая армия» и описывать артиллерийские дуэли, газовые атаки, походы, живописные лишения боевой солдатской жизни, а в это время мой отец, одинокий старик, вдовец, каждую ночь в нижней рубахе и подштанниках стоял на коленях перед образом, освещенным огоньком красной лампадки, и, кладя седую плешивую голову на потертый коврик, истово осеняя себя крестным знамением, плакал и молил всемогущего господа бога пощадить меня, его сына, отвести от меня руку смерти. Не было минуты, чтобы он с ужасом не представлял себе моей гибели, его мальчика, так похожего лицом на мою маму, на его покойную жену.
Вечный страх за сына изнурял его, лишал сна; за несколько последних месяцев он еще более постарел, с трудом нося под мышкой кипы голубых ученических тетрадок, накрест перевязанных шпагатом.
Только сейчас, на барже, несущей меня невесть куда по Дунаю, я вдруг почувствовал стыд и такую душевную боль, что едва не застонал.
Моя душевная боль почему-то была связана также с неразделенной любовью, из-за которой, собственно, я и ушел на войну.
«…мимо нас, – продолжал я строчить письмо Миньоне, – быстро проходит судно под цветным румынским флагом. На палубе виднеются синеватые мундиры румынских солдат. Наши солдаты бросаются к бортам, машут фуражками, платками, и громкое русское «ура» льется по гладкой поверхности европейской реки, достигает румынского судна и возвращается оттуда с ответным воинским приветствием на румынском языке.
Двое суток плывем мы по Дунаю. Однообразные берега, поросшие серебристо-пыльной кудрявой зеленью, как будто вытканной на гобелене. Кое-где на прибрежных лугах пасутся стада буйволов, которые очень удивляют своим дьявольским видом наших солдатиков.
За все это двухдневное путешествие мы ни разу не останавливались, не причаливали к берегу, и все-таки связь с внешним миром поддерживается: кое-где, когда мы проплываем мимо придунайских городков или сел, к нашим баржам цепляются лодки, нагруженные арбузами. Завязывается оживленная торговля при помощи ведер, привязанных к длинным веревкам. С лодок в ведра грузят арбузы. Такие плавучие лавочки – наше единственное развлечение. От лодочников-румын мы узнаем военные новости. Стараясь быть понятыми, спрашиваем на якобы румынском языке: «Романешты… разбой… как там дела?» – что должно пониматься примерно так: как дела на румынском фронте?
«Разбой» по-румынски значит война. А «бун» значит хорошо.
– О, бун! Бун! Трансильвания бун! – кричат нам снизу лодочники-румыны.
Стало быть, дела идут хорошо, наступаем в Трансильвании.
А что оно такое, эта самая Трансильвания, вряд ли кто-нибудь из наших солдатиков знает.
Вообще мало кто понимает, зачем воюют, с кем воюют, для чего и кому это надо.
Изредка мимо нас вниз по течению пробегают сербские пароходики. Мы приветствуем их громкими криками. Сербы – это понятно. Братушки. Братья-славяне».
Ночью мне не спалось. В тысячный раз мучил вопрос, что же такое у меня произошло или даже и сейчас продолжает происходить с Ганзей Траян?
Как все это началось, было ясно. Началось с фиалок. Ну а потом? Потом в свое время наступила осень, желтые листья, ранние сумерки и все та же тесная компания, состоящая из гимназисток, гимназистов и даже одного студента-первокурсника. Компания эта – «наша компания» – кочевала во второй половине дня после уроков по опустевшим приморским дачам с заколоченными ставнями, с мусором на открытых террасах, по обрывам. Мы стояли тесной кучкой по колено в бурьяне, очарованные картиной черноморского шторма.
Норд-ост, срывающий шляпки и фуражки, подбивающий под колени полы серых гимназических, уже зимних шинелей, треплющий подолы зеленых гимназических юбок, несущий в лицо вихри пыли и морские брызги, колючки репейника, пушинки чертополоха.
Прибрежные скалы наполняли воздух бронзовым звоном прибоя.
Маленькая Ганзя Траян казалась совсем незаметной среди этой тесной компании, где каждый и каждая на свой лад переживали красоту шторма: кто с восторгом только что обнаруженной страсти, кто с отчаянием ревности, кто предчувствуя приближение первой любви, кто подозревая измену, кто предвкушая свидание. Студент-первокурсник, раскинув руки с новенькими крахмальными манжетами – поэт, – со слезами на глазах кричал против ветра: «Какой простор! Какой простор!» – вспоминая таинственную картину Репина: офицер и курсистка, взявшись за руки, идут прямо в открытое бушующее серо-зеленое море и уже были по колено в прибое – она размахивая муфтой, – что воспринималось как намек на некое освободительное движение.
Кто-то кому-то жал розовые озябшие ручки.
А одна хорошенькая пятиклассница-вакханка с пылающим от ветра личиком кричала, хохоча:
– Мой идеал – кружиться в вихре вальса!
Конечно, Вольдемар не отходил от Ганзи, как телохранитель, готовый убить каждого, кто покусится до нее дотронуться. Калерия щипала и выкручивала мне руку, а у самой от сора, принесенного бурей, покраснели глаза и слезинки текли по крыльям носа.
Быстро темнело, и казалось, что эту темноту несли с собой бурые облака, низко мчавшиеся над взмыленным морем.
Всем своим видом я изображал презрение к красоте шторма, в то время как сердце у меня ныло от отчаяния, и только одна Ганзя, отворачиваясь и морщась от ветра, как бы находилась по ту сторону человеческих страстей, во всяком случае, так мне казалось.
Чем же это в конце концов разрешилось? Что было потом? А ничего. Компания разошлась по домам, и только…
«Наконец баржи прибыли к месту назначения, в город Черновода. Типичный захолустный городишко восточного типа. Беленький. Пара минаретов. Это уже заграница. Румыния. Здесь через Дунай протянулся длинный ажурный железнодорожный мост вполне европейского вида.
Утро немного туманное, перламутровое, на фоне молочно-голубой реки и лиловатого неба тяжело и черно рисуются наши канонерки, идущие одна за другой куда-то вверх по Дунаю. Зловещие призраки войны и смерти. Нехорошие предчувствия.
Пристани запружены народом и войсками. Пока разгружаются баржи, прибывшие еще до нас, мы обречены на томительное ожидание высадки. С берега доносятся воинственные звуки военного оркестра: румыны приветствуют наши прибывшие войска.
Но вот я уже на берегу вместе со своей поклажей и мешком муки, будь он трижды…
Шумные улицы. Пахнет кофе, бараниной и еще чем-то пряным. Пестрят одеяния молдаван, красные фески, яркие ткани торговок. Продаются с лотков восточные сладости. Все кофейни заполнены румынскими солдатами и офицерами. На нас, русских, они смотрят с любопытством. Задают какие-то вопросы. Но так как ни мы по-румынски, ни они по-русски ни черта не понимаем, то можно только догадываться, о чем идет речь, по отдельным словам: «Галиция», «Трансильвания», «бун», «карашо», «бум-бум», «Германия – бах!» и т. д.
Ну все ясно!
Мы им отвечаем такими же воинственными междометиями и отрывистыми географическими названиями:
– Карпаты. Буковина. Бах-бах!
Вход в кофейни румынским нижним чинам не запрещен, и можно наблюдать группы наших и румынских солдат, сидящих за маленькими чашечками черного турецкого кофе, к которому подается стакан свежей воды и блюдечко с ягодкой вишневого варенья. Союзники обмениваются между собой мнениями по поводу военных событий при помощи жестов, восклицаний, многозначительных подмигиваний.
Столик, за которым я пишу Вам это послание, стоит на площади перед кофейней. Площадь усеяна сеном, соломой, конским навозом. Над входом в кофейню водружен румынский флаг. На маленьком блюдечке одна-единственная вишенка и стакан холодной воды – «апа фреска», – в которой отражается утреннее солнце.
Сейчас пойду искать вокзал, откуда поеду уже поездом на запад, на позиции. Что-то у меня дурные предчувствия. Ах, если бы Вы знали, как тягостно приближаться к роковой черте передовой линии… Не забывайте же меня. Скоро напишу. А мешок с мукой тащу с собой повсюду, не беспокойтесь, доставлю по назначению. Пускай Ваш батюшка побалуется русскими блинами и пышками. Ваш
А за некоторый мой неловкий поступок на даче Валь-туха великодушно простите. Больше не буду.
Следующее письмо:
«29 августа 916 г. Румынский фронт. Южная Добруджа. Город Меджидие, куда довез меня из Черновод пассажирский поезд, медленный, как черепаха. Однако вагоны на европейский лад: из каждого купе дверь прямо наружу, на перрон. Вагон по-ихнему называется каруцца, что вполне соответствует скрипу, издаваемому им во время движения.
В каруцце, куда я попал вместе с мешком муки, едут вполне мирные румынские обыватели в соломенных и фетровых шляпах и в парусиновых туфлях.
Мое появление в вагоне вызвало нечто вроде сенсации. Еще бы: живой русский воин в полной походной форме, даже со шпорами. Немного, конечно, портил впечатление мешок муки. Но, может быть, румыны подумали, что в мешке динамит. А вообще они приняли меня за офицера и оказывали все виды самого изысканного внимания: угощали початками вареной кукурузы, называемой у них папушой, свежей брынзой, помидорами и даже отличным виноградом.
Ну, конечно, разговор о войне. На каком языке? Вообразите, что мне пригодился французский, по которому я в гимназии не вылезал из двоек. Но кое-что в памяти застряло. Так что незаконченное среднее образование пригодилось.
Мирные румынские пассажиры весьма воинственно настроены и готовы совместно с доблестной русской армией поколотить не только немцев, но главным образом своих соседей – болгар и венгров, с которыми у них, оказывается, какие-то застарелые территориальные счеты.
Почти у всех пассажиров в руках газета «Адеверуль», где помещается большое количество военных сводок и патриотических корреспонденций. Среди пассажиров обращает на себя внимание одна довольно смазливенькая русинка из Черновод в голубом кружевном платье, с голубой вуалью на голове, полузакрывающей белобрысое личико с голубыми глазками. Она с нескрываемым обожанием смотрит на меня, на мою выгоревшую гимнастерку, на мои шпоры, на пушечки на моих боевых погонах с бомбардирской лычкой, все время на странном полурусском языке благословляет меня на ратные подвиги и беспрерывно крестит меня своей худенькой ручкой, как бы желая сохранить мою жизнь.
Но, пожалуйста, не подумайте чего-нибудь… Это чисто патриотические порывы таинственной славянской души хорошенькой и очень молоденькой белобрысенькой русинки.
Но так или иначе, румынская каруцца наконец с божьей помощью дотащила меня до Меджидие. Это маленький южно-добруджский городок совершенно турецкого типа: базар, шашлыки, небольшие белые мечети с низенькими минаретами.
В одной из мечетей я обнаружил ящики с имуществом нашей бригадной канцелярии, над распаковкой которых трудились знакомые мне писаря. Оказалось, что все батареи уже ушли вперед, и мне указали маршрут, по которому я должен их догонять. С облегчением оставив в канцелярии изрядно надоевшие посылки и особенно тягостный мешок с мукой, я пустился в путь, пристроившись к какому-то обозу с патронами. В обозе уже работал солдатский телеграф, сообщая, что наш экспедиционный корпус, называемый теперь румынским фронтом, придвинулся вплотную к болгарской границе, а кое-где даже и перешел ее, так что с наших наблюдательных пунктов в стереотрубу кто-то из наблюдателей видел болгарский город Базарджик. Но это сомнительно. До Базарджика еще очень далеко: обычные преувеличения разведчиков-наблюдателей. А пока что, сидя на обозной повозке, я приближался к своей батарее, расположенной где-то в степной балке.
Вокруг ни одного деревца. Ровная сухая степь, милая моему сердцу. Вдруг послышался зловещий треск авиационных моторов. Обозные лошади, задрав оглобли, шарахнулись в сторону. Над нами пронеслась эскадрилья немецких самолетов с черными крестами на крыльях. Самолеты пронеслись так низко, что можно было рассмотреть фигурки авиаторов в кожаных шлемах и очках, что делало их похожими на каких-то опасных насекомых. Я спрыгнул с повозки, бросился в степь и лег на жнивье, закрыв голову руками, как будто это могло меня спасти. Все обозные сделали то же самое. Однако немецкие самолеты пронеслись мимо и скрылись за горизонтом, не заметив нас. Как говорится, на этот раз я опять отделался легким испугом.
Может быть, меня охранило крестное знамение, сделанное маленькой ручкой белобрысой русинки?
Однако когда я прибыл на место назначения, выяснилось, что утром эскадрилья немецких аэропланов сделала налет на наше расположение, обстреляв из пулеметов несколько батарей резерва, и сбросила до сорока бомб. Только благодаря счастливой случайности лошади в это время были на водопое за восемь верст, а то всех бы их покалечило. Впрочем, налет не причинил нам никакого вреда.
Наши авиаторы, конечно, поспешили отдать неприятелю визит вежливости и в обед вернулись обратно, принеся известие, что в ближайших тыловых деревнях противника замечено накапливание крупных сил. Немедленно же пехотой была произведена разведка, установившая смену неприятельских полков и прибытие приблизительно двух свежих дивизий – турецкой и немецкой. Серьезного наступления противника не ждем, но все-таки приняли меры предосторожности: подтянули резервы, выставили заставы, а наша артиллерия выслала на наблюдательные пункты кроме обычных наблюдателей-солдат также и офицеров.
Меня с места в карьер назначили телефонистом, и я спешно заканчиваю письмо, так как приходится взваливать на спину телефонные катушки и тянуть провод на наблюдательный пункт, так что пока до свидания. Не забывайте. Ваш
P. S. Надеюсь, Вы не сердитесь на меня за неразумный поступок на даче Вальтуха. Я заметил, что у Вас очень горячие руки. Не больны ли Вы? Берегите себя. Ведь у Вас слабые легкие. А.».
«29 августа 916 г. Южная Добруджа. Дорогая Миньона, кажется, я Вам уже писал, что здесь города восточного типа. Пыль, жара, запах кофе и жареной баранины. Ни один черт по-русски не говорит. Ужас! Жалованье нам выдают румынскими бумажными леями. В данный момент мы стоим на позиции возле самой болгарской границы. Население – болгары, которые иногда постреливают в нас из-за угла.
Солдатский телеграф сообщает, что надо быть осторожным, так как некоторые колодцы отравлены. Уже были случаи. Почти все население бежало. Но в одной брошенной деревне я видел старуху всю в черном, страшную, похожую на сушеную грушу. Она смотрела с ненавистью нам вслед и посылала проклятья на своем непонятном языке. Такая старуха может и колодец отравить.
Вокруг от горизонта до горизонта голая степь и больше ничего. Что-то в этом есть древнее, может быть, даже скифское, сарматское. Здесь некогда воевал с турками мой прадед и освобождал братьев славян мой дедушка. И вот теперь я бреду в пыльных сапогах под палящим августовским солнцем, со страхом озираясь по сторонам.
Наша артиллерийская бригада, оставившая свою пехоту под Сморгонью, теперь придана сербским бригадам.
Сербы дерутся как львы! Сербские душки офицеры в своих красных бархатных шапочках, которые так пленяли одесских барышень, оказались на поле боя настоящими храбрецами, оправдали доверие прекрасного пола: пленных не берут, раненых добивают на месте. Прелестные ребята!
Пишу, примостившись на каком-то ящике. Были эффектные бои и стычки с болгарской кавалерией. Подробности скоро, а сейчас не до писем. Ваш Пчелкин».
Это было, кажется, последнее более или менее регулярное письмо. Армия все время находилась в движении. Полевая почта работала плохо. Письма и посылки часто пропадали, не находя адресата.
Теперь, вспоминая об этом времени, я с Трудом восстанавливаю последовательность событий, менявшихся с поразительной быстротой, так же, как менялось мое душевное состояние. Из мальчишки, юноши я медленно превращался в молодого человека.
Под Сморгонью я прослужил почти полгода. Нельзя сказать, чтобы боевые действия там были менее опасны, чем теперь, в Добрудже. Но под Сморгонью велась война окопная, позиционная, и боевые действия имели (если так позволительно сказать) более упорядоченный характер, так что образовался некий быт, привязанный к одному определенному месту: лесному массиву возле разбитого снарядами небольшого белорусского города.
Воинские части укрывались в хвойных густых лесах, солдаты жили в надежных блиндажах и глубоких землянках, покрытых в три, а то и в четыре наката толстыми сосновыми бревнами, почтовая связь с тылом действовала довольно быстро, надежно. А красота северной природы, знакомая мне только по картинкам, рассказам отца и по «Временам года» Чайковского, так сильно поразила мою душу, и без того потрясенную первой мальчишеской любовью, что я долго не мог очнуться.
Однако очнулся, привык, и мне уже стала в тягость позиционная война.
«…и как бы ни любил я вас, привыкнув, разлюблю тотчас…»
Я даже привык к тому, к чему, казалось бы, невозможно привыкнуть: к постоянному страху смерти. Чувство самосохранения приучило меня мгновенно разбираться во всех звуках прифронтовой полосы, которые безошибочно определялись как безопасные и опасные. Я научился совершенно точно угадывать отдаленный, еще очень слабый звук неприятельского орудийного выстрела и потом улавливать приближающийся свист немецкого снаряда, заранее и безошибочно определяя перелет, недолет или точное попадание, что давало возможность своевременно броситься в блиндаж или, равнодушно посмеиваясь, следить за невидимой траекторией перелета, сверлящей воздух над головой, заканчивающейся тупым ударом в землю и безопасным взрывом, протянувшим издали во все стороны звенящие струны осколков – тоже безопасных, если вовремя лечь на землю.
Своевременно приходили письма и посылки. Своевременно по расписанию приезжала на позицию походная кухня с обедом и ужином. Своевременно укладывались спать на земляные нары, покрытые пахучим ельником, в глубоком блиндаже под тремя накатами, и почти каждую ночь меня будили странные сухие, скрежещущие звуки! Это во сне скрежетал зубами немец-колонист Веварт, которого мучили глисты, и этот звук был похож на то, будто кто-то ходил в сапогах по скрипучему морозному снегу.
Не хватало воздуху.
Спящие солдаты громко бредили во сне. Распространялся тяжелый запах, тогда кто-нибудь просыпался и сердито бормотал:
– А ну кто тут пускает шептуна?
А вокруг была все та же ставшая уже привычной несказанно прекрасная русская природа, и неподвижно виднелся на горизонте полуразрушенный костел, среди развалин которого валялось деревянное распятие.
Позиционная жизнь надоела мне, так же как некогда, совсем недавно, еще в мирное время, жарким, пыльным июльским днем надоела мне длинная улица с угрюмой гранитной мостовой и тягостно блестящими трамвайными рельсами, где на неотразимо скучном полуденном солнце в бесконечных витринах выгорала галантерея, одуревший от тоски, от неразделенной любви, от переэкзаменовок, я проклинал мирное время и желал войны.
Мое желание исполнилось как по волшебству. А теперь мне наскучила позиционная война, благонамеренная переписка с генеральской дочкой, фронтовые будни, и я пожелал какой-то другой войны, более романтической, войны полевой, с быстрыми передвижениями, внезапными атаками и контратаками, фланговыми охватами, окружениями, взятиями городов, с биваками под открытым небом и всем тем, что казалось таким прекрасным.
Судьба, которая почему-то никогда не отказывала мне в исполнении самых глупых, самых безрассудных желаний, и на этот раз пошла мне навстречу, подарила мне самую что ни на есть полевую войну.
Меня зовут Александр Сергеевич Пчелкин. Я старик. Даже старик глубокий. Сравнительно недавно, лет пятьдесят назад, я прочел у одного известного писателя следующее любопытное место:
«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живущих на земле».
Если так, то почему бы мне не говорить о себе? Вот я и говорю, рассказываю кое-что из своей молодости, перечитываю старые письма, кусочки дневника.
«3 сентября 916 года. Южная Добруджа. Действующая армия. Дорогая Миньона! Можете меня поздравить. Только что мне присвоено звание младшего фейерверкера, то есть нашита на погоны вторая лычка, неуклюжий бебут заменен шашкой – впрочем, не менее неуклюжей, – шпоры я уже ношу на законном основании, как имеющий право на верховую лошадь из конского состава, которую мне также присвоили приказом Пятой батареи, где я числюсь уже не в качестве орудийного номера, а телефонистом-наблюдателем, о чем я всегда так мечтал.
Теперь мне до прапорщика один шаг.
Пишу Вам наскоро в турецкой деревушке, покинутой жителями, где остановился на отдых наш взвод телефонистов и конных разведчиков.
Подобные турецкие деревушки, кое-где еще сохранившиеся в Добрудже, – всего лишь жалкие остатки некогда блистательной Порты, в течение многих лет, а может быть, даже веков властвовавшей здесь над сербскими, болгарскими и румынскими землями, владевшей почти всем Черным морем.
Вокруг плоская равнина, местами совсем дикая, а местами возделанная под пашни, огороды и фруктовые сады. Хлеб давно уже убран, и у нас под ногами колючее жнивье, успевшее зарасти ежевикой – спелой, черной, удивительно вкусной, сладкой.
Особенно отличаются наши лихие конные разведчики, способные в одну минуту изловить брошенного хозяевами большого белоснежного гуся с оранжевым клювом.
Как он ни старался убежать, как ни размахивал своими могучими сизыми крыльями, как ни гоготал отчаянно на всю степь, можно сказать, на весь румынский фронт, как ни отбивался, как ни щипался и шипел, многоопытные разведчики быстро его скрутили, отрубили ему шашкой голову, грубо ощипали, разрубили на куски, сунули в ведро, посолили крупной солью и сварили на костре вместе с остатками перьев и красными перепончатыми лапами. Мне тоже достался квадратный кусок с толстой пупыристой кожей. Хотя мясо оказалось не вполне доваренным, жестким, я смолотил его с громадным удовольствием, сидя на колком пшеничном жнивье у тлеющего костра и заедая гусятину ежевикой.
Должен сознаться, что я тоже немного помародерствовал – пошел шарить по жалким турецким мазанкам с плоскими крышами и в одной из них в плетеном, мазанном глиной чулане нашел персиковую пастилу, полупрозрачную, темно-зеленую, скатанную в длинный рулон, как линолеум. При виде этого восточного лакомства у меня потекли слюнки. Я оторвал кусочек и осторожно лизнул. Вкуснота неописуемая! Однако, помня об отравленных колодцах, воздержался от дальнейшего.
Впрочем, не думаю, чтобы персиковая вяленая на солнце пастила была отравлена и нарочно оставлена для нас. Ведь гусь-то не был отравлен! Теперь мне до слез жалко, что я не поел восточного лакомства.
Никого из Ваших еще не видел. Армия находится в постоянном движении. Воинские части перемешались. Полный бедлам.
Письмо это пошлю Вам, как только найду полевую почту. А пока прощайте, пора двигаться дальше. Подтягиваю подпругу и сажусь в седло. То есть сейчас сяду. Возможно, уже к вечеру придется тянуть телефонный провод на самую что ни на есть передовую, в пехотную цепь, а это довольно щекотливое занятие, особенно если по тебе в это время стреляют. Ваш мародер
Предчувствие не обмануло меня. То, что я написал для красного словца, желая покрасоваться, обернулось истинной правдой. На следующее же утро я был назначен в наряд на дежурство в седьмую роту поддерживать связь пехоты с артиллерией.
Дежурство в седьмой роте пользовалось дурной славой. В течение предыдущих двух суток на наблюдательном пункте в седьмой роте был убит один наблюдатель и ранены пулями два телефониста. Все трое артиллеристы.
Получив приказание идти на дежурство в седьмую роту, я похолодел, но сделал вид, что даже рад такому серьезному боевому заданию, и лихо козырнул мало мне знакомому подпоручику, начальнику команды телефонистов-наблюдателей.
После того как меня произвели в младшие фейерверкеры, меня посылали в самые опасные места, проверяли мои боевые качества: гожусь ли я в офицеры?
Со мною в роковую седьмую роту отправились наблюдатель и еще один телефонист с запасной катушкой черного кабеля за спиной и эриксоновским телефонным аппаратом в кожаном футляре. Дежурство начиналось с наступлением вечерней темноты.
Пройдя впотьмах версты полторы по неубранному кукурузному полю, задевая сухие стебли и шуршащие листья, сказавши вполголоса пароль пехотному часовому, появившемуся во тьме, мы все трое спрыгнули в траншею и пошли гуськом по глубокому ходу сообщения к артиллерийскому наблюдательному пункту, где, сидя, как в могиле, нас с нетерпением ждали наблюдатель и два телефониста, которых мы пришли сменить.
– Как дела?
– Как сажа бела.
– Спокойно?
– Пока что.
– А что?
– Разведка доносит, что у них смена полков. Пришли две новые дивизии: одна немецкая, другая турецкая.
– Вот это номер! А турки как – в своих фесках?
– В фесках, да только не в красных, а в защитного цвета.
– Смотри ты: турки, турки, а тоже понимают.
– Вместо «ура» у них полагается кричать «алла».
– Идут в атаку на «алла»?
– Пока молчат.
Весь этот разговор шел шепотом.
Мне вспомнились две консервные банки с тушеной говядиной на троих и паек хлеба, но не русского житного, а белого пшеничного румынского – несвежего, залежавшегося на складе, с бирюзовой плесенью в разломе, но все же довольно вкусного.
Кипяточком мы разжились у пехотинцев, а заварка и сахар были свои.
Обычное предчувствие неминуемой смерти именно сегодня продолжало томить меня.
Сидя на земле, я придвинул к себе телефонный аппарат и несколько раз проверил связь. Я позуммерил и поговорил с телефонистом, дежурившим на батарее. Звук телефонного зуммера напоминал утиное кряканье. Кроме голоса дежурного телефониста в кожаной телефонной трубке слышалось множество незнакомых и даже иногда не вполне понятных микроскопических голосов, принесенных по телефонной сети из разных, даже самых отдаленных участков фронта, как бы представляя тончайший звуковой чертеж театра военных действий. Иногда прослушивались писклявые позывные немецких телефонов и немецкая речь, как будто бы набранная мельчайшим звуковым готическим шрифтом. Значит, где-то случайно русские провода пересеклись с немецкими.
Прислушиваясь к ним, можно было составить некоторое представление о зловещем передвижении и накоплении войск Макензена, готовящихся к внезапному наступлению по всему фронту.
Ночь была звездная, и я по привычке искал в небе затерявшуюся в мировом пространстве неяркую Полярную звезду, даже, собственно, не звезду, а звездочку.
У неприятеля было тихо, и это еще более усиливало тревогу.
Ротный командир не спал, готовый ко всяким случайностям. Видно, его тоже томила тревога, тайное предчувствие смерти. Плохо различаемый в потемках, он ходил взад-вперед по узкому глубокому окопу, на дне которого в полном боевом снаряжении, с винтовками в руках спали солдаты его роты, положив под голову вещевые мешки и сами похожие на эти вещевые мешки.
Позади на фоне звездного неба маячили фигуры часовых, торчали их винтовки с примкнутыми штыками. Видно, их тоже томило предчувствие верной смерти.
Я вздремнул, но в полночь меня разбудил осторожный шум. Сменялись секреты. Пришедшие из разведки солдаты донесли, что неприятель работает над возведением проволочных заграждений: вбивает колья и ставит рогатки.
Действительно, в ночной тишине слышался отдаленный стук деревянных молотков.
Это немного успокоило: перед наступлением никто не стал бы ставить заграждения. Очевидно, Макензен готовился к обороне. Или, во всяком случае, выжидал нашего наступления. А может быть, это была всего лишь военная хитрость – усыпить наше внимание?
Под утро, угревшись под шинелью с расстегнутым хлястиком как под одеялом, я заснул, и мне в первый раз в жизни приснилась Ганзя. Я ее не видел. Она лишь как бы незримо присутствовала – бесплотная, неуловимая, может быть, даже несуществующая.
В этом сне не было событий. Было только одно чувство печали и неизбежной смерти. Я часто видел этот сон без событий, но только без присутствия Ганзи. Такой сон всегда предвещал начало прилива старой любви.
Я проснулся на рассвете. Меня разбудила неприятельская граната, резанувшая воздух над траншеей и разорвавшаяся далеко позади, сделав перелет.
Наблюдатель уже стоял у бруствера, прильнув к своей двурогой стереотрубе, и вглядывался в голубоватый предутренний сентябрьский туман. Слышалось учащенное утиное кряканье эриксоновского телефона, вселявшее тревогу. В небе над всей изломанной линией наших окопов белели дымки неприятельской шрапнели. Звуки ее разрывов сливались с беспорядочным ружейным треском, становящимся с каждым мигом все гуще, компактнее, тревожнее.
Против боевого участка шестой роты, расположенной рядом с нами, несколько неприятельских мортирных и гаубичных батарей открыли ураганный навесной огонь, и яма, в которой, съежившись, сидел я со своим телефонным аппаратом, тряслась, осыпаясь и трескаясь. Один или два тяжелых снаряда разорвались совсем близко. На голову и за шиворот посыпалась земля.
Ясно: немцы нас обманули и сейчас пойдут в атаку. Закрякал мой «эриксон». С батареи приказ: не отнимать телефонную трубку от уха и каждые пять минут проверять линию.
Из своей норы выполз ротный командир: показавшийся мне ночью неуклюжим и пожилым, на самом деле при утреннем свете это был молоденький поручик в зеленых наплечных ремнях, со свистком в чехольчике на груди.
– Рота, в ружье! – закричал он петушиным мальчишеским голосом. – Сейчас, ребята, пойдем вперед! Будем передовой заставой!
Из тумана появился солдат и, перевалившись через бруствер, упал на дно траншеи. Это был связной из секрета. '
– Ну что там? – строго спросил его поручик.
– Пока ничего, ваше высокоблагородие. Видать, герман подготавливает атаку, а пока сидит у себя в окопах, не вылезает.
Артиллерийский огонь усилился.
Соседнюю роту вывели в ход сообщения, потому что находиться в окопах не стало никакой возможности.
Наступила тишина. Зловещая пауза.
Туман рассеялся. Наблюдатель уже стал кое-что видеть более отчетливо. Он обернулся ко мне и сказал:
– Передайте на батарею, что правее цели номер три показались неприятельские цепи.
Очевидно, эти цепи были замечены и с других наблюдательных пунктов, потому что до того времени наша безмолвная артиллерия вдруг открыла по всей линии беглый огонь.
Немцы яростно отвечали.
Каждый миг в узкую щель нашего окопа мог влететь шальной снаряд и разорваться, превратив меня в клочья, в ничто. Никогда еще не испытывал я такого животного, безумного ужаса, как в то утро после нежного, безысходно-грустного любовного сна, так грубо прерванного.
Помню, что вместе со страхом смерти я испытывал необъяснимое чувство своей личной вины за все то, что совершается не только непосредственно вокруг меня, но также и во всем мире, охваченном пожаром всеобщей войны, всеобщего истребления людьми друг друга, хотя ни один из миллионов этих людей не хочет войны. Даже наверное, злая воля управляла человечеством. Кто был виновником? Неужели это был я сам?
Вместе с тем я испытывал жалость к себе, к своей погибшей молодости.
Но все это таилось в глубине моей души, а внешне я полулежал на дне траншеи, одной рукой обняв кожаный футляр телефонного аппарата, а другой изо всех сил прижав к уху слуховую трубку, и подавал каким-то несвойственным мне механическим голосом команды, которые сообщал мне наблюдатель:
– По цели номер восемь! Прицел сто двадцать, трубка сто пятнадцать, шрапнелью, два патрона беглых!
Все остальное вспоминалось теперь как бред: выползающие из своих земляных нор пехотинцы с вещевыми мешками за спиной, с саперными короткими лопатами, с котелками, прицепленными к поясам, отягощенным патронными сумками и противогазами, в касках, которые недавно появились в русской армии, с винтовками с примкнутыми штыками в черных, как картошка, руках.
Многие крестились.
Надо было вылезать из окопа на открытое со всех сторон пространство, где со звуком хлыста свистели пули.
Первым выбрался на бруствер взводный, крепкий унтер-офицер. Он тяжело перевалился через бруствер и, пригибаясь к земле, побежал вперед, становясь в тумане полупрозрачным. Следом за ним, подсаженный сзади солдатами, перевалился через бруствер ротный командир, отчистил от земли колени, побежал вперед и тоже стал полупрозрачным. За ним вылезли из окопа несколько взводных, отделенных и фельдфебель, а там начали неохотно переваливаться через бруствер и таять в легком тумане рядовые солдаты – некоторые бородатые, а большинство с почти детскими испуганными лицами, последнего набора – и становились полупрозрачными.
Окоп зловеще опустел.
…со вкрадчивым свистом летели шальные пули; иные из них ударялись о бруствер и отскакивали рикошетом, крутясь вдоль траншеи.
Пороховой дым настолько сгустился, что стало трудно дышать. Наблюдатель едва держался на ногах от усталости, нервов, напряжения и страха, который изо всех сил скрывал.
Я передал ему телефонную трубку, а сам прильнул к окулярам стереотрубы. Мы поменялись ролями. Наблюдатель стал телефонистом, а я, телефонист, стал наблюдателем.
Поднялась страшная винтовочная и пулеметная трескотня, сквозь которую издалека долетало слитное «ура» или что-то в этом роде, которое можно передать только звуками:
– А-а-а-а-а-а!…
Кроме меня с товарищами-артиллеристами да еще двух пехотных телефонистов, в глубине окопа не было уже ни души.
Изо всех сил, до боли в глазах напрягая зрение, пытался я сквозь завесу черного мелинитового дыма разрывов разглядеть в стереотрубу обстановку боя. Легкий ветерок помогал мне, относя в сторону траурную вуаль дыма. Я видел всюду – впереди, справа, слева – незаметно откуда-то взявшиеся цепи неприятельской пехоты. Стараясь перекричать грохот боя, я диктовал сидящему у моих ног телефонисту установки все время сокращавшейся дистанции. Разрывы наших снарядов вырывали из наступающих цепей неприятеля десятки человек, но цепи почему-то почти не редели.
Наша рота, ушедшая вперед, окопалась и задерживала беглым огнем почти батальон наступающих немцев.
Даже сейчас – через столько лет! – я вижу осеннее сжатое поле, во всех подробностях приближенное ко мне цейсовской оптикой стереотрубы: жнивье, усеянное живыми и убитыми, ползущими и неподвижно распластанными солдатами, и среди них черные гейзеры взрывающихся снарядов.
Каким-то чудом армия генерала Макензена была в тот раз остановлена, а мое предчувствие неизбежной смерти не оправдалось. Я не только не был убит, но даже не получил ни одной царапины…
«10 октября 916 г. Румфронт. Дорогая Миньона! Только сейчас дошло до меня Ваше письмо, а когда мое письмо дойдет до Вас – один бог знает.
Румынская кампания, представлявшаяся всем нам чуть ли не увеселительной прогулкой, обернулась тяжелейшими боями. Здесь воевать очень трудно. Не то что под Сморгонью, хотя там тоже было не мед. Но там я чувствовал себя дома, в России. А здесь Добруджа, какая-то странная заграница. Совершенно плоское открытое место, на горизонте голубоватые Балканы. Лесов совсем нет. Нечем укреплять блиндажи, негде укрываться от вражеской воздушной разведки, от немецких авиационных бомб, нечем маскировать орудия, разве что сухими стеблями кукурузы.
В этих местах, между Дунаем и Черным морем, воевали некогда Каменский, Кутузов.
Мы все время в движении. Исколесили всю Добруджу. Обносились, обросли бородами, изголодались. Обозы отстают. Кухни блуждают среди сухой кукурузы, не находя своих частей. Кроме того, пошли дожди.
Сейчас я лежу в палатке, по которой сыплет нудный, затяжной дождь. Полотно палатки желтого цвета, поэтому кажется, что оно освещено солнцем. А на самом деле темный, унылый, дождливый день, низкие тучи грязного цвета, всюду лужи, покрытые концентрическими кругами и белыми пузырями дождя, похожими на рыбьи глаза. Боюсь, что бумага, на которой я пишу это письмо, промокнет и Вы ничего не разберете. Временами ворчит гром поздней осенней грозы: такое впечатление, что по низким тучам проезжает какой-то небесный обоз. Издали доносятся звуки артиллерийской канонады. Два звука – грозы и орудий – сливаются, происходит дуэль «двух жульнических батарей – одной земной, другой небесной»…
Вы спросите, почему жульнических батарей? Не знаю. Мне так кажется. Вообще война – это сплошное жульничество перед человечеством. Простите!
Хотелось бы описать Вам по возможности как можно подробнее нашу обстановку. То наступаем, то отступаем… Несем потери… Теряем территорию… Вот, собственно, все, что я могу ответить на Ваш вопрос, как у нас идут дела. Дела как сажа бела. Не думаю, чтобы Вы что-нибудь поняли, если бы даже я и попытался как можно подробнее описать обстановку, тем более что я сам ничего не понимаю. Что-то мне сильно не нравится этот румынский фронт. Впрочем, может быть, мои сомнения происходят исключительно из-за паршивой погоды. Дождь барабанит по палатке. Откуда-то снизу подтекает вода. Писать трудно, тем более что мои товарищи телефонисты-наблюдатели рядом со мной с громкими криками дуются в картишки, в железку. Смеркается быстро. Настроение хоть повесься! Постараюсь это письмо послать с оказией, чтобы оно не попало в лапы военной цензуры. Кстати: что слышно в тылу? Солдаты, приезжающие из отпусков, распускают самые невероятные слухи. Такое впечатление, что все рушится, и войну мы проигрываем, и назревают события… Целую руку. Ваш
Я лежал в палатке на сырой соломе, все время вытирая с лица дождевые капли, падающие сверху. Рядом играли в «железку». Уже настолько стемнело, что игроки зажгли огарок стеариновой свечи, прилепив ее ко дну пустой консервной банки.
Багровое пламя огарка, полузадушенное махорочным дымом, еще более сгущало сумерки, и на душе у меня было темно. Прилив давно уже начался, и только письмо Миньоне на некоторое время отвлекло меня от привычных мыслей о той, другой.
Но что это за привычные мысли?
Много раз в течение своей чрезмерно затянувшейся жизни я пытался понять, как же это случилось, и никак не мог понять. Что же между нами было? Самое странное, что между нами ничего не было.
Я ее любил. Она меня нет. Приходилось мне одному любить за двоих.
Когда мы с ней встретились, она еще вообще никого не любила. А ее почему-то любили все: подруги, знакомые гимназисты, даже один студент. В сущности, она была еще совсем девочка. Ей едва минуло пятнадцать. Она была еще бутон. Но тем не менее в ней, вероятно, уже угадывалась будущая обольстительная женщина. Она была более женственна, чем все ее подруги, хотя внешне выглядела моложе всех, даже меньше ростом. На первый взгляд она казалась совсем незаметной.
Однако, сама того не желая (а может быть, желая), она уже свела с ума двадцатилетнего Вольдемара. Вслед за Вольдемаром она свела с ума и меня.
Может быть, слишком сильно сказано: свела с ума. Во всяком случае, она как-то незаметно овладела моим воображением, всеми моими мыслями и чувствами. Так же, как и она, я еще был подросток, не созревший для любви, громадное чувство, вызванное ею, было мне не по возрасту, как бывает одежда не по размеру. Я не испытывал к ней физического влечения. Мне даже не могла прийти в голову мысль взять ее за руку, не говоря уж о желании обнять или поцеловать. Я не мог дать себе отчета в том, что же, собственно, мне от нее нужно. Мне было достаточно одного сознания, что она существует на свете, что она рядом, что я могу ее видеть, что мы принадлежим к одной молодежной компании и что я постоянно встречаюсь с ней в разных знакомых домах, на вечеринках, на прогулках.
О моей тайной любви, конечно, догадывались все. Надо мной даже стали посмеиваться, как посмеивались над Вольдемаром. Мы оба, я и Вольдемар, были безнадежно влюблены в нее.
Кстати сказать, Ганзя было ее детское прозвище, которое так и осталось за ней на всю жизнь.
А она?
Предпочитала ли она кого-нибудь из нас? Неизвестно. Вернее всего, она ни к кому из нас не испытывала никаких любовных чувств. Ничего, кроме компанейского дружелюбия, даже, может быть, товарищеской симпатии. Скорее всего ей нравился некий студент из нашей компании, красавец и симпатяга с алым ротиком, лучистыми глазами, шелковистыми усиками, всегда щегольски одетый в форменный студенческий мундир (не в тужурку!) с твердым высоким синим воротником, подпиравшим бархатные щечки, и подбитой ватой грудью, на которой блестели два ряда студенческих орленых золотых дутых пуговиц.
Вольдемар открыто к нему ревновал, вызывая всеобщее веселье. Я же не выражал своей ревности, втайне раздиравшей мою душу при виде, как ласково смотрят друг на друга Ганзя и студент.
Но мы с Вольдемаром сделались невольными сообщниками в ненависти к счастливому студенту. Мы осуждали его каждый на свой лад. Я критиковал его за легкомыслие и отсутствие глубоких знаний (сам будучи полным невеждой), а Вольдемар прямо говорил с ядовитой иронией, что у него алые губки, похожие на куриную жопу.
Да ведь был еще какой-то футболист, инсайд-правый.
В палатке, трепетавшей от проливного дождя, при лазурно-багровом пламени огарка я перебирал в памяти все, что касалось моей любви.
…Однажды во время игры в фанты ее лицо оказалось так близко, что общего его выражения я уже не мог разобрать. Видел только движущиеся коричневые брови и как бы отдельно от них карие глаза и растянутые в улыбке губы. Глаза выражали внимание, губы шевелились, лоб смеялся, брови хмурились, но в одно общее они не складывались. Может быть, это отсутствие общего и вселяло в меня чувство горечи. Для меня у нее нет общего.
Я возвращался к истокам своей любви, когда каким-то непонятным, таинственным образом вдруг почувствовал, что моя судьба теперь как-то связана с ее судьбой, хотя это была всего лишь игра воображения.
После похода за фиалками до конца учебного года мне так и не пришлось видеться с ней, а там начались экзамены, летние каникулы, то да ce, и я перестал о ней думать, хотя во мне все время теплилось сознание, что на свете существует она, и с этим уже ничего нельзя поделать.
У меня в гимназии был верный друг Боря. Характеры у нас были совершенно разные, что, как водится, еще надежнее скрепляло нашу дружбу.
Я, как мне помнится, был нервный, крикливый, жил воображением, а Боря был рассудительный, несловоохотливый, сдержанный, склонный к недоверию, немного ироничный. Он тоже, как мы все в этом возрасте, жил воображением, но в его характере преобладало нечто, постоянно сдерживающее воображение.
Так или иначе, но мы считались самыми близкими друзьями и на большой переменке сидели внизу, в раздевалке, под шинелями, на длинном ящике с отделениями, в которых хранились галоши на свекольно-красной суконной подкладке с медными буковками инициалов. Там я особенно охотно откровенничал.
– Понимаешь, Боря, – говорил я, жуя бублик, купленный в гимназическом буфете за две копейки, – я влюбился.
– В кого? – спросил Боря с ироническим выражением белобрысого лица и улыбнулся, показав свой передний криво выросший крупный зуб, что делало его лицо особенно характерным.
– Ты ее не знаешь, – сказал я. – Я сам с ней только три дня назад познакомился.
– И уже влюбился? – спросил Боря строго.
– Да, – вздохнул я. – Так случилось. Ее зовут Ганзя Траян, из гимназии Бален де Валю.
– Не знаю, – сказал Боря и еще ироничнее улыбнулся. – Ну и что же? Так сразу с места в карьер?
– Ты себе не представляешь, что со мной сделалось!
– Почему же я себе не представляю! Отлично представляю: ты влюбляешься в каждую юбку.
– Ах, Боря, нет. Это совсем не то! Такого со мной еще никогда не бывало. Даже дома заметили. Я о ней все время думаю.
– В то время как тебе не мешало бы подумать об уроках. А то смотри – выкинут за неуспеваемость. Ты и так висишь на волоске.
Я поморщился.
– Ах, боже мой, совсем не о том речь… Понимаешь, у меня вдруг при одной мысли о ней к сердцу приливает такая, знаешь ли, как бы тебе объяснить – горячая, что ли, волна, что, честное благородное, трудно делается дышать. – Ну и врешь, что трудно дышать, – зашептал Боря, по своей привычке хладнокровно отделяя правду от выдумки.
Боря отчасти играл роль Базарова и уже готов был сказать мне великолепные слова: «Аркадий, не говори красиво», но сдержался из уважения к моему чувству любви. Он только делал вид, что все эти мои любовные истории ему совсем не любопытны и просто смешны. На самом же деле разговоры о любви ужасно его волновали.
– Все это, брат, ты выдумываешь, – сказал Боря. – Вот ей-богу, святой истинный крест, я не выдумываю, – почти со слезами на глазах сказал я и перекрестился. – Прямо-таки трудно вздохнуть.
Мы немного помолчали.
Я положил локти на колени, уперся подбородком в вывернутые ладони и, глядя исподлобья на чугунную печку, в слюдяном окошке которой горели золотые слитки раскаленного кокса, обогревая раздевалку, вздохнул:
– Это, кажется, Боря, я в первый раз в жизни так втрескался.
Боря дернул костлявым плечом и прищурился, как следователь, допрашивающий преступника:
– А, собственно, за что ты так сильно в нее влюбился? Что она – лучше других?
– Ах, в том-то и вся штука, что я не знаю, за что я ее полюбил. Просто так. В этом-то все дело.
– Не понимаю, – сказал Боря, и между нами начался один из тех волнующих и бестолковых разговоров, какие обычно происходят между близкими друзьями, которые чувствуют и думают по-разному, но терпеливо стараются понять один другого, потому что любят друг друга, несмотря на свою несхожесть.
Я с жаром доказывал, что когда любят по-настоящему, как я полюбил Ганзю, то эта любовь всегда бывает беспричинной, и если человек любит, то не за что-нибудь – ну там за красоту, или за ум, или за богатство, или за фарфоровые щечки и жемчужные зубки, или за серебристый смех и маленькие ножки, – а любят просто так, потому что это судьба.
– Ты понимаешь – она моя судьба!
Я слушал самого себя и любовался самим собой, своими такими чистыми и возвышенными взглядами на любовь. Однако, утверждая, что настоящая, большая любовь всегда бывает без причин, я сам себе не очень-то верил, потому что трудно, даже невозможно верить чему-нибудь, происходящему без причины. Без причины ничего не бывает. Однако же…
А Боря, для которого любовь была вещью совсем непонятной и туманной, вернее сказать, за отсутствием любовной практики и вследствие прирожденной застенчивости штукой отвлеченной, старался говорить о ней как о вещи простой, ясной и обыденной, лишенной волшебства.
Мы не понимали друг друга, но каждая новая мысль, высказанная в раздевалке под шинелями, все больше и больше разъясняла и определяла для нас понятие любви.
Ох уж эти разговоры гимназистов о любви!
– Если ты утверждаешь, – говорил Боря прокурорским тоном, – что любовь возникает сама собой, без причины, то это надо проанализировать. Опиши мне самым подробным образом свое знакомство с ней с самого начала до того момента, когда ты пришел к выводу, что влюблен. Таким образом нам наверняка удастся обнаружить причину.
Я самым добросовестным образом поведал другу все подробности своего знакомства с Ганзей, поход за фиалками и т. д.
Мы оба, как два ученых-исследователя, сидя под вешалкой, где пахло побывавшими под дождем гимназическими шинелями, старались обнаружить причину моей внезапной любви, но у нас ничего не получалось.
…на румынском фронте, в палатке, потемневшей от дождя, я продолжал сам с собой исследовать причины своей любви к Ганзе. Этих причин могло быть две: красота и ум. Но она, несомненно, была некрасива. А ума ее я не знал. Значит, не в этих очевидных причинах было дел Так в чем же?
Ах, чего бы я не дал, чтобы снова стать пятиклассником и очутиться вместе со своим другом Борей под шинелями! и видеть перед собой печку, похожую на маленький сизо-чугунный замок, в слюдяном окошке которой пылал раскаленный коке, создавая впечатление, что в замке какой-то праздник, торжество, бал, может быть, даже свадьба!
Нет, для любви не надо ни красоты, ни ума, и возникает она сама по себе, без причин.
Волшебство самовозгорания!
Да, но все-таки…
Ведь к Миньоне у меня тоже была любовь. Но она имела причины. Миньона была хороша собой, не слишком, но все-таки… Она была нарядна, неглупа, начитанна, дочь генерала, у нее были сиреневые глаза, бронзовые волосы в крупных завитках. Она была склонна к флирту, который называла на английский манер флёрт. У меня с Миньоной все было более или менее ясно. Ода мне физически нравилась. И ей я нравился до известной степени: все-таки лишний поклонник. Я без труда, легко и бездумно ухаживал за нею. Она принимала мои ухаживания как должное. Мы без затруднения болтали друг с другом. Я считался одним из ее счастливых поклонников. Она явно отличала меня. Все-таки я пописывал любовные стишки, а это всегда нравится.
Оба мы – Миньона и я – были слишком юны и незрелы для серьезного чувства. Но в будущем… Чем черт не шутит. Я мог стать офицером, и тогда…
Но это были лишь детские мечты.
С Ганзей все обстояло совсем по-другому.
Она была моложе Миньоны, но я познакомился с ней годом раньше, когда она только что вышла из отрочества. Она была первая. Первая и единственная: с первого взгляда и на всю жизнь. Я так глубоко любил ее, что мне даже и в голову не могло прийти ухаживать за ней или – еще хуже – флиртовать, добиваться взаимности. При ней я немел. Вероятно, она сначала даже не заметила моего чувства.
Нравился ли я ей? Неизвестно. Мог же я понравиться ее подруге Калерии, которая даже была в меня влюблена. Так почему бы… Но нет. Неизвестно. Вообще ничего не было известно.
Правда, с моей стороны однажды была предпринята попытка выяснить отношения. Боря надоумил меня добиться свидания. В представлении Бори свидание являлось непременным элементом любовного романа, счастливого или несчастного – не имело значения. Я схватился за эту идею. Да, конечно, свидание! Свидание необходимо. Свидание сблизит нас и создаст между нами определенные отношения, возможно, даже любовные.
В сущности, свидание было совершенно не нужно. Я и так виделся с ней почти каждый день то на вечеринке, то у нее дома, то просто на улице по дороге в гимназию, то у Калерии.
Самое слово «свидание» обладало магическим свойством любовного сближения.
…Дождь продолжал сыпать по палатке, вода натекала откуда-то снизу, и солома промокла, свеча догорала, задушенная махорочным дымом, солдаты с шумом дулись в «железку», кидая карты по разостланному брезенту, раскаты грома соперничали со звуками отдаленной канонады, а я в сотый раз прокручивал в воображении это единственное наше свидание, на которое я возлагал большие надежды, впрочем, не оправдавшиеся, так как все равно ничего не определилось.
Устроить свидание по всем правилам оказалось делом весьма не простым, хлопотливым. Сложность его заключалась в том, что уже сам по себе факт свидания предполагал наличие взаимной любви. А так как взаимной любви – увы! – не было, то мне приходилось как-то перед самим собой выкручиваться, усыпляя совесть хитросплетениями вроде того, что еще доподлинно неизвестно, любит она или не любит, а может быть, и любит, только я этого не знаю. Но даже если не любит, то свидание в конце концов может быть вовсе и не любовное, а попросту дружеское, даже, если угодно, деловое. Может быть, у меня к ней есть дело, касающееся только ее и меня – и никого больше.
Но какое же дело? Об этом надо подумать. Вопрос трудный. Надо придумать дело, не имеющее характера любовного и в то же время отчасти все-таки как бы вроде и любовное.
Легко сказать!
Так родилось нечто шитое белыми нитками: я вызываю ее на свидание для того, чтобы решить деликатный вопрос относительно чувств ревнивого Вольдемара. Поскольку общеизвестно, что Вольдемар влюблен до безумия в Ганзю, у меня якобы явилось подозрение, что Вольдемар ревнует Ганзю ко мне, хотя эта ревность совершенно необоснованна. Однако я решил поступить благородно и больше не встречаться с Ганзей ни на вечеринках, ни на прогулках, ни у нее дома, нигде, для того чтобы не давать Вольдемару повода для ревности и страданий. Назначил же я свидание для того, чтобы откровенно объясниться и узнать мнение Ганзи на этот счет.
Я, шестнадцатилетний хитрец, ставил ловушку. Она принуждена будет сказать да или нет, то есть косвенно признаться, что любит или не любит Вольдемара. Если любит, то как бы это ни было мне тяжело, но все-таки легче,: чем неизвестность: мое сердце, несомненно, будет разбито, но, по крайней мере, я предстану перед Ганзей как благородный человек, жертвующий своим счастьем для друга. И я дам слово никогда больше не встречаться c Ганзей.
Можно ли принести большую жертву во имя подлинной печной любви?
…сумбур царил тогда в моей голове!
А если она скажет, что вовсе не любит Вольдемара, и отвергнет мою жертву, то, значит, она вовсе не собирается отказываться от встреч со мной ради ревнивого Вольдемара, которого, очень возможно, вовсе и не любит. Тогда я с чистой совестью смогу наконец произнести заветные слова: «Я вас люблю».
А нет – так нет! Буду любить Калерию.
В сущности, все дело заключалось в самом факте свидания независимо от его содержания.
Она придет ко мне на свидание. Мы будем наедине. Нас свяжет некая тайна. О большем счастье я и не думал. Остальное уже дело техники.
Техника свиданий была в совершенстве разработана несколькими поколениями влюбленных гимназистов и гимназисток: он посылает ей записку с просьбой о встрече; она назначает свидание; они встречаются наедине.
Все это напоминало дуэль со всеми ее формальностями. Даже предусматривался секундант, то есть тот, кто будет передавать записки.
В этом заключалась известная трудность: кто передаст ей мою записку? Не так-то легко решался этот вопрос. Самой подходящей для этой цели, конечно, являлась ближайшая подруга Ганзи, упомянутая уже Калерия. Но, во-первых, она была сестрой Вольдемара, а во-вторых, сама была влюблена в меня, так что навязывать ей роль передаточной инстанции казалось невозможным, слишком жестоким. Однако я решился даже на эту жестокость.
– Ты, Пчелкин, просто негодяй, – сказала мне Калерия со слезами на прелестных глазах, но все-таки взяла записку и спрятала ее под нагрудником гимназического фартука.
В ней боролась любовь ко мне и любовь к подруге. Победила любовь к подруге: передача ей любовной записки считалась среди гимназисток делом священным.
Вернувшись после уроков домой, Калерия, как и следовало ожидать, увидела меня. Я шатался возле ворот.
– Ну как? – спросил я.
Поджав губы, Калерия вынула из-за нагрудника фартука и протянула мне ответ – розовую секретку в клеточку.
– Но имей в виду, Пчелкин, – сказала Калерия, глотая слезы, – я для тебя пожертвовала всем, и теперь ты для меня навсегда ноль!
В своем гневе она была прекрасна, однако нос портил все дело.
Мне было все равно. Я весь находился во власти любовного жара. Получить от девушки не что-нибудь, а именно секретку считалось уже как бы доказательством наличия романа.
Я держал в руках секретку, на которой лиловыми школьными чернилами было написано мое имя. Я открыл секретку, то есть оторвал окружающий ее заклеенный купон, и на клетчатом листке прочел следующие незабвенные слова, тщательно выведенные аккуратным почерком добросовестной школьницы-отличницы, однако уже имеющим характерные особенности почти взрослого почерка:
«Приходите сегодня в четыре часа на боковую аллею Александровского парка. Ганзя».
Я торжествовал. Полученная секретка возвышала меня в собственных глазах, превращая из безнадежно влюбленного гимназиста-второгодника в счастливого любовника. Теперь пускай все узнают, что она назначила мне свидание в Александровском парке. И пускай красавец студент с маленьким ротиком не задается! И пускай Вольдемар поет своим фальцетом, глядя на нее умоляющими глазами: «Я вновь пред тобою стою очарован…»
Теперь я уже не буду стоять перед Ганзей как бессловесное животное, а зримо, открыто и бесстрашно скажу ей в боковой аллее Александровского парка: «Я вас люблю» – или даже еще лучше: «Кажется, я вас люблю». Как украсило это магическое «кажется» банальное объяснение в любви!
«Ганзя, кажется, я вас люблю», или даже лучше немного переставить слова: «Я люблю вас, кажется, Ганзя». В таком сочетании еще больше любовной музыки.
В течение двух часов, оставшихся до свидания, я мысленно переиграл все возможные и даже невозможные варианты свидания. Я потерял голову от счастья. В то же время секретка Ганзи вызвала во мне неясные подозрения. Уж слишком содержание записки казалось сухим, деловым. Особенно настораживало упоминание о боковой аллее. Можно подумать, что Ганзя уже не первый раз назначает свидания именно в этой боковой аллее. Возможно, что для нее боковая аллея являлась привычным местом любовных свиданий и встреча со мной вовсе не была исключением. А я так наивно воображал, что это первое ее свидание.
Первое свидание. Первая любовь. Первая аллея. Все должно быть первым. А иначе какой же смысл в свидании?
Но все эти сомнения рассеялись, в то время как я шагал по Французскому бульвару в направлении к Александровскому парку, боясь опоздать, а еще более опасаясь явиться слишком рано.
На колокольне Михайловского монастыря пробило четыре, когда я, перейдя пустырь с деревянными остатками велосипедного трека, так называемого циклодрома, вступил в боковую аллею Александровского парка, в глубине которого между черных стволов обнаженных деревьев просматривалась Александровская колонна, сооруженная в память пребывания в городе царя-освободителя, собственноручно посадившего здесь дубок, который уже превратился в большое ветвистое дерево. А дальше – море.
На всю жизнь в моей памяти осталась боковая аллея. С годами память ослабела, но вид боковой аллеи держался крепко, разве только исчезали детали, которые, впрочем, только засоряли пейзаж ненужными мелочами.
Хорошая память – фотография. Плохая – живопись.
В конце своей жизни я видел боковую аллею как рисунок углем.
В палатке на румынском фронте моя память была еще безукоризненно свежа, и я видел боковую аллею со всеми подробностями только что спиленных черных веток, еще не убранных с дорожки, покрытой влажным морским гравием, хрустевшим под ногами, как рассыпанная карамель.
Я видел лестницу, прислоненную к стволу дерева, и городского садовника в зеленой форменной фуражке, который спиливал ножовкой ненужную ветку. Опилки сыпались из-под пилы, и свежесрезанный торец ярко желтел.
Теперь я уже не помню, в какое время года обрезают в парке деревья – ранней весной или поздней осенью. Но я помню, что тогда обрезали деревья. Значит, свидание было или ранней весной, или поздней осенью, когда листья уже облетели. Во всяком случае, во всю длинную перспективу боковой аллеи чернели стволы голых деревьев – австралийской разновидности робинии, но только с длинными острыми шипами и перекрученными ремешками стручков с выпуклостями созревших внутри семян. Все-таки, значит, была поздняя осень, октябрь или даже ноябрь, но погода стояла теплая, и я шел налегке, без шинели. От волнения я даже немного вспотел и расстегнул верхний крючок куртки, так что из-под суконного воротника виделась на моей худой, еще почти детской шее цепочка нательного киевского крестика с ладанкой от скарлатины.
Короткий день клонился к вечеру, но было еще светло и воздух печально пахнул опавшей листвой. Безлюдье и тишина обширного парка с полоской моря показались мне оглушающими. Меня терзало сомнение – придет она или не придет? Если она придет, то это будет слишком большим счастьем. Пусть она даже опоздает, я готов ждать ее до темноты, когда зажгут газовые фонари.
Я несмело посмотрел вдоль аллеи и не поверил своим глазам: маленькая знакомая фигурка шла издалека мне навстречу. Она была тоже без пальто, в гимназической форме, в будничном черном переднике, без шляпы, с открытой головкой и волосами, убранными в виде коронки, но с челочкой на лбу, что по гимназическим правилам запрещалось. Значит, она уже успела сбегать домой, оставить там книгоноску и шляпу, наскоро пообедать, перечесаться, наслюнить и напустить челку на лоб, но не переоделась – и без опоздания явилась на место встречи.
Она неторопливо приближалась, но мне все еще не верилось, что все это происходит не во сне, а наяву. Но нет, только наяву у девочки могли быть запачканы чернилами пальчики и в углу прелестного, несколько растянутого рта виднеться засохшая заеда – след недавно съеденного арбуза. Она не улыбалась, но и не хмурилась. Выражение ее лица было будничным, как и весь ее вид.
Она не высказала ни малейшего удивления по поводу этого неожиданного свидания, как будто бы так оно и должно было быть. Она подошла ко мне, и мы молчаливо пошли по аллее – я смущенный, а она как ни в чем не бывало.
Вот наконец я с нею наедине!
Теперь бы мне и произнести приготовленную фразу. «Кажется, я вас люблю, Ганзя». Но вместо этого я начал с весьма многозначительным видом молоть вздор, еще накануне казавшийся мне весьма тонким и хитрым, насчет ревнивого Вольдемара, для спокойствия которого я готов пожертвовать собой и перестать ходить в гости к Ганзе, а также вообще перестать с ней встречаться, и хотел бы знать ее мнение по этому поводу.
Хитрец, я думал, что действую наверняка.
Выслушав мою горячую чепуху, она дернула худеньким, еще почти совсем детским плечиком и сказала:
– Вот еще! С какой стати? Я вовсе не хочу из-за кого бы то ни было терять знакомых.
На этом свидание так и закончилось ничем.
Я проводил ее домой, по дороге мы болтали о том о сем, об учителях, о знакомых, и все осталось по-старому, кроме некоторого моего удовлетворения тем, что как бы то ни было, а свидание состоялось, на всю жизнь оставив в моей памяти неизгладимый след.
…Затяжной дождь продолжал шуметь по палатке. Ворчал гром. Издали доносились орудийные выстрелы. Солдаты, лежа на мокрой соломе, дулись в «железку».
Я продолжал думать о Ганзе. На этот раз прилив любви был так силен и продолжителен, что ни о чем другом я уже не мог думать.
В памяти беспорядочно возникали картины того счастливого времени, которое я не успел оценить.
…отрывки из моего юношеского романа, написанного еще не устоявшимся полудетским почерком:
«– Разве вы не зайдете к нам? – спрашивает она. – Напьетесь чаю.
Она пошла вперед, повернула направо в парадный ход и стала быстро, не оборачиваясь, подниматься по лестнице, легко перебирая рукой по перилам. Я шел за ней, печально опустив голову.
Подобно тому как все человеческие лица делятся по своему характеру на женственные и мужественные, сказать вернее, на отцовские и материнские, так и все квартиры, в моих глазах делились как бы на женские и мужские.
Женские квартиры, которых меньшинство, отличались уютностью, большим количеством материй, подушек, мягкой мебели, приглушенным светом ламп, старообразными абажурами и каким-то особым будуарным запахом.
Мужские квартиры, которых большинство, всегда чистые, просторные, светлые, сильно освещенные лампами, с прочными удобными столами, твердыми стульями и сизым запахом табачной золы, таящейся в перламутровых недрах тропических раковин, заменяющих пепельницы. К этому запаху примешивается запах натертого мастикой паркета и твердой полированной мебели.
Квартира ее родителей имела явно выраженный тип квартиры мужской. В ней было все определенно, просто, от голубого фонаря, висящего на жиденьких цепях в прихожей, до больших, но плохо написанных масляными красками картин в духе Айвазовского и Шишкина. Картины в довольно толстых золоченых рамах висели в холодной гостиной и не доставляли глазу никакой радости.
Когда мы вместе с Ганзей явились, в столовой уже пили чай. За столом сидела вся семья, кроме отца, который только что встал из-за стола и шел, поскрипывая ботинками, за папиросами, собираясь ехать в клуб. В зеркале мелькнула его стриженная под бобрик голова. Кроме матери и брата, застенчивого тринадцатилетнего гимназиста Васи, за столом сидели еще бабушка в черной кружевной наколке на серебряной голове и глухая девушка в красной турецкой феске.
Всякий раз, входя в эту столовую, я испытывал чувство неловкости от сознания, что я никогда не буду здесь своим, а лишь случайным гостем. Мои губы сами собой складывались в неестественную улыбку – не то ироническую, что вот, мол, я сел не в свои сани, не то униженную, как у просителя.
– Ну, как вам гулялось? – приветливо спросила нас Ганзина мама, в то время как мы, Ганзя и я, еще жмурясь на яркую лампу после темноватой передней, входили в столовую. – Садитесь. Я вам сейчас налью чаю. Садитесь и ешьте. Вот колбаса, вот яичница, вот вареники. Пожалуйста, без стеснения. Ганзя, что же ты? Поухаживай за своим кавалером.
– Давайте свою тарелку, – сказала Ганзя, – мама хочет, чтобы я за вами ухаживала, только я плохая хозяйка.
– Ты думаешь, – сказала мама, – что это очень хорошо и современно? Ты женщина. А женщина должна быть хорошей хозяйкой. А то тебя никто замуж не возьмет, когда вырастешь.
У Ганзиной матери были выпуклые женственные веки и небольшой изящный нос. Она была красива, но как-то простонародна. Можно было предположить, что впоследствии Ганзя будет похожа на нее. В ее карих – не то румынских, не то молдаванских – глазах весело отражался белый абажур висячей столовой лампы.
– Ну ты, мама, тоже сказанешь! – пожав плечиками, огрызнулась Ганзя и как бы в доказательство, что она не умеет и не желает быть хорошей хозяйкой, небрежно наложила на мою тарелку гору колбасы и вывалила всю яичницу-глазунью.
– Теперь вы должны все это съесть, так вам и надо. А я за хорошую хозяйку не нанималась.
Ганзя сердито сморщила свое незначительное и незапоминающееся личико и вдруг улыбнулась, в один миг став хорошенькой, даже красивой, похожей на свою мать.
Пока я ел и пил чай, она вышла из-за стола и вернулась, уже переодевшись по-домашнему – в красной блузочке с открытым воротником.
Потом мы сидели у нее в комнатке, которая была единственным женским уголком в этой неуютной квартире, носящей отпечаток хозяина-картежника, проводившего ночи в клубе.
Еще совсем недавно у Ганзи не было своей комнаты. Она спала с мамой и казалась совсем маленькой девочкой. Но недавно ей дали отдельную комнату, так называемую для прислуги. Совсем маленькую, возле кухни, в которой помещались только ее никелированная узкая кровать, совсем маленький декадентский письменный столик, за которым она готовила уроки, и еще тахта, покрытая ковром.
Удивительно, как быстро эта комнатка для прислуги стала такой особенной, как быстро она как бы переняла привлекательность своей хозяйки, как бы воплотила всю ее женственность. Здесь уже как-то особенно, еще не по-дамски, но уже по-девичьи пахло духами «Персидская сирень» и еще чем-то нежным, похожим на запах детских волос.
Кроме тетрадок и учебников, аккуратно обернутых в синюю бумагу, на столике стояло семь традиционных фарфоровых слоников мал мала меньше, а на стене висела самодельная гипсовая тарелочка с цветной картинкой, изображающей хорошенькую курносенькую англичанку, прислонившуюся кудрявой головкой к морде породистой лошади с чуткими ноздрями».
На всю жизнь запомнил я молочно-белый абажур настольной керосиновой лампы, сквозь который пламя горелки просвечивало красной коронкой.
До сих пор даже здесь, на фронте, меня преследовали подробности того вечера, когда я впервые сидел в Ганзиной комнате на тахте, а она, не обращая на меня внимания, готовила уроки, переписывая в маленькую специальную тетрадку для слов французские глаголы.
В присутствии Ганзи я всегда немел.
Может быть, в этой комнате она целовалась с Вольдемаром, или со студентом с маленьким ротиком и ватной грудью, или с тем футболистом инсайд-правым…
Еще никогда я так сильно не любил ее.
Теперь во всем этом страшном мире, наполненном дыханием смерти, для меня существовала только она одна: нечто смутное, без определенных линий, размытых временем. Женственно выпуклые веки еще почти детских карих глаз, серая будничная юбка. Маленькие руки и маленькие ноги. Красная шелковая рубашечка с круглым вырезом, открывающим смугловатую шею с родинкой. Все, кроме лица, представлялось определенно, но лицо было неуловимо. Вместо лица плыло облачко: нечто общее, без частностей, смутно отражающее ее взгляд, усмешку. Неразличимое, но такое близкое, даже как бы родственное, отвечающее самым сокровенным движениям моей души.
…в тот смутный, дождливый день меня внезапно назначили орудийным фейерверкером в батарею, где я до сих пор исполнял должность телефониста-наблюдателя.
Батарея стояла на совершенно ровном, гладком, со всех сторон открытом месте, кое-как замаскированном сухими стеблями кукурузы. На позицию стали глубокой ночью, а когда рассвело, то в холодном, дождливом тумане мы увидели потоптанное кукурузное поле и мокрую землю, исковерканную недавним сражением. Откуда-то сбоку потягивало трупным запахом. Это разлагалось чудовищно раздутое тело румынского солдата в каске и синей шинели, лопнувшей по швам. Мы только что собрались предать это мертвое тело земле, чтобы оно не воняло, как был получен приказ «батарея, к бою!».
Тотчас после этого из-за плоского, дождливого, плохо видного горизонта послышался знакомый звук орудийного выстрела, и над нашей батареей пролетел неприятельский снаряд, сделавший порядочный недолет. Батарея ответила двумя патронами беглых, и началась артиллерийская дуэль с невидимым противником, продолжавшаяся до самых ранних октябрьских сумерек.
«18 октября 916 г. Действующая армия. Румынский фронт. Дорогая Миньона! Сегодня произошло ужасное. Наша батарея, расположенная на открытом месте и не имеющая надежных блиндажей, кроме ровиков для орудийной прислуги, весь день вела артиллерийскую дуэль. Что такое артиллерийская дуэль на открытой позиции, Вы, конечно, представляете себе. Объяснять не буду. От неприятельского огня мы прятались в довольно глубокий ровик, наскоро вырытый рядом с зарядным ящиком.
Наши наблюдатели нащупали немецкую батарею, а немцы нащупали нас, и через каждые две-три минуты мы обменивались выстрелами. День был на редкость паршивый, холодный, сырой, туманный, дождливый, и вследствие плохой видимости артиллерийский огонь с обеих сторон был неточный: то сильный перелет, то недолет, то вообще куда-то в сторону. Тем не менее каждую минуту можно было ожидать прямого попадания, и я из предосторожности приказал всем номерам своего орудия, которым командовал, кроме наводчика, укрыться в окопчике.
Сделав очередной выстрел, наводчик тоже прыгал в окопчик, и мы все, прижавшись к земляным стенкам, с тревогой ожидали ответ неприятельской батареи, моля господа бога, чтоб немецкий снаряд пронесло мимо и чтобы он не угодил в наш окопчик.
Недавно в нашу батарею пришло пополнение, и ко мне в орудие попал совсем еще молоденький – последнего призыва, – семнадцатилетний деревенский паренек из-под станции Бобринская по фамилии Терез. Как у всех новобранцев, у него была голова, подстриженная под машинку весьма неряшливо, вследствие чего его нежные, почти совсем детские уши казались особенно заметны. На нем была не по росту большая шинель, еще не разношенные сапоги, и в руках он держал деревенскую торбу со шматком домашнего свиного сала, завернутого в хустку, а также мешочек с пайковым сахаром, который он уже успел получить вместе с восьмушкой махорки и полбуханкой житника.
Мы все были опытные, обстрелянные батарейцы, а он считался у нас еще серым, то есть молодым необстрелянным новичком, а потому на нем еще, как говорится, ездили – наваливали на него самую черную солдатскую работу. Это делалось, конечно, не со зла, а так полагалось по традиции воспитывать новобранца. А вообще к нему относились хорошо и дружелюбно, вроде как к младшему брату или сыну. Он даже нравился нам своей милой деревенской домашностью, еще не испорченной солдатчиной.
Его украинская фамилия Терез давала орудийным острякам повод покаламбурить: Терез, той раз, цей раз и т. д.
Я принял по отношению к нему начальственно-покровительственный тон. До сих пор я был среди солдат самый младший по возрасту, а теперь появился еще более молодой – семнадцатилетний.
Кстати, замечу в скобках, оказывается, на войну уже стали забирать почти мальчиков. Тревожный симптом! По-видимому, война идет к концу.
Этот самый Терез был ласковым, услужливым и очень старательным мальчиком, так что в батарее его полюбили, понимая, что со временем из него выработается справный орудиец. На первых порах его поставили при трехдюймовке, которой я командовал в качестве орудийного фейерверкера, номером третьим, так называемым подающим. Он должен был в бою подавать патроны.
Да… Так на чем я остановился?
Я остановился на том, что наша батарея вела длительную, мучительно нудную артиллерийскую дуэль и неприятельские снаряды с методическими паузами рвались вокруг нас, так что мы были принуждены почти все время сидеть в окопчике, и на огонь противника отвечал, в сущности, один только наводчик, который сам наводил, сам заряжал, сам производил выстрел и сейчас же после выстрела прыгал в окопчик, или, как он назывался, ровик, где мы сидели, как сельди в бочке, и все время дрожали от страха, ожидая, что какой-нибудь шальной немецкий снаряд прямым попаданием влетит к нам – и тогда от нас останется только кровавая каша.
Вы себе представляете, как это ужасно – сидеть в ямке, дрожать и каждую минуту ждать смерти?
Терез вел себя вполне мужественно, хотя его девичьи губы стали сизыми, а тонкая, нежная шея, видневшаяся из-под грубого ворота солдатской шинели, совсем побелела.
Играя роль доброго командира, я похлопал его по плечу и сказал общеизвестное: «Не журись, казак, атаманом будешь», хотя у самого от страха тряслись поджилки.
Мрачный день медленно, но уже заметно клонился к вечеру, но артиллерийская дуэль продолжалась, выматывая нервы. Вдруг после одного нашего очередного выстрела в окопчик вскочил бомбардир-наводчик и сказал, вытирая мокрый от дождя лоб рукавом шинели:
– Шабаш! Все патроны кончились.
– А в зарядном ящике?
– Пусто.
В первый момент у нас, по правде сказать, даже отлегло от сердца: отбой! Но тут же закрякал телефон и голос батарейного командира приказал выслать нескольких солдат за свежим боезапасом, который подвезли из резерва в небольшую лощинку шагов за сто позади батареи. Разгрузить повозку с патронами требовалось как можно быстрее, чтобы неприятельские снаряды не успели побить лошадей.
Лица у моих батарейцев посерели. Бежать сто шагов туда да сто шагов обратно с двумя тяжелыми лотками на плечах, по открытому полю, под огнем неприятельской артиллерии – дело серьезное. Но ничего не поделаешь. Боевой приказ есть боевой приказ. Мне, как орудийному фейерверкеру, следовало организовать доставку патронов и нарядить орудийцев, которые должны по очереди бегать за снарядами.
Я решил показать пример своим подчиненным, первым выскочить из окопчика и принести два лотка, хотя по долгу службы я не должен был этого делать и отлучаться от орудия.
Но мне хотелось показать свою храбрость.
Почему-то в последнюю минуту я раздумал. Не могу объяснить, что со мной случилось. Какой-то злой или добрый дух шепнул мне: остановись! подумай! – острое чувство самосохранения пронзило меня и подсказало, как надо действовать.
– А ну, друзья, кто первый пойдет за снарядами? – сказал я, подражая голосу фельдфебеля Ткаченко, и тут же, не дожидаясь ответа, прибавил: – Пойдет самый молодой, необстрелянный. А ну-ка, Терез, покажи свою храбрость!
Терез сидел совсем по-мальчишески на корточках, прислонясь к сырой стенке окопчика. Он вскочил, засуетился и, став передо мной по стойке «смирно», насколько это позволяла теснота ровика, сказал:
– Слушаюсь, господин орудийный фейерверкер! Вся его фигурка выражала готовность, но в глазах
мелькнуло что-то пронзительно-жалобное. По мокрым земляным ступенькам он выскочил из окопчика, и в тот же миг оглушающий удар разорвавшегося немецкого снаряда потряс почву, и не успели мы как можно теснее прижаться к земле, как сверху головою вниз на нас свалился Терез, покрытый складками разорванной шинели.
Но это уже был не Терез. Это был его труп. Его ноги в сапогах зацепились вверху за край земляных ступеней, так что все тело приобрело наклонное положение, голова оказалась на земле у наших ног, а из маленькой треугольной дырочки над правым глазом текла густая струйка крови, образуя на земляном полу все более и более разрастающуюся лужу.
Половина разбитого орудийного колеса повисла над нами, пробив крышу, сложенную из стеблей кукурузы, по листьям которых шуршал затяжной дождик. Наши глаза были прикованы к обращенному вверх лицу убитого Тереза, постепенно менявшему цвет. Сначала знакомое лицо Тереза еще имело обычный цвет живого человека, даже с нежной розоватостью щек и вокруг закрытых глаз с золотистыми ресницами. Постепенно эта розоватость исчезала, заменялась желтоватостью, а желтоватость стала заливаться синевой, особенно заметной в скульптуре затвердевших ушных раковин.
А вокруг стояла всемирная тишина внезапно прекратившейся артиллерийской дуэли.
Молчала наша батарея. Молчала батарея противника. Молчало наше искалеченное орудие. Только с вкрадчивым шорохом сеялся дождик, как бы незаметно сливаясь с надвигающимися сумерками. Отчего наступило это сводящее с ума молчание? Вероятно, из-за темноты, так или иначе, но бой прекратился, как бы сделав свое черное дело, убив Тереза и тем самым исчерпав себя.
Мы неподвижно стояли тесно друг к другу в окопчике и под угнетающий шелест затяжного дождя не могли оторвать глаз от лица необыкновенно молодого и красивого, как у скульптуры греческого юноши, с которого медленно сходила синева, заменяясь уже ровной, мраморной или, лучше сказать, гипсовой белизной подлинной, глубокой смерти, и маленькие, чудесно изваянные кисти рук высовывались из-под лохмотьев шинели, а оскудевающая струйка густой, уже почти черной крови все текла и текла по белому лбу, и под головой натекла лужа, в которую мы боялись нечаянно ступить сапогом. Одна мысль терзала меня – что на месте мертвого Тереза мог лежать мертвый я, и этого не могло вместить мое воображение.
Потом все было до ужаса обыденно.
Мы бережно, хотя и с каким-то страхом, выбрались из окопчика, вытащили оттуда тело Тереза и положили его возле лафета нашей искалеченной пушки, припавшей, как инвалид, на ось разбитого колеса со своим щитом, изрешеченным осколками. Снаряд попал прямо в зарядный ящик, в котором, к счастью, уже не оставалось патронов, а то бы мы все полетели на воздух.
К зарядному ящику был привязан мой чемодан, от которого остались только клочья, а все то, что находилось в нем, в том числе фотографический аппарат «Кодак», катушки с отснятой пленкой, Ваши письма, тетрадка моих стихов и заметок, не говоря уж о белье и непочатой коробке соленых бисквитов «Капитэн», присланных папой, – все это было сожжено прямым попаданием, превращено в черный пепел, развеяно, рассыпано по мокрому кукурузному полю и затянуто тяжелым, вонючим, черным мелинитовым дымом разорвавшегося снаряда…
Что же было дальше? Дальше все было так обыденно, что стыдно писать. В наступивших сумерках из обоза приехала повозка, куда положили уже заметно похолодевшее, отвердевшее, прямое тело Тереза, покрыли его ободранной, обгоревшей шинелью и увезли в тыл хоронить. Имущество же, находившееся в вещевом мешке на дне окопчика, отправили вместе с телом, с тем чтобы переправить на станцию Бобринская его матери, кроме восьмушки пайкового табака, оставленного орудийной прислуге на курево, и торбочки с пайковым рафинадом, который орудийцы присудили оставить мне как ближайшему по возрасту товарищу убитого. Все знали мою страсть к сладкому.
Вот и все.
Пишу это письмо в румынской хате с опрятно вымазанным глиняным полом, устланным шерстяной ковровой дорожкой, в селе, куда отправили нашу батарею на отдых и для замены разбитого орудия и зарядного ящика.
Погода внезапно резко переменилась. Дождь прошел. Небо расчистилось. Невероятно яркая осенняя луна, маленькая, почти синяя, стояла высоко в небе, и тень от хаты, от ее камышовой крыши, от плетеной клуни, где хранились кукурузные початки, сильно, угловато чернела, как нарисованная углем на голубой земле, а в воздухе уже слышался крепкий октябрьский холодок, так напоминающий о моей погибшей юности, когда я еще не был падшим ангелом.
Простите, не в силах больше писать. Со мною происходит что-то ужасное. Не презирайте меня.
Теперь я вновь – в который раз! – переживал чувство презрения к себе и неискупимой вины перед молоденьким, милым, услужливым солдатиком Терезом, убитым вместо меня треугольным осколком, пробившим в его голове дырочку, из которой – вижу это как сейчас! – вытекала сначала алая, а потом почти черная струйка густой крови, впитываясь в сырую землю окопчика.
После того как тело убитого положили на солому в обозную повозку и увезли хоронить, кто-то из орудийной прислуги принес шанцевый инструмент, то есть хорошую крепкую армейскую лопату с ясеневым черенком, выкопал из земли окопчика сгусток запекшейся крови и вынес его на лопате как бы нечто вроде крупной темно-красной печени.
Теперь уже с трудом складывается картина того далекого прошлого. По-моему, я уже высказал мысль, что хорошая молодая память – фотография, а старая, разрушающаяся – живопись, даже, может быть, кубизм. Впечатления давно минувших лет вытесняют друг друга, создавая странную картину, обширное, даже необъятное живописное полотно, полное движения, в котором трудно разобраться.
Письма, которые некогда мне отдала Миньона незадолго до своей преждевременной смерти от скоротечной чахотки, были аккуратно сложены и даже перенумерованы ее рукой, но среди них одно письмо, последнее, оказалось в пачке раньше чем следовало. Когда оно попало мне в руки, я удивился его слишком поздней дате:
«6 ноября 916 г. Румынский фронт. Действующая армия. Миньона! Это письмо доставит Вам с оказией один наш батареец, едущий в тыл по командировке. Пожалуйста, отнеситесь к нему с полной серьезностью. Я обращаюсь к Вам с просьбой, имеющей для меня огромное значение. Если хотите, это вопрос жизни и смерти. Прошу Вас в самом срочном порядке походатайствовать перед своим отцом, чтобы меня направили в пехотное военное училище для зачисления там меня юнкером. Прием заканчивается 1 декабря, и нужно не опоздать. Не спрашивайте о причинах. Я понимаю, что таким образом я лишаюсь возможности стать артиллерийским офицером и сделаюсь пехотным прапорщиком. Но это мое твердое решение. Если Вы мне действительно друг, то Вы это сделаете для меня. Время не ждет! Ваш
Миньона исполнила мою просьбу: я был отправлен в наш город и в декабре стал уже юнкером военного училища, будущим пехотным прапорщиком, навсегда распростившись с надеждой стать привилегированным артиллерийским офицером. Это, конечно, было для меня унизительно.
Что же тогда со мной произошло? В чем причина?
Причин было несколько, и трудно сказать, какая из них казалась мне тогда главной. Во-первых, конечно, ужас и отвращение, внушенные мне почти годичным пребыванием в действующей армии. Любым способом, хоть на четыре месяца, попасть в тыл, лишь бы на время избежать смерти. Во-вторых, любовь к Ганзе, которая в последние дни измучила мою душу. Вместе с моим возмужанием почти детская любовь превратилась в страсть. Мне уже казалась жизнь немыслимой без нее. А ведь до сих пор я даже ни разу не взял ее за руку и никогда не произнес волшебных слов «я вас люблю». Я вел себя как робкий мальчишка, теперь же я смело посмотрю ей в глаза и, чего бы это мне ни стоило, добьюсь ее взаимности. Во всяком случае, я опять ее увижу. И в-третьих, в чем мне стыдно сознаться, у меня был низменный расчет избегнуть смерти: по всем признакам война скоро должна была кончиться позорным поражением русской армии. На румынском фронте мы терпели поражение за поражением. На западном фронте мы потеряли Варшаву. Наступление Брусилова захлебнулось. Не сегодня завтра сдадим Ригу. В тылу – хаос. Министерская чехарда. Голод. Начинается разруха. Забастовка на Путиловском заводе, снабжающем армию артиллерией. Пахнет революцией. Массовое дезертирство. Таким образом я рассчитывал, что в течение четырех месяцев моего юнкерства и месяца пребывания в запасном пехотном полку война кончится и я буду спасен.
Однако мои расчеты не оправдались. Несмотря на падение самодержавия, война еще не закончилась и пехотных прапорщиков продолжали посылать на убой. Что же касается Ганзи, то в наших отношениях ничего не изменилось, хоть она уже была в полном расцвете своей молодости и красоты, курсистка, невеста, а я, хотя и пехотный офицер-прапорщик Керенского, как тогда говорилось, между нами стояла, как и в юности, странная, прозрачная стена моей молчаливой робости и ее милого равнодушия. Меня отправили все на тот же румынский фронт, где мое бедро пробил маленький треугольный осколочек, так похожий на тот, который некогда убил Тереза. Таким образом, я еще дешево отделался. Октябрьская революция застала меня в госпитале. Пришли немцы. Ганзя вышла замуж за того самого богатого футболиста инсайд-правого, который уже стал кавалерийским корнетом, потом, конечно, они бежали от революции за границу, так же как и отец Миньоны, бросив семью на произвол судьбы, уехал с белыми.
Помню еще короткий и грустный роман с Миньоной,ее горячие руки, кошачьи глаза в осажденном, лишенном света городе, при звуках ночной винтовочной стрельбы, и быстрое охлаждение Миньоны, когда она вдруг меня разлюбила, и я всю ночь просидел на берегу моря на шаланде, перевернутой дном кверху, и «ныло от тоски все существо мое, тоска была подобна черной глыбе, и если бы вы поняли ее, то разлюбить меня, я знаю, не смогли бы».
Ну и так далее, все как в тумане слабеющей памяти, а я продолжал видеть себя среди пространства Добруджи, где обстановка с каждым днем ухудшалась.
…Начали весело, с наступления, дошли почти до Базарджика, как уверяли фантазеры разведчики, потом остановились, а теперь отступали по всему фронту, едва не попав к Макензену в мешок.
Кое-где это уже было похоже на бегство.
Новая батарея, в которой я продолжал проходить все виды солдатской службы, все артиллерийские специальности, моталась с позиции на позицию, не имея возможности где-нибудь прочно закрепиться.
…Прекрасно утрамбованные белые шоссейные дороги и убранные поля, поросшие ежевикой. Холмы, покрытые душистой богородичной травкой и дикой лавандой, такой же синей, как полоска моря, иногда показывающегося на горизонте. Волнистые дали, волшебно приближенные окулярами козлино-рогатой стереотрубы почти вплотную к самым моим глазам, когда я вел с наблюдательного пункта стрельбу по разъездам неприятельского авангарда.
Вести стрельбу значило передавать с наблюдательного пункта по телефону на батарею прицельные данные по обнаруженному противнику.
Тогда я обладал прекрасным молодым зрением (не то что теперь!). Из меня постепенно вырабатывался недурной наблюдатель, умевший толково вести стрельбу не только по неподвижным, занумерованным целям, но и по движущимся. Я научился стрелять с опережением, что считалось высшей степенью искусства артиллерийского наблюдателя.
Я заметил в узком дефиле между двумя пологими холмами дорогу, по которой, вероятно, только что проехала какая-то военная кавалерийская часть неприятеля, так как дорога еще продолжала пылиться. По всей вероятности, это был разъезд венгерских гусар. Я прикинул на глазок дальность, приказал телефонисту, сидевшему у моих ног в окопчике, передать на батарею данные высоты и угломера и попросить сделать пристрелку.
Первый же снаряд (граната) разорвался очень удачно, в том самом месте, где дорога поворачивала за холм. Я передал номер цели и стал ждать. Не могло же быть, чтобы неприятель больше не появился на дороге, минуя то место, которое уже было обозначено мною, передано на батарею и записано в книжке орудийного фейерверкера как цель номер один.
Через недолгое время дорога запылилась, и я увидел в трубу, как из дефиле выехали три кавалериста и остановились, видимо осматривая местность. В стереотрубу ясно просматривались приближенные к моим глазам голубоватые шинели, масти лошадей и даже блестящие стекла бинокля в руках одного всадника.
– По цели номер один прицел сто десять, трубка сто пять, шрапнелью, два патрона беглых! – крикнул я телефонисту, повторившему мою команду в трубку.
Батарея уже давно была готова к бою, так как почти в ту же минуту далеко позади раздалось несколько тюкающих выстрелов наших трехдюймовок и над моей головой прошуршали снаряды. Вероятно, неприятельский разъезд тоже услышал их приближение, так как я увидел в трубу, как они рванулись в стороны, но было уже поздно. Я увидел, как невысоко над ними в тусклом небе разорвалась посланная мною шрапнель, и лошади шарахнулись, подымая облака пыли, а один всадник свалился с седла и остался неподвижно лежать на земле, в то время как остальные скрылись из поля моего зрения за холмом.
В первый миг я пришел в восторг от столь удачного залпа.
Я готов был, не отрывая глаз от окуляров стереотрубы, захлопать в ладоши, но вдруг меня пронзила ужасная мысль, что небольшая и не очень ясно просматривающаяся сквозь дорожную пыль человеческая фигурка с раскинутыми руками, которая неподвижно лежала на земле, есть не что иное, как венгерский гусар, еще миг назад живой, а теперь уже убитый шрапнелью, вызванною мной, наводчиком Пчелкиным.
Я был его убийцей, так же как был косвенно убийцей Тереза и, может быть, еще нескольких живых людей – немцев, австрийцев, мадьяр, – смерти которых я не видел и о которой не думал, так как считалось, что убийство на войне не есть убийство.
Однако совесть сказала мне в тот миг, что убийство есть убийство.
Это привело меня в смятение, которое, однако, скоро прошло, так как явилась хотя и лживая, но спасительная мысль: ведь и меня могли убить и сотни раз убивали, но только неудачно.
Однако тяжелый осадок остался в душе на всю жизнь.
Батарея продолжала кочевать в просторах Добруджи, под давлением Макензена неуклонно приближаясь к Дунаю, к тому месту, где река делает крутой поворот на юг, к Черному морю.
Однажды, оторвавшись от главных сил, туманным утром после бесцельного блуждания по незнакомым местам батарея наша оказалась на вершине холма в полной неизвестности, откуда можно ожидать неприятеля.
Командир батареи, старый подполковник, которому, если бы не война, давно уже следовало выйти в отставку, высокий, сутулый, с унылым длинным носом, опущенным книзу, кусая мокрые усы, прошелся взад-вперед перед своей наскоро разбитой палаткой, посматривая вокруг в бинокль, а затем приказал, чтобы на всякий случай два взвода установили свои орудия по компасу на северо-восток, а один взвод на юго-запад, из чего явствовало, что неприятель может появиться со всех сторон, то есть что наша батарея попала в мешок, в окружение.
Конные разведчики, высланные уяснить обстановку, вернулись ни с чем, если не считать двух ведер зеленой водки, которой они поживились на каком-то румынском ликеро-водочном заводе, разграбленном отступающей матушкой-пехотой.
По оценке батарейных знатоков, в каждом ведре было не менее четырех кварт. Это был полуфабрикат, из которого делали ликер.
Одно ведро поставили посередине нашей палатки, и к нам потянулись с котелками и самодельными кружками представители орудийных расчетов.
До той поры я еще никогда не пил водки. Порядочно охмелевший немолодой, почтенный разведчик, старший фейерверкер и георгиевский кавалер двух степеней, сел на солому рядом со мной и, ласково заглядывая мне в лицо осоловевшими, как бы маринованными глазами, протянул полную кружку. Несмотря на все свое еще совсем детское отвращение к водке, я не посмел отказаться, желая показать себя молодцом перед старшим фейерверкером.
Я взял кружку, приблизил ее к губам и поморщился.
– Господин вольноопределяющийся, прошу вас по-товарищески, не отворачивайтесь. Выпейте вместе с нами. По-солдатски. А то, что она вонючая, румынская, то вы заешьте ее цибулей, и цибуля отобьет весь ее противный запах.
Старший фейерверкер вынул из кармана большую луковицу, разрезал ее пополам складным карманным ножом, отер о свои шаровары и половинку подал мне на своей грубой ладони с черными линиями жизни.
– Мерси, – сказал я, приложился губами к кружке и в несколько судорожных глотков, морщась от отвращения, выпил крепкую жидкость, имеющую вкус и запах полоскания под названием «Одол», которым в детстве меня заставляли полоскать горло, и заел половиной луковицы, распавшейся на моих зубах на несколько едких на вкус хрустящих колец, похожих на цыганские серьги.
Жгучие слезы выступили у меня на глазах.
– Бувайте здоровы и не кашляйте, – сказал старший фейерверкер, показавшийся мне до ужаса похожим на покойного Стародубца. – И когда добьетесь до золотых погон, то не забывайте, как мы с вами выпивали румынскую ханжу и закусывали цибулей. Хотя навряд ли, потому что по всему видать – война кончится. Видите, что делается? Разве это фронт? Это бардак!
Я очень сильно опьянел и все дальнейшее воспринимал в страшном беспорядке, как бы сквозь поток струящейся воды: орудия, повернутые в разные стороны, и командира батареи, на которого полез на карачках в дымину пьяный, озверевший, неизвестно откуда взявшийся обозный ездовой Елкин без пояса, в расстегнутой гимнастерке, в грязных шароварах, ругавшийся по матери и кричавший:
– Куда же ты нас завел, так твою мать, а еще подполковник!
Два пьяных батарейца пытались его оттащить, а он, встав на ноги, лез с кулаками в лицо командиру батареи и продолжал выкрикивать что-то насчет измены и восьмисот десятин земли в Таврической губернии, которой владел подполковник.
– Кровопийца! Помещик! Грабитель!… Подожди, мы еще до вас до всех доберемся, всех вас пожжем! – И так далее.
Несмотря на то что был сильно пьян, я все-таки понимал, что сейчас должно произойти нечто ужасное: нижний чин нанес своему командиру, офицеру, подполковнику, и, что особенно ужасно, в боевой обстановке, на глазах у всей батареи, оскорбление и даже пытался схватить его за погон, но был оттащен товарищами. По всем законам не только военного, но и мирного времени оскорбленный офицер должен был зарубить шашкой или на месте расстрелять из револьвера нижнего чина – оскорбителя. В этом не могло быть сомнения.
Я отрезвел от ужаса и закрыл лицо руками.
Но выстрела не последовало. Старый подполковник верно оценил обстановку. Если бы он выстрелил в своего оскорбителя, то неизвестно, чем бы это кончилось. Вокруг бушевала вольница вышедших из повиновения пьяных солдат. Они были способны растерзать своего командира и перебить офицеров, попрятавшихся в свои палатки.
Старый опытный офицер предпочел сделать вид, будто ничего не произошло. Он с равнодушной улыбкой на побледневшем лице прошел вдоль орудий, осмотрел в бинокль горизонт и скрылся в своей командирской палатке, в то время как перепившиеся батарейцы продолжали шуметь, спивать украинские песни, а кое-кто выражал вольные мысли насчет мерзавца военного министра генерала Сухомлинова, полковника Мясоедова, царицы-немки, продающей вместе с Гришкой Распутиным Россию немецкому кайзеру Вильгельму, а главное, насчет необходимости в самое ближайшее время забрать помещичью землю и честно, по совести поделить ее между крестьянами и замириться с германом, пока еще не перебили друг друга, потому что немецкие солдаты – такие же простые солдаты, крестьяне, как и мы сами.
Правда, эти опасные мысли даже и во хмелю выражались не столь громогласно, а в виде зловещей воркотни и были внушены двумя батарейцами, которые недавно отвозили в Питер на Путиловский завод для ремонта и замены на новые орудийные стволы, отслужившие свой срок.
Из Питера все время были зловещие слухи о назревающей революции.
Один вольноопределяющийся, вернувшись из петроградского госпиталя, где он залечивал осколочное ранение, привез стишок, ходивший по городу, что
«в терновом венце революции грядет шестнадцатый год…» – это воспринималось как пророчество.
Пьяный бунт погас сам собой и не имел последствий, потому что батарея в это время стояла отдельно, неизвестно где, и не имела никакой связи с другими воинскими частями распадающегося фронта. Впрочем, неимоверными усилиями командования отступление приняло более организованный характер. Фронт соединился, и скоро, отдав неприятелю часть Добруджи, наши войска закрепились между городами Меджидие и Констанцей, заняв оборонительную линию по хребту так называемого Траянова вала, где пехота и окопалась.
Траянов вал. Ганзя Траян. Ее имя преследовало меня всюду.
Наши батареи расположились за Траяновым валом, недалеко от передовых пехотных линий.
Макензен двигал свои войска с юго-запада, уже занял Констанцу и теперь всеми своими силами устремился на Траянов вал.
С артиллерийского наблюдательного пункта рядом с пехотными окопами я видел даже простым глазом город Констанцу, синие лиманы, белые домики с черепичными крышами, а за ними полосу Черного моря.
В этих краях когда-то бродил опальный поэт Овидий Назон, и я выучил в гимназии по-латыни несколько стихов из Овидиевых «Метаморфоз», даже перевел их на русский язык:
«Век золотой на земле воцарился сначала. Не было в нем ни судей, ни законов суровых. Смертные люди без них соблюдали во всем благородство, были верны и честны, не боясь наказаний суровых».
О золотом веке пел поэт-изгнанник, наступая старыми, разношенными сандалиями на сизую полынь, растущую по склонам Траянова вала. Но почему в моем воображении рядом с ним шла девочка-подросток, маленькая гордая римлянка-изгнанница? Может быть, она была его дочерью? Но тогда почему же она носила имя Траяна? Она была Ганзя Траян, о которой я не забывал ни на минуту и которая всегда скромно светилась в зените на недостижимой высоте, как еле заметная Полярная звезда – вечная и единственная.
Судьба привела меня наконец к Траянову валу, где я решил умереть, как скиф, отвергнутый римлянкой.
Умереть было просто. Смерть стояла рядом: я исполнял должность второго телефониста при офицере-наблюдателе. Первый телефонист сидел на дне окопчика рядом с телефонным аппаратом и держал связь с батареей. Моя же обязанность заключалась в ответственности за целость телефонного шнура, проложенного прямо по земле от наблюдательного пункта до батареи, всего около версты.
Войска противника могли появиться с минуты на минуту.
Я видел складки пустынной степной местности, поросшей сухими душистыми травами. Можно было подумать, что степь безлюдна. Но полковые разведчики и боевые охранения донесли, что немецкий корпус, развернутый по всему фронту, приближается к Траянову валу. Вдоль нашей отходящей пехотной цепи на горизонте стали медленно вырастать из земли как бы черные ветвистые деревья.
В первую минуту могло показаться, что это мираж. Но когда оттуда долетели звуки рвущихся тяжелых снарядов, то стало ясно, что это немецкая артиллерия бьет по нашей отступающей пехоте, скатывающейся с пологих холмов в длинные складки пересеченной местности. Потом показались неприятельские цепи. Наша батарея открыла огонь, но дистанция оказалась слишком велика и снаряды не долетали.
Тем временем немецкие тяжелые батареи замолчали. Было ясно, что они меняют позиции поближе к нам. Они пользовались складками местности, чтобы передвижение их было скрыто. Однако иногда немецкие серые гаубицы, зарядные ящики с их упряжками ненадолго появлялись и затем исчезали, поспешно скатываясь в балки.
Скоро отступающие цепи нашей пехоты докатились до Траянова вала и быстро окопались на его гребне.
Наступило томительное безмолвие, не обещавшее ничего хорошего.
Потом немецкая артиллерия, как видно уже ставшая на новые позиции, снова открыла огонь по всему фронту, а немецкая пехота полезла на Траянов вал, на наши окопы.
Собственно, окопов не было, а были всего лишь маленькие ямки, наскоро отрытые стрелками – каждым для себя.
И начался бой, продолжавшийся, как мне показалось, несколько дней и ночей. Я находился в полубредовом состоянии, уверенный в своей неизбежной гибели. Эта уверенность не только меня не пугала, а напротив – я её жаждал как избавления, как уничтожения вместе с собой всего того, что терзало мою душу: треугольная дырочка во лбу мертвого Тереза, умирающий Стародубец, вереница телег с почерневшими трупами отравленных тазами солдат под Сморгонью, сгусток крови, смешанной с глиной, на лопате, серая фигурка венгерского гусара с раскинутыми руками посреди пыльной дороги, мучительно приближенная к моим глазам, прильнувшим к окулярам стереотрубы, глупые, назойливые письма Миньоне, неразделенная любовь к Ганзе, вся ничтожность и пошлость моей никому не нужной жизни, опустошенность души, в которую вселился демон всемирного разрушения…
День и ночь слились в одно ожидание смерти.
Десятки раз приходилось мне по долгу службы вылезать из окопчика и ползти вдоль телефонного шнура, для того чтобы найти место, где он перебит осколком или шальной пулей, и соединить оборванные концы.
Пули и осколки срезали вокруг меня головки диких степных растений. Меня закидывало кучами сырой земли, выброшенной снарядами, иногда разрывавшимися рядом. Крупный град шрапнели поднимал вокруг фонтанчики пыли. Но я был точно заколдован. Душа моя жаждала смерти, но тело, повинуясь инстинкту самосохранения, при каждом свисте снаряда изо всех сил прижималось к земле, к ее душистым травам.
В одной руке я держал складной ножик, в другой кружок траурно-черной изоляционной ленты. Я полз по-пластунски, обдирая локти. Обнаружив повреждение, я соединял концы перебитого провода, зачищал их ножиком, связывал друг с другом и обматывал липкой изоляционной лентой. Я весь с ног до головы был испачкан землей, лицо мое было поцарапано колючими растениями, тело ежеминутно содрогалось от животного ужаса, с которым я не мог справиться. Но воинский долг требовал от меня жизни и подвига: я отвечал за надежность телефонной связи между наблюдательным пунктом и батареей.
Я совершал свой так называемый подвиг механически, даже не понимая, что это называется подвигом. Соединив перебитый провод, я, как автомат, полз по-пластунски назад, автоматически сваливался в окопчик, автоматически докладывал офицеру-наблюдателю, что связь восстановлена, автоматически ел борщ с кашей, принесенные связным с батареи, и, неясно понимая, в какое время суток все это происходит, опять выползал наружу, чтобы связать снова перебитый провод.
Когда я в последний раз полз вдоль провода, ища повреждение, то вдруг увидел до глубины души поразившую меня картину бегства пехоты: по обратному склону Траянова вала, бросив свои окопчики, один за другим сползают солдаты. В лощине – раненые, убитые, покалеченные лошади, санитары, носилки. Пехотный прапорщик с искаженным лицом, размахивая револьвером, пытается остановить бегущую пехоту, но солдаты, как бы не замечая его и не слыша страшных его ругательств, бежали в лощину, спасаясь от неприятельского огня, а прапорщик, оглушенный свистом и разрывами снарядов, кричал надорванным, осипшим голосом:
– Подлецы! Сволочи! Что вы делаете? Назад! Или я перестреляю вас, как собак!
Наган-самовзвод дрожал в его руке, но прапорщик не решался стрелять в бегущих, это было бы слишком страшно, да и небезопасно: бегущие держали в руках винтовки и уже были случаи, когда в бою неугодный офицер получал в голову пулю, пущенную своими же солдатами как бы случайно.
Я соединил концы перебитого провода и бросился назад в свой окопчик, где офицер-наблюдатель торопливо складывал штатив стереотрубы. Только что по телефону пришел приказ сматывать провод и возвращаться на батарею, которая уже снималась с позиции.
Лошадь офицера-наблюдателя стояла в лощине. Он вскочил на нее, держа поперек седла штатив со стереотрубой, успел крикнуть:
– Телефонист, на батарею!
И в ту же минуту с размозженной головой свалился с лошади в дикую лаванду.
Я и мой напарник, нагруженные катушками смотанного провода и телефонным аппаратом в кожаном чехле, побежали на батарею. Все пространство вокруг было усеяно бегущими и падающими солдатами.
Задыхаясь, мы вырвались из этого хаоса и увидели свою батарею с орудиями, уже надетыми на передки. Мы прибавили ходу, но так и не успели добежать до батареи. Шестерка испуганных лошадей уже увозила последнее орудие, до которого, казалось, рукой подать. За орудием, подпрыгивая на неровностях почвы, мотались зарядные ящики, со всех сторон облепленные спасающимися батарейцами. Я из последних сил старался догнать уходящую на рысях батарею, крича, чтобы нас не бросали. Но ездовые не слышали наших криков, и батарея скрылась в сумерках осеннего вечера.
Мы продолжали бежать за скрывшейся батареей. Вокруг было удивительно безлюдно. Помню, что мимо нас в темноте проехал кавалерийский разъезд. Он, конечно, мог бы нас подобрать, но у него не было свободных лошадей. Хоть бы одна свободная лошадь на двоих! Но увы! Один из кавалеристов приостановился и успел нам крикнуть:
– Идите в деревню Байрам Десусс!
И разъезд как бы растворился во тьме, только у кого-то из кавалеристов мигнул электрический фонарик.
Мы остались вдвоем, одни, нагруженные двумя тяжелыми катушками, с телефонным проводом и телефонным эриксоновским аппаратом, тоже не легким.
Была ночь. Пустыня. Угрожающее безлюдье между двумя армиями отступающей и наступающей. В этом странном пространстве, где даже не слышалось привычной степной музыки, как бы хрустального хора сверчков, а была только немая музыка звездного неба, шли с юго-запада на северо-восток, ориентируясь по Большой Медведице и Полярной звезде, мы, два отставших солдата разбитой армии.
В памяти моей сохранились лишь кое-какие подробности, хотя общая картина тоже сохранилась и даже имеет название: «Одиннадцать дней между нашими арьергардами и немецкими авангардами».
Многое кажется мне теперь необъяснимым, хотя в действительности существовало вполне реально. Каким образом все-таки мы с Кацем оказались в безлюдной степи всеми брошенные и куда девались наши войска? То, что мы не успели добежать до батареи, понятно: сначала по долгу службы мы должны были намотать на катушки несколько верст телефонного шнура и потом тащить их на себе, перекинув брезентовые лямки железных катушек через плечо, да вдобавок тащить телефонный аппарат, а бросить всю эту тяжесть к чертовой матери не позволяла совесть, а главным образом – воинский долг, предписывающий беречь казенное имущество как зеницу ока и отвечать за его потерю по законам военного времени. Пока мы с этим возились, батарея снялась с позиции, и мы ее уже не догнали, не добежав каких-нибудь двадцати шагов.
Но куда же девалась отступающая пехота со всеми своими ранеными, санитарными повозками, патронными двуколками, обозами и уцелевшими офицерскими лошадьми?
До сих пор не могу понять, куда они девались, бесследно, бесшумно растворившись в ночной темноте? Вернее всего, пехота отступила или, вернее, бежала врассыпную по какому-то другому направлению, оставив своих убитых и раненых среди диких степных трав и растений: римских свечей, медуницы, шалфея, лаванды, богородичной травки, серебристой при звездном свете полыни.
А немцы закрепились на новых позициях, приводили себя в порядок, с тем чтобы на другой день продолжать и развивать свое наступление.
Возможно, даже наверное так это именно и было.
Таким образом, мы, нагруженные казенным имуществом, были в безлюдном, но опасном пространстве приостановившихся военных действий.
Что же наиболее ясно сохранилось в моей памяти? Во-первых, конечно, мой напарник телефонист по фамилии Кац, которого раньше я знал мало, так как меня все время переводили из батареи в батарею, чтобы я, будущий офицер, не успевал особенно сближаться с нижними чинами.
Кац оказался косым на один глаз, не слишком молодым полуинтеллигентом из Витебска, до глубины души уязвленным тем, что он не имел права проходить военную службу вольноопределяющимся, а был простым нижним чином, к которому все кому не лень, не говоря уж о начальстве, обращались на «ты», как говорится, тыкали. Будучи от природы обидчивым и гордым, он именно из гордости не показывал виду, что оскорблен своим положением в батарее. Его забрали в армию в первые же дни войны, так что он пережил знаменитое отступление из Восточной Пруссии, Прёйсиш-Эйлау, Августовский лес, но ничего не выслужил, кроме одной бомбардирской лычки, в то время как я, служивший по сравнению с ним, старым солдатом, как говорится, без году неделю, уже имел две нашивки и скоро буду произведен по протекции в офицеры.
Внутренне он все время кипел, но старался не подавать виду.
По отношению ко мне он принял тон старшего боевого товарища, хотя по званию был младше меня на одну лычку.
Я был единственным человеком, с которым Кац мог позволить себе обращаться как интеллигент с интеллигентом, называя меня «коллега». Обычно коллегами называли себя вольноопределяющиеся и молодые офицеры из студентов. Это штатское обращение между собой как бы выделяло их из среды кадровых военных в особую касту фронтовой интеллигенции.
Хотя и без особого удовольствия, но я принял это обращение и сам называл его коллегой. Коллега Кац. Хотя как ой он был мне коллега, этот болезненно самолюбивый мнительный художник, окончивший какую-то школу живописи. Он успел уже показать мне альбом своих карандашных рисунков, щегольски растушеванных, как и полагалась провинциальному графику.
Впрочем, некоторые рисунки мне даже нравились, особенно виды захолустных улочек витебских окраин, покосившиеся бревенчатые домики с тесовыми крышами, где ютилась еврейская беднота, дощатые заборы, косые столбы керосиновых фонарей, широкие немощеные улицы с лужами, в которых лежат тощие местечковые свиньи. Во всем этом чувствовалось нечто отчасти гоголевское.
В остальном Кац был, что называется, справный солдат, если не считать манеры ходить в расстегнутой шинели с хлястиком, висящим на одной пуговице, и как-то неодобрительно смотреть вбок своим косым глазом с небольшим бельмом, которое не спасло его от набора в армию.
Мы догоняли отступающую, а если говорить правду, бегущую нашу армию: днем где-нибудь прятались, опасаясь – попасть в плен, а ночью шли по дороге в сторону Дуная, ориентируясь по звездам.
Сколько помнится, мы все время ссорились и мирились, как два каторжника, прикованные друг к другу.
Куда же нам было деваться друг от друга? Нас связывал страх попасть в руки разъездов. Солдатский телеграф давно уже передавал, что русским пленным отрезают носы и уши. Хотя это и казалось глупой выдумкой, как и отравленные колодцы, но все-таки… Кто его знает! А вдруг правда?
…Мы ссорились по пустякам, главным образом из-за тог о, кто должен тащить на себе большую часть казенного имущества, состоящего из двух катушек и одного телефонного аппарата. Тащить на себе эту тяжесть было мучительно. Стараясь хоть как-нибудь уравнять между собой проклятый груз, мы пытались разделить три неделимые тяжести
Мы изнемогали от усталости и начинали ненавидеть друг друга. Кроме того, нас мучил голод. Неприкосновенный запас мы съели в первые же сутки и теперь питались чем бог послал: початками кукурузы, валявшимися на дороге, сырой капустой с заброшенных огородов, а иногда, если повезло, тыквами, дозревающими на камышовых крышах пустых, разграбленных деревенских хат.
Тыквы были очень красивы: громадные, голубые, оранжевые, багровые, рубчатые.
Мы нарезали их ломтями и пекли в золе наскоро разложенного костра из кукурузных стеблей, благо у Каца оказался коробок спичек.
Мы шли и шли по плоской земле Добруджи, опустошенной войной.
После первых осенних дождей погода установилась сухая, ясная, теплая, а днем даже жаркая. Настоящая золотая осень. Ночью с черным небом, полным мириад звезд.
В те часы, когда мы переставали ссориться, мы поверяли друг другу свои самые сокровенные мысли, чего бы, конечно, не сделали при других обстоятельствах. Но теперь мы были как бы двумя матросами, потерпевшими кораблекрушение и выброшенными на необитаемый остров.
Я донимал его рассказами о муках неразделенной любви, а он терзал меня рассказами про какого-то витебского художника, его друга, который выставил свои полотна в Париже и прославился на всю Европу, а он, Кац, как дурак остался и теперь должен подставлять себя под немецкие пули и снаряды, и терпеть грубости от невежды фельдфебеля, и бить вшей, и не иметь возможности заниматься станковой живописью и так далее, что было мне совершенно неинтересно, потому что тогда я еще не знал, что такое станковая живопись и кто такой этот витебский художник-счастливчик, прославившийся в Париже на всю Европу. Наверное, такой же мазилка, как и Кац с его кривыми дощатыми витебскими домиками, бородатыми козами, плохо нарисованными безголовыми петухами и летающими рыбами: Кац показывал мне свою заветную тетрадь, которую таскал с собой в вещевом мешке, никогда с ним не расставаясь, даже в бою…
…Небритый подбородок, впалые щеки, поросшие волосами цвета медной проволоки, косящий глаз с бельмом, иронически искривленные губы… Все это производило на меня неприятное, чтобы не сказать отталкивающее, впечатление, но приходилось мириться.
Однажды меня поразила такая картина: на середине дороги стоял обыкновенный венский стул, ужасающе одинокий и совершенно непонятный среди безлюдной равнины, по которой мы наугад пробирались к Дунаю.
Зрелище одинокого стула сначала потрясло. Но когда через две или три версты я увидел так же одиноко стоящую среди пустынной дороги обыкновенную ножную швейную машинку «Зингер», то я понял, что и стул и машинка – это следы бегства местного населения. Об этом же свидетельствовали следы множества колес и лошадиных подков. По этим следам мы и двинулись дальше, обходя брошенные деревни из опасения наткнуться на неприятельский разъезд.
Однажды голод заставил нас завернуть в одну из таких деревень, где, судя по некоторым признакам, недавно останавливалась какая-то отступающая часть.
Мы обнаружили свежие следы костра, сломанную деревянную ложку, портянки, повешенные на плетень и забытые в спешке, а главное, несколько огрызков ржаного хлеба. Мы по-братски поделили между собой засохшие корки и уже собирались их съесть, как вдруг услышали хрюканье, доносившееся из сарайчика, возле которого мы присели.
Свинья!
Живая свинья, ее, видимо, не успели увезти с собой хозяева.
Мы приоткрыли маленькую дверцу сарайчика и увидели в лучах утреннего солнца на соломе громадную тушу чисто вымытой, хорошо ухоженной, жирной и почти розовой свиньи в несколько пудов весом. У нас слюнки потекли! Сколько отличного свиного сала!
Но как поступить со свиньей?
Мы переглянулись.
– Ну? – спросил я.
– Не знаю, – ответил Кац.
– Она слишком большая. Я даже не знаю, как это делается.
– А если ножом?
Мы сели верхом на свинью, навалились на ее тушу и стали делать неумелые попытки зарезать ее своими складными ножиками, предназначенными для зачистки перебитого провода.
…Мы не знали, как убивают свиней. Мы не имели понятия об анатомии этого животного: куда надо колоть, где у свиньи сердце? Слой сала оказался таким толстым, а шкура такой непробиваемой, что складными ножиками ничего нельзя было сделать. Ножики только царапали кожу, покрытую жесткой щетиной, не причиняя животному ни малейшей боли, может быть, всего лишь слегка щекотали.
Свинья сварливо хрюкала, пытаясь сбросить с себя навалившихся солдат.
Измучившись и не добившись никакого результата, мы с Кацем выбрались на свежий воздух из вонючего закутка, на жаркое полуденное солнце, в лучах которого все вокруг блестело желтым соломенным и кукурузным блеском, ослеплявшим глаза.
– Что будем делать?
– Надо ее просто застрелить.
Наган был только у меня. Я вынул его из кобуры и дал Кацу как более опытному солдату. Кац открыл дверцу свиного закутка, прицелился кривым глазом и выстрелил в белеющую во мраке тушу. Свинья дернулась и взвизгнула, но была живехонька. Видимо, пуля либо застряла сале, либо скользнула по толстой коже, оставив лишь рубец.
Свинья захрюкала и сделала попытку выбраться из своего закутка и убежать.
– Держи ее! – крикнул я.
– Сами держите! – огрызнулся Кац, отдавая мне наган. – Эту жирную сволочь даже пуля не берет.
– Что же будем делать?
– Не знаю.
– А я знаю! – закричал я, чувствуя, что в меня опять вселился дух разрушения и убийства. – Надо ей выстрелить в ухо!
Пока Кац сидел верхом на свинье, стараясь, чтобы она не дрыгалась, я как бы в состоянии лунатизма отвернул тяжелое волосатое свиное ухо на розовой подкладке и обнаружил ушное отверстие, темную дырочку, ведущую в тайные глубины и закоулки еще живого организма свиньи, вдруг внимательно посмотревшей на меня снизу вверх маленьким глазком с бесцветно-белыми ресничками альбиноса.
Я взвел курок, сунул ствол нагана в таинственное отверстие свиного уха, отвернулся и нажал гашетку, с ног до головы вздрогнув от выстрела.
Из живой свинья вдруг превратилась в мертвую, и это превращение так поразило нас, меня и Каца, что мы вышли из свиного закутка на яркое солнце, с трудом привыкая к мысли, что совершилось убийство.
Теперь следовало вырезать из свиньи кусок мяса или сала. Мы стали кромсать свиную тушу своими складными ножиками, но до мяса так и не добрались. Даже шкуру с трудом пропороли. Вырезали толстый брусок сала, а до мяса оказалось еще очень далеко. Мы сварили сало в ведре с водой, поставленном на костер из кукурузных стеблей. Хотя нам ужасно хотелось поскорее съесть сало, но все же мы подождали, пока оно как следует сварится в мутном кипятке, и только после этого вынули горячий шматок из ведра.
Вареное сало сделалось почти прозрачным, чуть розоватым и даже на вид таким желанным, что мы набросились на него с жадностью. Сало оказалось необыкновенно, сказочно нежным и вкусным, но у нас не имелось соли, а без соли оно было слишком пресным. Противно пресным.
Мы обшарили хату и не нашли соли. Мы бы, как говорится, отдали полцарства за щепотку соли. Увы! Пришлось есть теплое пресное сало, заедая его сухими корками ржаного хлеба.
…еще через день или два воздух немного посвежел, потянуло пресной речной сыростью, и среди волнистой равнины мы увидели степной колодец, похожий на мельничный жернов, положенный в степную траву к ногам старого, высохшего от зноя пастуха с черным лицом и высоким библейским посохом в руке. Пастух вместе со своим небольшим стадом овец на фоне выжженной степи напоминал библейскую гравюру Густава Дорэ. Не хватало лишь Ревекки, едущей на верблюде.
На этом наше совместное одиннадцатидневное блуждание завершилось, так как мы увидели вдалеке хвост отступающей и уже переходящей через Дунай армии и повозки беженцев, напоминающие цыганский табор.
Тут мы с облегчением расстались друг с другом, так как меня вместе с двумя катушками телефонного шнура посадил рядом с собой на козлы походной кухни знакомый еще по первой батарее повар, а Кац с телефонным аппаратом через плечо пристал к группе телефонистов.
Переехав Дунай по зыбкому понтонному мосту, заливаемому серой осенней водой, я очутился на другом берегу, в румынском городе Бриалове, где, как я узнал, недавно разместился штаб нашей бригады. И вот уже я, худой и грязный, входил в кабинет особняка, занятого генерал-майором Заря-Заряницким, с еще никогда не виденным мною шикарным – в стиле модерн – письменным столом, покрытым стеклянной доской, отражавшей не военный, а городской телефонный аппарат и бронзовый письменный прибор из числа тех, какие, вероятно, бывают на столах министров или преуспевающих адвокатов.
Так как генерал был маленького роста, то его круглая, коротко остриженная серебряная головка совсем ненамного возвышалась над зеркальным пространством письменного стола.
Еле держась на ногах от усталости, недоедания и душевного.потрясения пережитым, все то, что я видел теперь вокруг себя, представлялось мне как бы во сне, особенно лицо генерала, похожее на лицо Миньоны, только более грубое, а за генеральскими погонами – венецианское окно, обрамляющее уже когда-то виденный мною пейзаж: серебристые ветлы, разросшиеся по берегу Дуная, струи которого лишь кое-где просвечивали сквозь их серебристо-зеленые купы, похожие на цветную капусту и делающие всю эту призрачную картину как бы вытканной на старом французском гобелене.
Знакомый бригадный адъютант подхватил меня под локти и отвел по лестничке куда-то наверх, может быть даже на чердак, где имелась дежурная комната с раскладной офицерской койкой-многоножкой, куда я и свалился, пораженный сном внезапным, как смерть.
Кажется, мне все-таки что-то снилось, чего я потом никак не мог вспомнить, хотя и знал, что это было сновидение о притаившемся на чердаке убийце, и вместе с тем что-то грустно-любовное, связанное с незримым присутствием Ганзи, еще более недостижимой, чем всегда, и все же обнадеживающе улыбающейся улыбкой Миньоны.
Меня разбудил денщик, принесший в судках офицерский обед: суп с перловой крупой, две плоские котлеты с макаронами и на сладкое сваренный на крахмале клюквенный кисель, такой густой, что его порция представляла из себя лиловатый кубик, положенный на тарелку.
Я съел все это в одну минуту без остатка, после чего денщик дал мне умыться и сказал, что его превосходительство ждет меня у себя в кабинете.
– Там, у их превосходительства, целый военно-полевой суд, чи шо! – добавил денщик, сочувственно посмотрев на меня.
«Неужели меня будут судить за утрату казенного имущества в боевой обстановке и бегство с фронта? – холодея, подумал я. – Но ведь я оставил надоевшие мне проклятые телефонные катушки на козлах походной кухни, а кучер обещал доставить их в батарею. Не пропали же они. Найдутся. А вдруг не найдутся?»
Я вошел в кабинет командира бригады и стал по стойке «смирно», чувствуя себя обреченным…
«Румынский фронт. Действующая армия, 916 год, 30 октября. Дорогая Миньона! Пишу Вам это письмо в человеческих условиях, в канцелярии дивизиона, куда я наконец после многих приключений во время отступления нашей армии добрался из города Браилова, где я виделся с Вашим папой в реквизированном шикарном особняке. Ваш папа принял меня весьма любезно, накормил офицерским обедом и вообще обошелся со мной, я бы даже позволил себе выразиться, по-родственному – не примите это за попытку с моей стороны втереться в Вашу семью.
Вы себе не можете представить, что я пережил за последнее время. Если нам еще суждено когда-нибудь свидеться, то я все расскажу Вам. А сейчас написать обо всем нет ни сил, ни времени.
Вы, наверное, уже читали в газетах о нашем отступлении из Южной Добруджи. Мы оставили Констанцу и закрепились на Траяновом валу, где продержались всего каких-то двое-трое суток.
Недавно в Браилове в кабинете Вашего папы целый ареопаг бригадного и даже корпусного начальства допрашивал меня как единственного, последнего свидетеля обо всех подробностях позорного бегства нашей пехоты с позиций Траянова вала.
Я доложил всю правду, и меня с миром отпустили, поблагодарив за службу. А я-то думал, что меня будут судить.
Теперь мне надо добраться до своей батареи, которая, оказывается, за Дунаем не отошла, а стоит на позиции где-то возле развалин древнего античного города Истрии.
На прощание Ваш папа дал мне взаймы синенькую бумажку, с тем чтобы я сходил в баню, побрился, постригся и вообще привел себя в христианский вид, благо Браилов хоть и румынский город, но вполне европейский.
Когда я уже откланялся, Ваш папа вернул меня и строго сказал:
– Но имейте в виду, что я дал вам эту пятерку взаймы, и вы не забудьте ее вернуть. Денежки счет любят.
– Слушаюсь, ваше превосходительство, – сказал я и отправился, но, конечно, не в баню, а прямо в кондитерскую, расписанную внутри по стенам масляными красками разными пейзажами, жанрами, натюрмортами и мифологическими существами, как-то: русалками, наядами, нимфами и прочими полуобнаженными фигурами, некоторые даже чешуйчатые и с хвостами. Тут я так наелся пирожных и надулся шоколада, выпив его четыре чашки, что, пошатываясь, выбрался из города и перешел по плашкоутному мосту обратно в Добруджу.
Но Вы не верьте моему шутовскому тону. Мне не только что не весело, мне – ужасно! В душе у меня мрак. Пожалейте меня, если можете. Я чувствую себя убийцей, которому нет прощения. Ваш
…По дороге в свою батарею я спал в чистенькой румынской хате, занятой под бригадную канцелярию. Я спал прямо на хорошо вымазанном глиняном полу, укрывшись шинелью и подсунув под голову рукава этой же самой шинели, спал так крепко, что не слышал, как утром пришли писаря и начали свои занятия. Меня даже не разбудил стук «ундервуда», на котором печатался приказ по бригаде о том, что телефонному младшему фейерверкеру Пчелкину и бомбардиру Кацу объявляется благодарность командования за мужество, проявленное в бою при обороне Траянова вала.
Кроме этой благодарности, отдельно, на другом «ундервуде», печаталось посылаемое в штаб корпуса представление младшего фейерверкера, вольноопределяющегося первого разряда Пчелкина Александра Сергеевича к награждению знаком военного ордена четвертой степени и бомбардира Каца Исаака Яковлевича медалью четвертой степени того же военного ордена, а это значило, что меня представляют к солдатскому Георгию четвертой степени, а Каца к Георгиевской медали.
Кто-то открыл входную дверь, и прямоугольник жгучего солнечного света южной осени упал на мое лицо, и я проснулся, еще не вполне понимая, где я нахожусь. Близко от своей головы я увидел дубовые ножки канцелярского стола, под которым, оказывается, я спал. Я увидел хорошо начищенные сапоги писаря, услышал стук «ундервудов» и только тогда сообразил, что нахожусь в бригадной полевой канцелярии.
– А вин соби спит и не чуе, шо ему дают Георгиевский крест, – произнес надо мной голос одного из писарей.
Затем тот же голос стал диктовать так называемое описание подвига, входившее составной частью в форму представления к Георгиевскому кресту.
«…за то, что, – выстукивал «ундервуд», – в течение двух суток, находясь в расположении пехотных окопов, осуществлял телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, причем неоднократно под ураганным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника выходил из окопа на открытое место и соединял перебитый телефонный провод, чем обеспечивал бесперебойную связь с батареей, ведущей огонь по наступающим цепям противника» – и т. д.
Сначала я даже не понял, что все это имеет какое-то отношение ко мне, но вдруг сознание мое прояснилось: да, это именно я под ураганным огнем, с землей, попавшей за шиворот и набившейся в рот, соединял концы перебитого провода. Да, только благодаря мне батарея могла без перерыва вести огонь, да, это я сохранил казенное имущество, не только не думая о Георгиевском кресте и о славе, а, напротив, всей своей измученной душой желая избавления от ужасов того, в чем я волей или неволей участвовал…
Теперь же в один миг все это было забыто и одно только] волшебное чувство воинской славы владело мною.
Я поднялся с пола, вылез из-под стола, подобрал шинель и почувствовал себя совсем другим человеком – героем и молодцом, которого теперь очень скоро произведут, в прапорщики, выдадут подъемные и обмундировочные деньги, рублей, пожалуй, полтораста, и я сразу стану стройным, щеголеватым артиллерийским офицером с солдатским Георгиевским крестиком на груди, причем я не буду носить защитного цвета полевую фуражку, а непременно надену артиллерийскую фуражку мирного времени с черным бархатным околышем.
Разыскивая свою батарею, я шел по исковерканным войной дорогам Южной Добруджи и мурлыкал про себя известную артиллерийскую песенку с такими куплетами:
«Артиллеристом я рожден, в семье бригадной я родился, огнем шрапнельным окрещен и черным бархатом повился…»
И еще:
«Не по-гражданскому – в карете, не по-пехотному – пешком, к венцу поеду на лафете с моей любимою вдвоем».
Чем ближе я подходил к батарее, тем явственнее слышались звуки ни на минуту не затухающего боя. Среди гула артиллерийской канонады я улавливал какие-то новые, грозные ноты.
Вероятно, как я теперь понимаю, это были звуки тех самых новейших немецких снарядов, окрещенных крякалками, о прибытии которых на фронт уже давно извещал солдатский телеграф.
Крякалки являлись тяжелыми снарядами двойного действия – как шрапнель и как граната. Сначала в воздухе разрывалась шрапнель, а потом на земле разрывалась граната, поражая осколками тех, кого не задели шрапнельные пули. Снаряды эти были начинены какой-то совершенно новой взрывчаткой страшной убойной силы.
Наша батарея вела отчаянный огонь. На нее наступала немецкая пехота, и уже ее цепи приблизились настолько, что батарея отбивалась прямой наводкой на картечь.
Я сразу попал в этот ад.
До сих пор мне еще никогда не приходилось быть на батарее, атакованной с фронта неприятельской пехотой, приблизившейся на расстояние картечного выстрела.
Положение было отчаянное.
Груды стреляных гильз валялись под ногами. Наводчики уже не пользовались оптическими приборами, а, открыв затвор, целились по неприятельским цепям прямо на глаз, заглядывая в орудийный ствол как в подзорную трубу, и стреляли по видимой цели, не снимая с головок снарядов оловянных колпачков, так как головки уже заранее были поставлены на букву «К», то есть на картечь.
Немецкие пули как бы ударами хлыстов рассекали воздух, пролетая между нашими орудиями, со звоном ударяя в стальные щиты и отскакивая рикошетом вдоль батарейной линейки. Несколько убитых батарейцев лежали в самых немыслимых позах возле лафетов и зарядных ящиков. Один повис на орудийном колесе.
Поручик Вишневский, которого я до сих пор знал как тихого, скромного, чрезвычайно вежливого офицера, славившегося на всю бригаду своим детским личиком и маленьким росточком, без фуражки, с головой, кое-как перевязанной окровавленным бинтом, размахивая обнаженной шашкой с анненским темляком клюквенного цвета, весь покрытый кровью и пылью, в разорванной шинели, как одержимый бегал вдоль орудий, крича:
– Три патрона беглых! Картечью!
Заметив, что во втором орудии ранен наводчик, я, никому не докладываясь и ни у кого не спрашивая – да и кого там было спрашивать, кому докладывать, к кому являться? – заступил за наводчика, распахнул черно-вороненый затвор с алюминиевой рукояткой на пружине, заглянул в ствол, увидел в маленьком ярком кружке часть шоссейной дороги и бегущих немецких солдат с винтовками наперевес.
Вспоминая этот день, я так и не мог восстановить в памяти всю картину в целом.
…помню только, как с яростью загонял в казенную часть трехдюймовки унитарные патроны, покрытые слоем орудийного сала, клацал затвором, дергал за короткую цепочку, обшитую кожей, после чего снопы огня один за другим вылетали из дула и снаряды тут же рвались с воем, хлеща картечью по цепям немцев, полезших на нашу батарею в своих черепаховидных касках.
Но как все теперь переменилось в моей душе!
В бою за Траянов вал я искал смерти как искупления перед человечеством. Теперь же я испытывал такой жгучий страх, мною владела такая отчаянная жажда жизни, что если и не бежал сломя голову с батареи, то лишь потому, что позади было открытое пространство, где меня могла догнать любая вражеская пуля, любой осколок, прострочить меня поперек туловища любая пулеметная очередь, косившая вокруг сухой бурьян и желатиновые цветы бессмертника, а прижавшись к орудийному стальному щиту, было все-таки меньше шансов погибнуть от осколка или пули.
…помните, меня особенно ужасали разрывы крякалок: сначала в небе как бы из ничего возникало плотное облачко зловеще-черного цвета, из которого косо выкручивался как бы еще более черный и зловещий винт, раздавался крякающий разрыв шрапнели, и следом за ним из земли вырастал второй винтообразный клок мелинитового взрыва, и рваные осколки гранаты протягивались во все стороны со струнным звуком разбитой на куски арфы…
Плохо помню, чем этот кошмар кончился. Последнее, что осталось в памяти, это поручик Витинский, стреляющий из своего офицерского нагана-самовзвода в ту сторону, откуда вдруг выползли немецкие каски и тесаки, а потом на батарею подоспели передки, подцепили орудия, и я успел вскочить на ствол увозимой пушки, чувствуя сквозь шинель и шаровары жжение раскаленного железа.
Армия отступила и заняла новые позиции. Наша батарея оказалась в резерве.
…я лежал в палатке разведчиков и не мог заснуть: мучили черные мысли. Ночь была ужасно холодная, темная, ветреная, дождливая. Полотно палатки трещало и надувалось.
Тот единственный человеческий страх, даже ужас, который я обычно испытывал в бою, тотчас же проходил, как только опасность исчезала. Оставалась лишь слабая тень страха, смутное воспоминание о прошедшем ужасе, странная уверенность, что больше ничего подобного уже никогда не повторится.
Теперь же, хотя я находился в резерве, то есть в безопасности, страх не только не проходил, но даже еще больше усилился.
Это был не столько страх физического уничтожения, страх телесной смерти, а и страх смерти души.
Я вдруг увидел себя, всю свою жизнь как бы издалека во всех подробностях и ужаснулся.
Я выбрался из палатки как был в одной короткой рубашке на голом теле, босой, весь покрытый гусиной кожей от пронзительного холода наступающего ноября.
Моя белая фигура, выбежавшая из палатки, не удивила часового: стало быть, кому-то из землячков посреди ночи захотелось до ветру.
Ступая босыми ногами по мокрой холодной земле, я подошел к воде лимана, плоско светившегося среди непроглядной тьмы.
Когда-то, в незапамятные времена, здесь был не то греческий, не то римский город Истрия, ушедший в землю, и до войны здесь производились раскопки. Кое-где белели выкопанные куски мраморных колонн. Может быть, издали меня можно было принять за движущуюся беломраморную статую.
Ветер трепал мою рубашку и резал тело, помертвевшее от холода. Озноб бил меня. Зубы стучали. Я дошел до кромки лимана и вступил в мелкую воду, доставшую мне до колен. Я остановился и повернулся грудью к северу, откуда дул ледяной ветер. Я развязал на горле тесемки бязевой рубахи, чтобы еще шире открыть шею и верхнюю часть груди, где болтался крестильный крестик. Я задрал рубаху до подмышек, желая еще надежнее оголить тело, и без того уже горевшее от ножевых ударов дождя и норд-оста.
Я стоял спиной к лиману, который, я это знал, где-то очень далеко сливался с морем, тем самым упоительным Черным морем, заливом Средиземного, как уверял энциклопедический словарь, морем моего детства, морем Люстдорфа и Ланжерона, морем любви, так глупо, если не сказать преступно, проданного мною за чечевичную похлебку воображаемой воинской славы, Георгиевского креста, черного бархата офицерской артиллерийской фуражки и Миньоны – хорошенькой девушки с несколько грубоватыми чертами отцовского лица, с которой я предполагал не по-гражданскому – в карете, не по-пехотному – пешком, к венцу поехать на лафете зеленой трехдюймовки с масляным компрессором, оптическим прицельным прибором-панорамой и щитом, избитым пулями и осколками.
Теряя сознание от сжимавшего мое тело холода, испытывая удушье от северного ветра, бившего в нарочно разинутый рот и проникавшего в бронхи, еще не оправившиеся от фосгена, с упрямым злорадством неподвижно стоял я до колено в едкой рапной воде, прижимая подбородком вздернутую рубаху.
Что это было?
Покушение на самоубийство? Меньше всего я желал смерти. Наоборот. Это была отчаянная, наивно-детская попытка избежать смерти. Никогда еще жажда жизни, любви и счастья так безумно не владела моей душой. Это был род мгновенного умопомешательства и хитрости сумасшедшего, составившего невероятный план спасения: двустороннее воспаление легких, госпиталь, эвакуация в тыл, начало чахотки, освобождение от военной службы по чистой, а там – скорый и неизбежный конец войны и возвращение в тот прелестный, казалось бы, навсегда утраченный мир юности, который я так безрассудно променял на войну.
Миньона была войной. Ганзя юностью, любовью, жизнью.
Из антихриста и убийцы я хотел опять превратиться в того гимназиста, который некогда на лестнице смотрел на тяжелые золотисто-каштановые косы, раскрутившиеся и упавшие волной из-под меховой шапочки, источающей еле слышный запах диких фиалок.
Содрогаясь всем телом, с трудом дыша, продолжал я упрямо стоять на одном месте по колено в воде и видеть во тьме ночи призрак уже оголенного дерева, согнутого в одну сторону вихрем.
В том утраченном мире, куда меня несло вместе с мотающимися ветками призрачного дерева, на обоях висели гипсовые тарелочки с лошадиными мордами и головками хорошеньких англичанок, изделие самой Ганзи.
Ее любили все. Она еще никого.
Призрак дерева метался на ветру. Издалека доносились раскаты артиллерийской стрельбы. За горизонтом ходили зеркальные отражения боя.
Раздирающийся кашель потрясал меня. Я чувствовал, что голова моя горит.
Прилив любви принес мне как бы остатки кораблекрушения.
…Серая будничная юбка. Маленькие, но уже не детские кисти рук с наполированными ноготками. Красная шелковая рубашечка с вырезанным воротом, открывавшим шею с родинкой. Но вместо лица как бы тающее облачко, что-то общее. Без частностей. Недоступное для глаза, но такое родственное моей душе. Я никогда – ни тогда, ни потом – не мог представить себе ее лицо. Оно всегда было неуловимо.
Я повернулся спиной к ветру, для того чтобы еще надежнее прохватило легкие. Почти в бессознательном состоянии я дотащился до палатки и упал на солому, втиснувшись между двумя спящими разведчиками, и положил голову на свернутые в узел гимнастерку, шаровары и сапоги. У меня едва достало сил натянуть на свое дрожащее и пылающее тело шинель и тут же заснуть мертвым сном, и я проснулся совершенно здоровым и свежим, как огурчик.
Меня тряс за плечо взводный фейерверкер: – Господин вольноопределяющийся, подъем! Батарея уходит на позиции.
Утреннее солнцу, такое красное, такое воспаленное, какое бывает только холодной поздней осенью, бодро озаряло окрестности, пережившие ужасную ночь.
На фронте, куда уходила наша батарея, зловеще гремело.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |