"Дым над избой" - читать интересную книгу автора (Астафьев Виктор Петрович)
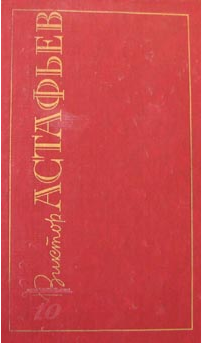 |
Виктор Петрович Астафьев Дым над избой
Глушь вокруг. Угнетающая и тяжкая еще и оттого, что места, по которым мы ехали, были совсем не глухие, пространственные были места, низкие, болотистые, с пятнышками задичавших полей, окаймленных еловыми перелесками, далее, по-за речкой, переходящими уже в боровые леса, у берегов забитые густым разнолесьем и непролазной чащей — волчатником, калиной, черноталом и смородинником.
Боры, отчеркнутые белесым небом, недоступно темнели вдали, вознося над собой знамением или предостерегающим криком головные, самые высокие дерева; толпящиеся у реки и возле родников-кипунов кусты и чапыжник вяло желтели еще кое-где, но шум листопада уже кончился, шумело уж больше понизу, не поверху, и в песчаных омутках кипунов и речек распластывался лист, расклеенный по дну, а по закрайкам логушек, где меньше было течение, колючками в одну сторону лежала рыжая хвоя, и по ней искрами стреляли яркие водяные жучки и козявки.
Стояла та уже беспредельная тишь глубокой осени, от которой и сердце человеческое тоже стихает, думается о чем-нибудь вечном, несуетном и хочется ехать, ехать, ехать или идти, идти, идти и услышать уже явственно тот печальный и одинокий голос, который зовет тебя, зовет, но не услышишь его, не настигнешь, потому что голос этот внутри тебя самого, потому что голос этот есть грусть твоей души, ее сладкая печаль и тоска о прекрасном, которое и тебе и всем людям, жившим до тебя, кажется утаившейся в этих безгласных, в самих в себе спрятавшихся лесах, в этой угасающей осени.
Что ты все ждешь, человек, что все путаешься, путаешься и никак не найдешь себя? Или без этой вечной тоски, без этой скорби ты и человеком не был бы? Может, и воистину были у тебя когда-то крылья, и ты каждую осень птицею улетал в неведомые нам, сказочные края, и память, передавшаяся нам и растворившаяся в крови, тревожит и зовет нас, зовет все в те же сроки, в те же нам недоступные земли и, не умея достичь их, мы ищем чудесную беззимнюю землю с кисельными берегами и молочными реками в наших лесах, в наших селах и полях?..
Но сказки нету, даже той маленькой сказки, которая породила нас и истомила душу мечтой о неведомом, не стало.
Второй день мы с товарищами едем на оседланных лошадях по кинутой земле, по зарастающим дорогам, по улицам уснувших деревень. Мы едем к отставному полковнику, который остался где-то в пустой деревушке Осередышек и переселяться не хочет. Не подчиняется. Военный человек, хотя и отставной, но полковник и не подчиняется!..
— Дурак! — сказал о нем зампредрика Валентин Афанасьевич Мутовкин, а еще мой фронтовой товарищ, пригласивший меня в этот северный болотный край поесть клюквы и «закусить» настоящим пивом, если брюхо солдатское не сдало, то и новым сортом вина «самогнали». Этому вот Вальке Мутовкину, моему товарищу, обремененному крупной районной должностью, и поручено было съездить к отставному полковнику и провести с ним «индивидуальную работу». Валька повез меня сначала на газике, потом мы ехали на подводе, теперь вот верхом, и я приучал себя к мысли, что одиннадцатого, то есть пешеходного номера нам не миновать.
— Дурак! Сивый дурак!.. — сколько уж раз за дорогу повторил Валька, и я не удержался, рассказал ему о том, что в нашем городе по пристани ходит летом мальчик в беретке, больной мальчик, он гудит пароходам и подбирает на перроне мусор. Как-то девица туристического вида, в оранжевых штанах и темных очках бросила на настил бумажку, мальчик поднял ее, отнес в урну и сказал; «Нехорошо! Тетенька-уборщица старенькая, больная, а вы мусорите!»…
— «Гы-ы, дурак, дурак!» — стала тыкать в него пальцем девица, и все вокруг засмеялись.
— Ты это обо мне? — круто повернулся Валя Мутовкин, и под носом у него побледнело.
— Нет, — сказал я, — мальчик тот не идет у меня из головы, а думаю я, о чем мне и полагается думать, — о нашей литературе…
— Святому — святое, дураку — дураковое… — почему-то все же обиделся Валька, но больше полковника худыми словами не тревожил.
Идти пешком нам не пришлось.
Проехав заречные леса, сначала пестролес и ельники, уже схватившие намертво дороги и тропы, затем спокойный, всегда прибранный сосновый бор с обнажившимися белыми песками на выдувах и вешних водомоинах, мы как-то разом оказались подле плоского, круглого озера, за которым прямо на берегу стояла старая серая церковь с журавлиной шеей, вознесенной в небо, и клювом трогающая облака. Тень церкви вся как есть покоилась в воде и даже не шевелилась, но в воде церковь была белая-белая, и пустые врата, окна, искрошенные на щебенку приделы были заполнены водою, и церковь казалась новой, только что побеленной и ухоженной. Наяву же храм был весь издолблен, обрушен, и на него со всех уже сторон наступали кустарники, забрались они уже и на крыши, с пологого склона россыпно, западая в кустах, крались темные фигурки ельников, чтобы окружить и штурмом взять эту уже ничем не защищенную крепость старины и затем уже несдержанной, смешанной толпой броситься к озеру и остановиться возле него.
Я представил себе и храм этот, и озеро в глухой непролазной тайге, внутренне содрогнулся, как содрогались, наверное, индейцы, наткнувшись в диких джунглях на храмы, дворцы и города, в которых когда-то жили люди, а теперь обитали дикие духи, нечисть всякая, змеи, обезьяны, но я тут же и усмехнулся внутренне своей оторопи, своему страху — ведь, если уж мы не боялись ни богов, ни чертей, то те, кто наткнутся на храм сей в глухолесье, вовсе бояться чего-либо перестанут, может, и нечего уж бояться будет, все может быть.
Берега озера, грязные от склизких водорослей, были размешаны лосиной ископытью, усеяны чаячьим пером, но на воде птиц уже не виделось, и лишь вверху неприкаянно и молча кружился лохматый ястреб, но не по-летнему плавно кружился, а, то и дело потряхивая крылами, грелся, видно, или сырь с пера сбрасывал.
За церковью на пологом бугре сгрудилась деревушка. Три ее дома стояли лицом к озеру и не загорожены были палисадником, другие дома, с примкнувшими к ним дворами, стояли то боком к озеру, то и вовсе отвернувшись от него, и едва виднелись крышами за бугром. Не сразу, но все же я уразумел, отчего так разбежисто и окнами в разные стороны срублены дома, — по обеим оконечностям бора, огибавшего озеро, вдруг обнаружились деревушки, и далее виднелись или уже угадывались по проплешинам полей, чертежам изгородей, либо приподнявшимися над домами тополям и стареньким деревянным часовням еще и еще деревушки, и я догадался, что сельпо, так разбродно вроде бы поставленное, и есть Осередышек — ему так и полагалось стоящему в середине смотреть во все стороны, и, догадавшись, я начал отыскивать жилой дом и тут же нашел его глазами, это был один из трех домов, повернутых лицом к озеру, в нем расколочены окна, свежевыкрашены наличники и мезонин, крыльцо и даже кружевной деревянный бордюрчик на стрехе и вокруг мезонина, главное, над избою струился дымок, спокойный, сероватый дымок с темными прочерками, какие бывают от смоляных сосновых дров.
Кони наши, удовлетворенно отфыркнувшись, пошли веселее, и вскоре, обогнув озеро, оказались мы в устье ручья тихого и светлого, заплетенного тальником и забитого кореньями по берегам. Из чуть подрагивающего устья ручья, почти из-под самых копыт лошадей вдруг метнулась щучища с полено величиной, выбросила сама себя на песок, чисто белеющий по ту сторону омутка, лошади шарахнулись было, но когда щука скатила самое себя в воду и рванула в озеро, чертя хвостом острую линию, вырвавшись на простор, сдуру и перепугу сиганула дельфином, бахнулась об воду, как об железо, и утопилась, переполошив рыбью мелочь, вдруг засуетившуюся кругом, запрыгавшую, лошади, дрогнув кожей, ступили в студеную воду, тронули ее губами, но пить не стали, а быстро перенесли нас на другую сторону и скоро пошли в косогорчик, звякая копытами о каменья, чем выше, тем чаще попадавшиеся.
Какое сиротливое запустение открылось нашему взгляду!
Мне и прежде доводилось видеть брошенное жилье, чаще всего отработавшиеся поселки лесозаготовителей, геологов или приискателей. Какой разгром они учиняли перед тем, как уйти навсегда из согревшего их приюта. Как будто по заданию окна во всех домах побиты, печи разворочены, на стенах прощальная матерщина, чаще всего в стишках, дворы и улицы завалены стольким хламьем, железом и всякой рухлядью, ровно люди, покидавшие селенье, где они тоже любили, страдали, растили детей, вдруг вывернули наиэнаку все свое дрянное, тухлое нутро, в котором ничего другого и нету — ни сердца, ни кишок, никакой живой плоти, никаких таких органов, которыми любят, чувствуют и страдают.
Временные жители временного жилья, временных работ, временных любовных связей, временных обязанностей, они иначе и не могут себя вести на земле. Они, как сказал один столичный поэт, любящий красивую фразу, красивых девочек, еду и ничего больше: «дети неба, случайно задержавшиеся тут».
Вот жители сельца Осередышек «детьми неба» не были и случайно тут не задерживались. Они землею были рождены, на земле жили, землею кормились, землю любили, а теперь вот покинули ее, но не с улюлюканьем и матерщиной, а с тоскою и болью в сердце.
Сколько веков простоял этот Осередышек на русском холме, средь русских полей и лесов, глядючи на все стороны света? Век? Два? Пять? Этого никто не ведает и никто уж ведать не будет. На окраине села, возле упавших ворот поскотины, приколоченная к столбу одним гвоздем брякает железка, простреленная дробью, и на ней мутно, сквозь ржавчину проступают буквы «едышек», изначальное название села уже смыто, изоржавлено, — вот все, что осталось на воротах, а по-за столбиком, за упавшей поскотиной, смертно утихли старые черные дома и бани на огородах, сплошь уже почти завалившиеся. Так уж и быть должно — сырые бани преют скорее, чем избы. Но и избы в Осередышке провалились, со дворов, на которые, конечно же, лес подбирался не такой стойкий, как на избу, да и достраивались дворы, бывало, не одним поколением крестьян, так что уж конец постройки приходился в ином хозяйстве в аккурат к тому, чтобы начинать подпирать кое-где строение.
Бурьян, бурьян по дворам, черемухи на улицу полезли, в огороды. Окна все позаколочены, дворы тоже. Кое-где висят свежесмазанные замки, значит, эти дома, эти дворы посещались летом городскими людьми, может, и самими хозяевами. Есть среди запертых изб уже обвалившиеся и заросшие крапивой, лопухом и жабреем. С коротким деловитым трюканъем по ним перелетали щеглы. Эти избы, где гнезда лишь остались, перевезены в другие села, «в центры» усадеб, как их зовут ныне, и об этих сердце не болит.
Среди Осередышка, на развесистой старой березе сидел черныш-косач и токовал азартно, как весной. Валентин дернулся было рукой к ружью, но застопорил — пусть поет бродяга, в мешке у нас уже покоился глухарь и с десяток рябчиков.
Улицы Осередышка все в травке-муравке, машинная колея едва угадывалась в ней, да чуть приметная тропинка вела от озера к избе, будто бы наперекор всему весело выкрашенной, к избе, над которой чуть уже шевелился иссякающий дымок.
Мы привязали лошадей к ограде, сделанной из круглого, по весне окоренного и оттого костяно-белого осинника, размяли ноги и постучали в дверь сеней. Никто нам не ответил… Тогда мы прошли узкими и старыми сенями к двери, обитой потником, и еще постучали, но снова не дождались ответа. Валентин потянул дверь на себя. Отсыревшая, ока открылась без скрипа, и мы увидели прямо перед собой прогорающую уже, дышащую кучей красных углей русскую печь, с откинутой с чела за веревочку занавеской, пузырящийся чугунок на шестке, под пузырями притесненные, жаром облизанные потрескались картошки.
Влево была дверь в комнату, и в комнате той спиною к двери сидел за столом человек в наброшенной на плечи телогрейке, над которой одуванчиком круглилась и дрожала голова, сильно стучал чем-то по столу и, прибегая к крутым выражениям, на кого-то заедался:
— Дупели-и, дупели-и, говорю!
Отставной полковник играл в домино!
Он лишь на мгновение прервался и, не оборачиваясь, бегло бросил:
— Проходите, проходите, товарищи! Я сейчас партию закончу и приму вас. — Мы, разом оробев, прошли к скамейке и опустились на нее.
Валентин огляделся и покачал головой.
Отставной полковник Опарин когда-то был всего лишь Ванькой Опариным, уроженцем деревни Осередышек, долгое время полагавшим, что деревня его называется этак потому, что середь земли, является пупом ее и все, что по-за нею, никакого значения иметь не может, да и нет там зa Чивицким озером и за речкой Чивицей никакой такой жизни, все леса да болота.
Каково же было удивление Ваньки Опарина и всей деревенской ребятни, когда однажды на трех подводах переправились через речку Чивицу совершенно неведомые люди со скарбом на телегах, обутые в сапоги и ботинки, одетые в платья, рубахи и пиджаки.
Они, эти люди, расколотили окна в доме выселенного кулака Опарина (никакой связи с родней Ваньки не имевшего, просто в Осередышке фамилия такая преобладала), втащили туда скарб и затопили печку. В скарбе обнаружилось трое ребятишек — двое парнишек и одна девчонка, долгоногая, черненькая и головастая, как муравей. Мужчина-дяденька был один, женщин приехало двое, и чьи это ребятишки — разобрать сразу было невозможно.
Все объяснилось назавтра же, когда на доме Опарина-кулака появились две вывески, написанные чернильным карандашом на обрезках доски, с одного угла объявлявшие, что это школа первой ступени, с другого, что это фельдшерский пункт. И поселились приезжие соответственно — учитель с учительницей и двумя парнишками в одной половине, фельдшерица с девочкой в другой, оставив, впрочем, свободною опаринскую горницу, в которой на полу лежало множество замерзших и уже рассыпающихся от тлена тараканов, да старый круглый стол стоял кедрового дерева с вынутыми столешницами, крашенный темной краской, и на нем гладко струганный камень. Стол тот остался, потому что не пролазил в двери и унести его трудящие не смогли, признав, что Опарин был человек башковитый шибко, — вот внес же стол в избу как-то, а вынести без него невозможно, надо бы письмо высланному Опарину написать и выспросить, как стол из избы вынести, да никто того адреса не знал; камень же, и прежде озадачивавший селян своей бесполезностью, оставлен был после того, как откололи от него кусок и в середке ничего не обнаружили, никакого секрету; еще тут клочья обоев облезающих, как старая шкура змеи с потускневшими узорами и пятнами; черепки битой посуды хрустели под ногами, и по-за голландкой-печкой чернела старая мышиная дыра, да на стене висела картина с голозадыми ангелочками, куда-то под небо уносящими человека в женских одеждах и скорбно глядящими голубыми глазами. Зады ангелочков были протыканы гвоздем в надлежащем месте а кое-что подрисовано им такое, что учитель, открыв горницу, покачал головой и скорее выдрал ту картонную картину из дубовой рамки, густо опятнанной клопиным пометом на углах, и в рамку ту впоследствии вставил портрет поэта Радищева.
Ванька Опарин все это помнил оттого, что вместе с другими ребятами мобилизован был очищать и прибирать кулацкий дом. Помнится, тогда он еще нашел серебряный рубль, ребром закатившийся в щель половиц, и выковырял его оттуда ногтем.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |