"Виктор Васнецов" - читать интересную книгу автора (Бахревский Владислав Анатольевич)
ГЛАВА ШЕСТАЯ КИЕВ
Он вошел к Праховым с веселым Пушкиным на устах:
– А молодицы, молодушки! – подхватила Эмилия Львовна, закатывая глаза. – Ей-ей, не жаль отдать души за взгляд красотки чернобривой.
И так поглядела на Прахова, что тот торопливо принялся протирать очки: видно, опять провинился великий ценитель прекрасного.
– Рад! Рад! – говорил он, обнимая и целуя Васнецова. – Если смертельно не устал, то можем тотчас в собор пойти.
– Ах, как заторопился! Может, все-таки хоть чаем угостим человека. Как-никак с дороги.
– Эмилия Львовна, я, правду сказать, в нетерпении. Хотелось бы поглядеть.
– Наглядишься, еще и опротивит сто раз. Впрочем, ступайте! Я похлопочу об обеде. Чтоб уж потом не мыкались.
– От большой сцены меня спас, – признался Прахов, выходя из дому. – Теперь пронесет. А собор тебе, Виктор Михайлович, достался превосходнейший!
Васнецов молчал, ждал встречи. Ах, вот он! Небольшой. И такой серый. Новый, совсем новый, а уже заурядный. Сердце дрогнуло болезненным неприятием, совершаемой ошибкой.
Собор был открыт: артель подсобников грунтовала стены. Свет резко белый, чистый.
– Свинцовые белила? – спросил Васнецов.
– В два слоя. Инженерная то ли мысль, то ли придурь. Я им говорю: белила у вас будут держаться, а масляная краска потрескается. Но они уперлись: свинцовые белила – самый прочный краситель… Да ты на храм-то погляди.
– Вижу, Адриан, – кивнул Васнецов. – Вижу. Здесь целый мир поместится.
Собор внутри был огромным.
– Весь центральный неф твой, – Прахов повел руками над головою. – И запрестольная апсида твоя, купол, потолки, столпы. Образа главного иконостаса и обоих пределов: жертвенника, диаконника. Виктор, где ты такой холст достанешь? Где у тебя столько зрителей будет? И каких благодарных! Тебя увидит наконец народ, тот самый народ, о котором столько речений, да мало попечений… Я надеюсь, ты не обольщаешься успехом на выставках. На выставки у нас ходят не столько смотреть, сколько осуждать. Друг перед дружкой умничают.
– Так ведь главные умники ваш брат – искусствоведы.
– То-то и оно – наш брат, ваш брат. А здесь будут Иваны, Марьи, Лукерьи… Ты погляди, что тебе предлагают: это же вечные стены. Вечную народную благодарность, само бессмертье предлагают тебе, Виктор Михайлович.
– Адриан, ты зарапортовался. Художнику нельзя заказывать бессмертье. Возьмется он за бессмертье, а выйдет у него – кукиш. Обязательно – кукиш! Художники, Адриан, народ туповатый. Тут надо проще: вот тебе стенка – и малюй.
– Виктор! Вот тебе все эти стены! Тут уже сама громада труда – подвиг. Думаю, этого отрицать невозможно. По-двиг!
– Не уговаривай, – улыбнулся Васнецов. – Сколько времени на эскизы?
– К осени должны быть. Но! – Прахов взял Васнецова под руку. – Ты непременно съездишь в Европу. Тебе полезно будет посмотреть лучшие византийские храмы. А начать подготовку можно уже сегодня, в Софии.
И они тотчас отправились в Софийский собор. Золотое небо. Лицо Богоматери, отстраненное, схематичное.
– Можно ли этот образ любить? – спросил Васнецов себя и Прахова.
– Византия, – ответил Адриан. – В Византии базилевс как бог, а бог подобен базилевсу.
– Но Богоматерь – это любовь! Я хочу, чтоб мою Богоматерь любили. Ведь она заступница.
– Италия многому тебя и научит, и многое подскажет.
Стоял, как громом пораженный, – тишина. Откуда в тесной Европе – неимоверная, нереальная тишина? Надавливал на каблуки, ступал по тесаным камням Сан-Марко. Ему казалось, что земля покачивается: Ве-не-ци-я. Это про нее сказочка: город, раз в сто лет являющийся из морских пучин. Вошел в храм Святого Марка.
Темное древнее золото струило со сводов берущий за сердце, ни словом, ни красками не передаваемый свет, свет-шепот, задушевный, но воистину величественный, то был последний свет Византии, свет, переживший империю почти на полтысячи лет.
Васнецов догадался, ласковость золотого мерцания – от малоприметных окошек. Они, словно старички, смотрели на пришельца, переговариваясь о нем между собой.
Мы ведь и волнения свои планируем заранее, подхлестываем себя. И вдруг оказалось, что те эмоции, которые он заготовил еще в Москве, – неправда. Ожидал громад, подавленности, а очутился в милом, заснувшем королевстве.
По мостику Вздохов прошел во Дворец Дожей. Сказка об уснувшем королевстве продолжалась. Роскошь внутренних покоев ветшала, но Тинторетто оставался Тинторетто. А вот с набережной дворец привел в восторг. Это было творение истинно детского ума, причудливое, но ничем не покоробившее вкуса. Причудливое, оказывается, тоже бывает совершенством.
Четыре дня пробыл Васнецов в Венеции. Уезжал ночью.
Гондола пыряла под освещенными и под темными мостами. Навстречу двигались нарядные, а то и великолепные гондолы. Не хватало серенады, но и она явилась. Чудный серебряный, светящийся голос разлился, как лунный свет, над черной водой, над зубцами башенок, над нереальным, тысячу лет нереальным, но живым городом.
Потом была Равенна, дремотная от древности и скуки. Живыми и даже грозными здесь были только древнейшие христианские мозаики.
Из Равенны во Флоренцию, стало быть, к Микеланджело. Вот он, Давид, одолевший Голиафа. Кажется, пусти кровь по его венам – оживет. Да только в мраморе он куда нужнее людям, чем во плоти. Неоконченные торсы. Гробница Медичей.
Могучее сказание атланта искусства.
На Флоренцию ушло три дня. Побродил по церквам. Осмотрел галерею. Посетил монастырь, где жил Фра Беато Анжелико. И – в Рим.
Здесь неприятно поразила архитектурная неразбериха. Город уступал и Венеции, и Флоренции цельностью. Это была свалка эпох. Всемирно известные чудеса ютились по закоулкам. Там одни развалины, здесь другие, а посредине чудовище – Колизей. Кошатник. Но живопись – пир на весь мир.
Вот письмо Васнецова, написанное им Елене Праховой через семь лет после поездки в Италию. Письмо стоит того, чтобы процитировать его как можно полно.
«Мы с Вами сходимся, что Вам нравится в Италии более, то и мне нравится более всего. Венеция, прекрасная, заснувшая, старый Святой Марк меня глубоко трогали. А Дворец Дожей, а старые дворцы на каналах, а площадь св. Марка и эта тишина без извозчичьего шума и гама, а море с средневековыми гондолами, а Тициан, а Веронезе!.. И все это прошло и миновало и стало художественной сказкой. А меркантильные жадные людишки забудут эти сказки и все разворуют и распродадут по старьевщикам. Видели ли Микеланджело во Флоренции? Видели ли в Ватикане станцы Рафаэля? Капеллу Сикстинскую – потолки, „Страшный суд“ Микеланджело? Л что такое „Страшный суд“ Микеланджело? А вот что: старая, потрескавшаяся стена, заплесневелая синими и красноватыми пятнами. Смотрите на эти пятна, они начинают оживать… Какие массы людей мятутся в ужасе, отчаянии и страхе! Все голы, как мать родила, перед вечной мировой правдой. Даже апостолы, даже мученики и те в смятении, они не знают, они страшатся его суда! Его, как лица, нет в картине, но есть принцип, есть один жест всей фигуры, страшный жест отвержения. Видите фигуру на облаке, схватившую себя в отчаянье за голову? Он уже на пути в ад кромешный. Он всю жизнь обманывал бога, он думал, что все сойдет, но, увы, все стало ясно, и совесть жжет, как огонь! Сколько разнообразия и в то же время единства во всей композиции – можно, пожалуй, сказать, что все чересчур массивно и громоздко, но эта массивность – признак страшной силы. Мороз подирает, когда войдешь во всю глубину мысли картины. Эта заплесневевшая стена – величайшая поэма форм, величайшая симфония на тему о вечной правде божией – вот что такое „Страшный суд“ Микеланджело. Описывать его, впрочем, нельзя, его нужно смотреть, смотреть и непременно понять. Всмотритесь также и в Рафаэля – не верьте нашим милым ругателям „глухашам“ (прозвище братьев Сведомских, Александра и Павла. – В. Б.). Благородная гармония, красота, сила в композициях, красота в формах, позах, лицах и красках. От картин Рафаэля веет возвышенной гармонией, сравнить которую можно с настроением от музыки. Мне всегда хочется сравнить его с Моцартом, а Микеланджело – с Бетховеном. Вам понравились также старые мозаики – это меня очень радует. Храм Петра велик, но холоден и официален. Есть, впрочем, в нем одна вещь – это богоматерь с умершим Христом на руках („Pieta“) Микеланджело».
За семь лет впечатления от встречи с атлантами Возрождения нисколько не сгладились, не подзабылись, скорее, наоборот, приобрели отчетливость, высветлив в сокровищнице самое драгоценное. Так умеют смотреть и помнить увиденное – художники.
Вернувшись в Абрамцево, Виктор Михайлович написал Прахову нетерпеливое письмо. Предстоящая работа уже занялась в нем, как огонь в костре. Жаловался на усталость – впечатления действительно утомляют – и требовал работы. Работа художника высвобождает его из-под груза художественных задумок. Задумка – нечто неосязаемое, но кто изведал, знает, сколько они весят, задумки, какое это обречение – носить в себе громады замыслов. Разом-то не выплеснешь. Освобождение из сладостного плена идет годами, десятилетиями. Замысел – молния, сотворение – сизифов труд. Творец не ведает конца работе. Его работа обрывается только на краю могилы.
«Дорогой Адриан Викторович, я с 28 мая живу в Абрамцеве, – писал Васнецов в Киев. – Пропутешествовал я ровно месяц. Видел Венецию, Равенну, Флоренцию, Рим и Неаполь. В Палермо мне не удалось съездить – я страшно устал… Ради бога, Адриан Викторович, закажите, хоть на мой счет, чертежи с точными размерами всех деталей алтаря и купола и пришлите в Абрамцево. Кроме того, Адриан Викторович, поторопитесь выслать мне хоть краткую программу пророков и святителей, хоть перечень лиц – это необходимо мне для композиции. Без основных композиций я в Киев не явлюсь. Теперь, Адриан Викторович, к Вам самая усиленная просьба моя: не тащите меня в Киев до августа или до половины хоть июля».
Пока дело до большой работы не дошло, Виктор Михайлович сочинял, дополняя и прихорашивая, свои прежние рисунки костюмов и эскизы к декорациям «Снегурочки».
– К чему стремимся? – приговаривал сам себе. – Больше праздника! Больше праздника!
Частная опера Мамонтова родилась на энтузиазме и, пережив полосу отрицания и недоверия: «купеческая затея, Савва с жиру бесится», – выстояла и пустила зеленые побеги жизни.
В 1882 году была отменена государственная монополия на зрелища. Домашние спектакли и громкий успех этих спектаклей дали Мамонтову надежду проявить себя в любимом деле: в режиссуре Савва Иванович начал с девиза: «Жизнь коротка, искусство вечно». Этот девиз был помещен на афишах, программах, на занавесе и даже на канцелярских бланках.
В оркестр пригласили сорок человек, в хор – пятьдесят. Подготовка спектаклей началась в конце 1884 года. Решено было поставить «Русалку», «Фауста», «Виндзорских проказниц».
В. П. Россихина в книге «Оперный театр С. Мамонтова» сообщает: «Работать приходилось в разных помещениях: режиссерские занятия проводились на полутемной сцене театра Корша; для работы с концертмейстерами сияли дом на Никитском бульваре; репетиции с оркестром… устраивались в помещении Манежа на Пречистенке.
Бесконечные репетиции, по словам Салиной (солистка частной оперы. – В. Б.), представлялись всем какой-то чудесной увлекательной забавой, радостной игрой в товарищеском кружке, хотя они проходили утром, днем, а то и в ночные часы. Всех воодушевляла энергия Мамонтова. Когда певцы уставали, в репетиционное помещение вкатывались столы с огромным самоваром и пирогами. Либо по знаку Саввы Ивановича концертмейстер начинал играть польку, Мамонтов подхватывал первую попавшуюся даму, за ним устремлялись все остальные, и усталости как не бывало».
9 января 1885 года был дан первый спектакль Частной оперы. Даргомыжский, «Русалка». Наташу пела Салина, князя – Ершов, Бедлевич – Мельника. Эскизы исполнил Васнецов, правда, к самим декорациям он уже не касался. Это дело передали молодым. Подводное царство, например, написал Левитан. Большинство костюмов создала Елена Дмитриевна Поленова. Мельника Васнецов не отдал, но в самый последний миг его чуть было не подправили. Бедлевичу хотелось выглядеть «прилично». Он упросил костюмера заменить лохмотья и парик. Мамонтов увидал артиста перед самым выходом.
– Половой! – ахнул Савва Иванович. – Трактирный половой!
Прибежал Васнецов. На Бедлевиче – Мельнике костюм тотчас изорвали в клочья, парик выбросили, шевелюру привели в ужасающий беспорядок и посыпали мукою. Наводя последний лоск на костюм, актера повалили, проволокли по полу коридора и вытолкнули на сцепу пред очи князя.
Один вид Мельника вызвал овацию, восхититься, видимо, было отчего.
Сохранились воспоминания самого Виктора Михайловича об этом спектакле. «Досталось тогда милой Надежде Васильевне Салиной (в некоторых монографиях пишут ошибочно „Савиной“. – В. Б.), – говорил Васнецов биографу. – Волосы ее собственные, прекрасные тоже надо было не пожалеть, растрепать по-нашему, и каждая складка на платье Русалки должна лежать так, как нам нужно, водяные цветы, травы должны опять ложиться и сидеть по нашему капризу, купавки в волосах должны быть вот тут и не в ином месте… Русалок тоже пришлось разместить и рассаживать по сцене самим. И, вправду сказать, Подводное царство вышло не худо. Русалка своим дивным пением произвела восторг. Слава Русалке! Слава Савве Ивановичу! Да, пожалуй, спасибо и нам, работникам!»
«Русалку» приняли, а «Фауст» не понравился. И, видимо, прежде всего правдой характеров. Маргарита у Мамонтова была тоненьким подростком. Где ей до пышногрудых Маргарит Большого театра, в декольте и драгоценностях? Мефистофель оказался отнюдь не чертом, а франтом с Тверского бульвара.
Публика спектакль осмеяла, а на «Виндзорских проказниц» вообще не пошла, ни одного билета не продали.
И вот к осеннему сезону приготовлялась «Снегурочка». Представление состоялось 8 октября 1885 года.
Неврев писал Васнецову в Киев: «22 октября 14 человек передвижников были угощаемы добрым С. И. Мамонтовым представлением „Снегурочки“. Все были в восторге от постановки пьесы благодаря твоим рисункам».
Виктор Михайлович Васнецов спектаклей «Снегурочки» не видел, в те дни он уже стоял на лесах Владимирского собора.
23 июня (!) Васнецов писал Прахову: «Алтарь почти весь уже скомпонован, и задержка только за Вашей программой. Купол у меня уже готов, кроме рая… Я теперь горячо работаю, и нужно, чтобы жар не остывал… В Киеве не мог бы спокойно заняться композициями, а в Абрамцеве я совершенно спокойно займусь, ничто не мешает моему настроению».
А вот письмо от 14 июля: «Согласен выписать краски из Германии от фирмы „Мевес“… Работаю, слава богу, усердно. В Киев привезу основы всех композиций…»
Седок удобно расположился в пролетке и, улыбаясь, разглядывал очень высокие облака, похожие на овечью отару. Багаж – несколько преогромных папок и саквояж. Извозчик, скашивая глаза на седока, терпеливо ждал приказания. Но седок совершенно никуда не торопился.
– Тебе хорошо – стоять, – пожаловался извозчик лошади. – А нам за постой платы нет, нам за езду платят.
Седок назидательную беседу услышал и нисколько не обиделся.
– Тепло! – сказал он с удовольствием. – Люблю теплую осень.
– Трогать, что ли?
– Трогай.
– А далеко ли?
– Вот этого я как раз тебе и не могу сказать, – засмеялся седок. – Владимирский собор знаешь? Новый, только что построенный?
– Хе! Новый! Я дитем был, когда его начали ставить. Строители-то нынче – одно жулье!
– Всякие бывают. Честные тоже. Вези меня, братец, в такое место, где квартиры сдают. Чтоб и от центра было недалеко, и от собора тоже.
– Можно на Большую Владимирскую, возля Золотых Ворот. Там меблированные комнаты госпожи Ильинской.
– Вот и слава богу! Вези к Ильинской. Как там у нее насчет клопов?
– Не живал, потому как рылом не вышел. У Ильинской чисто. Господам комнаты сдает.
– Ну что ж, – сказал седок. – Стало быть, Киев.
– Киев, Киев, – закивал головою извозчик. Васнецов комнату снял светлую и просторную. Поменял сорочку, причесал перед зеркалом бороду, достал из саквояжа новехонький синий парусиновый халат, взял длинный мунштабель, пачку кистей, палитру. И с корабля – на работу.
С Праховым сошлись у дверей собора.
– Виктор?!
– Адриан!
– Когда ты приехал?
– Только что.
– И сразу быка за рога?
– Что же откладывать? Сегодня начну, назавтра меньше останется. Убудет.
– Убудет?! – захохотал Прахов. На голоса вышли двое в блузах.
– Знакомьтесь, – представил Прахов. – Господин Васнецов Виктор Михайлович, а это – господа Сведомские. Александр Александрович, Павел Александрович.
Руки жали дружески, а поглядывали внимательно.
У каждого своя стена, но работа бок о бок.
Братья Сведомские были погодками, старший, Александр, Васнецову был ровесником.
Разговор затеялся чересчур громкий, чересчур беззаботный. Все понимали, что это маленькая бравада, скрывающая страх, страх перед многотрудной работой.
Зашли в собор, постояли, глядя на громаду белого центрального корабля, потихоньку разошлись, деликатно оставив Васнецова наедине с мыслями. А тот и не думал впадать в высшую задумчивость.
– Начну-ка я с малого потолка, разомнусь на травках! – окликнул он Прахова.
– Ну, что ж! – согласился Адриан Викторович. – С травок, так с травок.
Малый потолок был узкой полосой в алтаре, отделяющей или скорее соединяющей четырехугольник главного корабля с полукруглой абсидой.
Рука не дрогнула, когда первая изумрудная полоса легла на белую стену. Но тотчас дух перехватило, застонали жилки на висках. Сунул кисть в мунштабель, перекрестился. Так перед пахотой крестьяне осеняют себя крестным знамением. Пошел кистью махать, покуда спина не заломила. А спина заломила уже минут через двадцать. Сошел с лесов. Поглядел на работу: пятнышко, как от воробья. Стоял, озираясь.
«Господи, да возможно ли такую махину разрисовать? Ничего, брат, ничего. Конечно, это не холсты пачкать, не досточки резать! – почему-то было очень весело. Какое же легкомысленное существо – человек. Сказали – распиши храм, тотчас и глаза вытаращил: чего не расписать – распишу».
– Вот и распиши! Распиши!
Забежал на леса. Ухватился за кисти, как утопающий за соломину.
Ему казалось, что со стороны он похож на пианиста, играющего бравурную музыку – кисти у него так и летали в руках: зеленая земля, умбра, охра, зелень, перманент.
«Нет, – сказал он себе уже через полчаса, – нет».
Это значило – не пианист он и рисование – не игра на рояле… Работа пошла спокойная, медлительная, и оттого быстрая. Быстрая, потому что было видно – дело делается. Вспомнилась кисть-метла, которой декорации мазал.
Ничего-то нет случайного! Вся прежняя жизнь вдруг показалась ему сознательной старательной подготовкой к сегодняшнему дню. Даже странники, рассказавшие о райских птицах Алконост и Сирин. Ведь вот он, рай, начинается под его кистью.
Поглядел на сияющую белизной абсиду. Здесь будет Богородица с младенцем. На золотом небе. А по краю, с обеих сторон, размахнут крылья предвестники Богородицыного благословения – серафимы.
Сердце замерло от красоты, которая уже существовала в мире! Правда, пока что только в сердце его.
– Виктор Михайлович!
Он посмотрел вниз: Сведомские.
– Пора на обед! Эмилия Львовна опоздания не терпит.
Пробка хлопнула о потолок и упала на тарелку Васнецова.
– Это знак! – ахнула Эмилия Львовна.
– Пробка знает именинника! – засмеялся Адриан Викторович. – С почином тебя, Виктор Михайлович!
Выпили бокалы стоя, серьезно. Обед был праздничный, люди все милые. Улыбки не сходили с лица.
– Васнецов, – спросила Эмилия Львовна, – а ты знаешь, благодаря чему ты здесь?
– Благодарю кому – знаю.
– Не кому, а чему?
Виктор Михайлович развел руками.
– Благодарю чуду, миленький Васнецов.
– Чуду?!
– Верно! Верно! – сиял очками Прахов. – У нас, брат, даже документ на чудо имеется.
– Эта история – держите меня! – воскликнула Эмилия Львовна. – Адриан прилетел из Питера на крыльях – государь одобрил проект: расписать собор в русском духе. По сему высокому случаю было шампанское.
Завтрак был среди своих, а во главе стола восседал милейший «вечно второй».
– Это Баумгартен, – подсказал Прахов. – Наш вице-губернатор. Поедешь делать визиты, познакомишься. Впрочем, я сам тебя с ним познакомлю.
– Итак, шампанского было очень много, – продолжала Эмилия Львовна, – и в конце концов они остались вдвоем: Александр Павлович и Адриан. Тут нашего профессора и осенило немедленно ехать в собор.
– Знаешь, Васнецов! – глаза у Прахова заблестели. – Я действительно увидел в абсиде линию. Намек на образ.
– Адриан кричит Баумгартену: видишь? А тот солдафон: «Нет!» – говорит. – «Так гляди!» И, видно, Адриан в такое пришел вдохновение, что и бедный Александр Павлович прозрел.
– Но я действительно! – сияя глазами, говорил Прахов. – Я – действительно!
– И вот, чтоб никто не усомнился, Адриан зарисовал «видение». А так как Александр Павлович был уже назначен председателем комитета по завершению собора, то тут же был составлен протокол, который профессор и вице-губернатор скрепили своими высокими подписями.
– Но мы самого главного не сказали! – воскликнула Эмилия Львовна. – Богоматерь, привидевшаяся Адриану, была копией с абрамцевской иконы.
– А я чуть было своею волей не отказался от Владимирского собора, – покачал головой Васнецов. – Слава богу, в ту же ночь и опомнился. На станцию телеграмму давать прибежал мокрый как мышь.
– Никуда бы ты от нас не делся, – сказал Прахов.
Из столовой прошли в кабинет. Здесь стояла огромная тахта и еще был диван. Павел Александрович снял ботинки и улегся.
– Присоединяйтесь! – предложил Васнецову. – Мы каждый день так.
– Прикорнуть после обеда – это хорошо, – сознался Виктор Михайлович.
Он лег на диван, вытянулся, чувствуя в теле воловью усталость.
– Будто камни таскал.
– На лесах нужна привычка, – откликнулся Александр Александрович.
И больше Виктор Михайлович ничего не слышал. Проснулся – тихо. Однако светло. Приподнял голову: на тахте Павел Александрович. Улыбнулся Васнецову.
– Мы, видимо, одновременно проснулись.
– А где ваш брат?
– В соборе.
Виктор Михайлович снова опустил голову на подушку.
– Совершенно разбитый.
– Ничего, втянетесь.
– Я приметил, у вас очень хороший рисунок. Где вы учились?
– В Дюссельдорфе, у Гебгарта, у Мункачи. Ну и в Риме, конечно. Я сказал – Рим, а вы, наверное, тотчас представили себе Рафаэля.
– Я представил себе Микеланджело, Сикстинскую капеллу, а потом действительно стансы.
– Увольте! Увольте! Мы с Бароном прожили в Риме десять лет и, может, это и кощунственно, но прониклись к Рафаэлю прямым отвращением. Чувства те же самые, когда патоки переешь.
– Не понимаю! – Васнецов даже сел на диване. – Когда этакое слышишь от Стасова – жертвенник идеи. Но вы-то – художник!
– Художники разные бывают. Для нас с Бароном…
– Кто это такой?
– Саша. Брат. Он – Барон, я – Попа. С детства так повелось. Вы уж не судите нас… Мы ведь очень рано вкусили древнего немецкого искусства: Дюрер, Гольбейн, Лукас Кранах. Это – великое искусство. Красота его иная. Строгая, лаконичная… Короче говоря – кому что!
– А я учиться нашему ремеслу начал поздно. Практически – двадцатилетним.
– Может быть, это и не худо. Вы учились сознательно, зная, к чему стремитесь. А ведь мы с Бароном в том же Дюссельдорфе рисовали, отбывая срок, а душа была отдана, думаете чему – пиротехнике. Мы пермяки, потомственные инженеры. Наш дом – Михайловский завод. Глухомань фантастическая. Ни дорог, ни городов. До Камы и то тридцать верст. Начало нашего увлечения искусством тоже примечательно дикое. Сперли у саракульского лавочника краски. Матушка у нас была строгая, посадила в тарантас и приказала отвезти ворованное хозяину. Все тридцать верст ревели. Но обошлось, наградил нас старичок и красками и кистями… Мать рано овдовела, а потом, на наше счастье, вышла за умного человека, и тот увез нас в Германию.
– Там, наверное, и занялись пиротехникой?
– Да нет, раньше. Еще на заводе. Попалась нам на глаза книга. Тут и началось. Однажды чуть дом не сожгли… В честь большого семейного торжества решили мы устроить карусель с четырьмя пароходами. Пароходы должны были идти по кругу и палить из пушек. И вот, когда уже все было готово, оставалось сделать последние штрихи, к нам в комнату зашел наш двоюродный братец. С папиросой в зубах! Увидал порох, ступку, а он охотник был! И давай помогать нам порох толочь. Я увидал папиросу – обмер. Барон успел крикнуть: «Что ты делаешь?» И тут – ба-бах! Мы в окна. Как начали наши четыре парохода палить, ничем и не остановишь… Ну, а в Дюссельдорфе, назло обывателям, уж очень жизнь у них размеренная и правильная, бросали из форточки бутылки с зарядом. Как грохнет, все и выскочат на улицу. Два раза проделка удалась, а на третьей нас выследили и выселили не только из дома, но и с улицы.
– А с виду такие солидные, такие милые господа!
– Вот-вот!
По дороге в собор Васнецов спросил своего спутника:
– Павел Александрович, вам предстоит написать «Вход в Иерусалим», «Суд Пилата», «Тайную вечерю»… Не угнетает, что лица апостолов, исторических деятелей – того же Пилата – придется… выдумать?
– Но ведь так делали и до нас!
– И до нас… А все-таки…
– Вы знаете, я действительно об этом не задумывался.
– А у меня из головы не идет. Особенно когда думаю о лике Богоматери… А пророки!.. А русские святые? Какая она была, княгиня Ольга? Ведь получается, какую я напишу, такая она и будет.
– Такая и будет, – согласился Сведомский.
– А может, мусульмане правы, не позволяя рисовать лики?
– Не правы.
– Почему же?
– Да потому, что мы остались бы без работы.
– Деньги-то нас ожидают не очень большие.
– Знаете, почему я здесь?.. У меня роскошная вилла в Риме. Мои картины в Америке, в Англии и даже у египетского хедива, но я – русский человек, русской землей вскормленный и вспоенный. Я очень хочу оставить по себе память в России. И не просто память. Пишем свои картины мы красками, а только все же и кровью. Каково сердце в нас, таковы и картины наши. Вы простите за высокие слова, по такой уж разговор.
– Нет, нет! То есть как раз – да, да! Я понимаю вас, Павел Александрович. Я и сам здесь по той же самой причине, что и вы. Пора нам послужить простому русскому человеку.
– Церковь пока единственное место, где крестьяне, рабочие и самый-самый затрапезный наш люд может получить искусство из первых рук. Мне это Прахов втолковывал, по кто этого не знает?!
Л про себя подумал: «У меня во Владимирском соборе русский человек будет среди своих русских же святых».
Вслух об этом не сказал. Сведомский хоть и пермяк, а все-таки Сведомский, недаром в католический Рим ею потянуло.
Работа с малым потолком шла быстро. Покончил с травами, покрыл кобальтом круг, а в центре его нарисовал золотой крест. Для богатства оттенков, для игры света прошелся по кобальту ультрамарином. И действительно, эффект получился замечательный: крест сиял так, словно в нем была заключена частица солнца.
Но едва краска просохла, фон вокруг креста порвало, да так сильно – снизу были видны глубокие, до самого белого грунта, трещины.
Васнецов обнаружил это утром. Бросился к Праховым.
– Адриан! Все пропало! Эмалевый фон лопнул, как орех.
– Вот и прекрасно! – спокойно сказал Адриан Викторович. – Садись, садись. И не волнуйся. Случилось то, что должно было случиться. Я долго доказывал инженерам: грунт надо сделать пористый, но специалисты слишком специалисты, чтобы слушать голос разума. Короче говоря, прекращай работы дней на пять. Созовем комитет и поставим его перед фактом.
– По свинцовым белилам нельзя углем рисовать, а как без этого? Есть и еще одно большое неудобство: белый свет слепит, мешает взять верный тон.
– Вот все это мы и выскажем господам инженерам и высокой комиссии.
Через пять дней храм преобразился: стены продрали кирпичом и пемзой, в белила добавили светлую охру.
– Ну, Адриан, – сказал Васнецов, явившись в собор после нежданных каникул, – приступаю к заглавной работе.
Наконец-то приехала в Киев семья: Александра Владимировна и четверо детей, мал-мала. Квартиру сняли неподалеку от Софийского собора. Квартиру просторнейшую: Виктор Михайлович перевез из Москвы «Трех богатырей».
Перед тем как идти в собор, художник любил посидеть возле своей картины. Иногда и за кисти брался, но чаще сидел, смотрел, то замечая всё ужасающее множество несовершенств в картине, то удивляясь великому своему детищу. Удивляясь, как это он напал на столь явственную мысль. Почему эта мысль пришла ему, а не хваткому Репину, например?
Прошел год.
Пора было посылать картины на очередную выставку.
Виктор Михайлович вдруг стал ходить на конюшни. Рисовал тяжеловозов. Принялся прописывать Добрыню Никитича.
– А чем Васнецовы не богатыри? – сказал однажды Александре Владимировне. – Быть Добрыне нашего корня – рыжим.
Пристроил зеркало, писал с себя.
И вдруг однажды завесил «Трех богатырей» холстом.
– Не успеть, – сказал жене. – Столько лет не спешил и теперь не буду.
До Киева дошли слухи, что на очередной, Пятнадцатой выставке Поленов и Суриков выставляют огромные исторические картины. Васнецов чувствовал себя изгоем, душа заметалась в тоске, как белка в клетке. Та бурная, счастливая жизнь, которая совсем еще недавно была его жизнью, его волнениями, теперь шла без него, и шла замечательно.
Васнецов со своих высоких киевских лесов не замечал, что все они – надежда и опора русского искусства – идут плечом к плечу: от жанра к истории, от истории – к религии. Ведь что же может быть выше жизни человеческого духа? Великим мастерам – великие замыслы.
Репин поставил на Пятнадцатой Передвижной две проходные для себя картины «Собирание букета», «Прогулка с проводником на южном берегу Крыма» и портреты: Глинки, Листа, Гаршина, дочери, Беляева, Самойлова, но писал он теперь картину «Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных». В 1887 году праздновалось восьмисотлетие перенесения мощей Николая-чудотворца из Мир в Бари.
Суриков написал и выставил «Боярыню Морозову» – драматический эпизод из русской истории, когда борьба между приверженцами старых обрядов с никонианами и царем достигла крайнего обострения.
Поленов, как и Суриков, тоже размахнулся на десятиаршинный холст. Его «Христос и грешница» не только делила успех с шедевром Сурикова, но по воздействию на публику, особенно на студенчество, еще и превосходила этот успех.
Репин обратился к образу святого Николая-угодника, получив заказ женского монастыря «Никольская пустынь». Это был заказ земляков, вернее, землячек, монастырь находился неподалеку от Чугуева. Репинская картина и все ее авторские повторения не были новым достижением художника. Это еще одна картина, и только. В ней есть что-то от академических работ. Душа не воспылала вдохновением. Дело, видимо, в том, что Илья Ефимович переживал естественный спад после своего «Ивана Грозного». Вершина исторической живописи была покорена, и теперь шел выбор очередной вершины.
Сурикову, с его неистовым темпераментом, после тесной избы, где мыкал свои последние дни широкий Меншиков, нужно было выплеснуть всю накопившуюся в нем, стреноженную Березовом страсть. Более подходящего сюжета, чем боярыня Морозова, трудно себе и представить. И тут еще нюанс: обиды старообрядцев – это для сибиряка Сурикова было своим, личным делом. Свои русские люди, своя история, свой гнев, свой смех, своя драма. Народная драма. Высшая драма, потому что она касалась веры и еще – правительства, ибо правительство XVII века ради государственных интересов посягнуло на само крестное знамение, изменив его в угоду ученым-богословам, богословам-чужакам, оказавшимся к тому же нечистоплотными в своем угодничестве перед сильными мира сего. Картина Сурикова о вере, но не религиозная.
Она не судит ни верующих фанатиков, ни смеющихся над ними. Она об одном из самых больных изломов жизни русского парода, она о силе духа русских людей. Вот эта необычайная концентрация русского и делает картину шедевром мировой живописи. Но в том, 1887 году это была всего лишь еще одна картина Сурикова, очень большая картина и очень хорошая. Чистяков, посмотрев Пятнадцатую Передвижную выставку, признал: «Самая выдающаяся картина – это картина В. И. Сурикова „Боярыня Морозова“… В картине этой столько жизни, столько правды и сути – этой бесшабашной, бесконтрольной людской глупости, просто увлекаешься и прощаешь всякую технику».
Картина Поленова «Христос и грешница» – тоже о герое и народе. Но это взгляд и на героя и на народ – глазами интеллигента.
Современников, однако, более всего поразил свет, лившийся с огромного полотна.
«Луч живой любящей правды сверкнет сейчас в этот мрак изуверства… И уже готовы слова, которые будут говорить векам: „Кто из вас без греха – пусть бросит первый камень“. Христос был странствующий проповедник. Ему нужна была физическая сила, чтобы носить бремя великого деятельного духа. Он, как и мы, загорал на солнце, уставал от трудного пути, ел и пил. Художник и изобразил нам человека с чрезвычайной правдивостью. Это реально, но не надо забывать, что реализм есть лишь выработанное нашим временем условие художественности, а не сама художественность…» Так писал о картине Поленова Короленко.
«В картине нет ни одной, что называется, драпировки, все это – настоящее платье, одежда; и художник, пристально изучивший Восток, сумел так одеть своих героев, что они действительно носят одежду, живут в ней, а не надели для подмостков или позирования перед живописцем». Это слова из критической статьи Гаршина.
«„Грешница“ была светлым, жизнерадостным, горячо-солнечным произведением в холодной снежной Москве, к тому же она была дерзким вызовом для религиозных ханжей», – писал о своем восприятии картины художник Татевосян.
Но то, что заметили студенты и молодые литераторы, заметили и опытные цензоры. Едва картина заняла свое место в одном из залов, как встал вопрос о ее запрещении. Вот рассказ об этом из первых рук. «…В субботу поутру был у нас цензор Никитин, – писал Поленов своей матери, – который, осмотрев выставку, не сказал ни слова, но поехал к Грессеру и сообщил, что есть картина Поленова, которую он пропустить не может. Грессер прислал какого-то полковника – своего чиновника особых поручений для проверки, тот отозвался об картине Поленова положительно, т. е. что он в ней ничего непозволительного не видит. В воскресенье приехал великий князь Влад(имир) Алекс(андрович), долго стоял перед моей картиной, нашел, что она плохо поставлена, но что вещь чудесна и для нас, образованных людей, очень интересна своим историческим характером, но что для толпы это еще недоступно и может возбудить толки… Во вторник поутру приехал Грессер, привез Победоносцева и повел прямо к моей картине. Этот нашел, что картина серьезная и интересная, по больше ничего не сказал. Но после его отъезда запретили печатать каталог… Приехал государь, государыня, наследник… Наконец пришли к моей картине… Уходя, государь сказал, что для такой картины тут света мало и что было бы очень интересно ее увидать при хорошем освещении. Пошли они в следующую залу. Я остался у себя. Вдруг бежит Влад(имир) Ал (ександрович) и зовет: „Поленов, что Ваша картина – свободна?“ – „Никому не принадлежит, Ваше имп(ераторское) высоч(ество)“. – „Государь ее приобретает…“»
Итак, Поленов, взявшись за вечную тему, преуспел. Картина его, во-первых, была выходом из творческого тупика, в котором он, так это ему казалось, пребывал все послеакадемические годы. Во-вторых, это была картина, созданная на подлинно палестинских наблюдениях. Это был новый взгляд на личность Иисуса Христа, потому-то так и взволновалось студенчество и так насторожилась цензура… После же того, как картина была куплена Александром III и за очень большие деньги, в адрес пошли письма с восклицательными знаками. Подобное письмо пришло, кстати, от Климентовой-Муромцевой: «Поздравляю с громадным успехом Вашей картины! Это просто гениальная вещь… Счастливец, какой в Вас талант!.. Желаю Вам продолжать идти по пути гения и славы».
Художник не понимал, отчего это картина его с восторгом принята как двором, так и передовым студенчеством. Ведь он не ловчил, не подстраивался под чьи-либо вкусы.
Не понимал и Васнецов, что, расписывая киевский храм в русском духе, он работает па официальную доктрину Александра III, который революции противопоставил православие.
Между тем работа обрушивалась па Васнецова, как горный сель. Она несла его в своей чудовищной круговерти и ничуть не убывала. Больше всего придавливали не объемы труда, но творческое одиночество. Абрамцево вошло в плоть и кровь, здесь ведь в талантливых соседях недостатка не было. Дом Праховых тоже был и шумен и весел. И мудрствовали тут и серьезнее, и ученее, но больше все-таки говорили о делах, нежели в доме делового человека Мамонтова. Тут реже рождались художественные идеи. Тут среди таких же близких людей, как и в Абрамцеве, можно было шутить и устраивать веселые проказы, но не тянуло исповедаться в своем искусстве. Не было здесь Елизаветы Григорьевны.
Впрочем, чуткая душа вырастала и на этой почве – Лёля Прахова, но в те годы она была еще совсем девочка.
Успех поленовской «Грешницы» окрылил Васнецова. Явилась надежда залучить Василия Дмитриевича па леса Владимирского собора, тем более что поленовская семья пережила летом 86-го года страшное потрясение: умер их мальчик Федя. Перемена места, перемена работы – не лучшее ли лекарство от безысходной тоски и боли?
31 декабря 1887 года Виктор Михайлович решился-таки написать Поленову письмо-приглашение.
«Помимо того, что я желал с тобою видеться как с человеком, наиболее мне близким и родным по духу, несмотря на различие характеров, я жаждал иметь в тебе серьезного критика, и затем я мечтал, что, увидевши собор наш, решишься взять на себя работу и будешь моим товарищем. Когда я услышал, что ты проехал обратно, минуя Киев, мне было до крайности горько.
Мне очень важно, чтобы мою работу видел хоть один из серьезных художников, а тем более ты, как знаток именно этого моего дела, которое едва ли кто-либо понимает ясно. Затем я услышал, что ты продолжаешь болеть и едва ли возьмешься за дело собора; эти слухи меня прямо обескуражили…
Уговаривать тебя я не смею и считаю нецелесообразным и рискованным, так как брать на себя такое серьезное дело, хотя и увлекательное, должно совершенно самостоятельно. Я только буду всей душой радоваться, если ты решишься взять на себя это трудное и святое дело…»
Василий Дмитриевич ответил сразу, его письмо датировано 8 января 1888 года.
«Милый друг, Виктор Михайлович, не заехал я к тебе из Крыма потому, что очень нехорошо себя чувствовал и торопился домой. Мне бы ужасно хотелось и повидаться с тобой и посмотреть на твои работы, и думал я собраться весною к тебе, да все не могу справиться с болестями…
Что касается работы в соборе, то я решительно не в состоянии взять ее на себя. Я совсем не могу настроиться для такого дела. Ты – совершенно другое, ты вдохновился этой темой, проникся ее значением, ты искренне веришь в высоту задачи, поэтому у тебя и дело идет. А я этого не могу, мне бы пришлось делать вещи, в которые я не только не верю, да к которым душа не лежит; искреннего отношения с моей стороны тут не могло бы быть, а в деле искусства притворяться не следует, да и ни в каком деле не умею притворяться. Ты мне скажешь, что я же написал картину, где пытался изобразить Христа. Но вот в чем дело: для меня Христос и его проповедь одно, а современное православие и его учение – другое; одно есть любовь и прощение, а другое… далеко от этого…
Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами да злодействами, то уже жить станет слишком тяжело… Ты не думай, что я упрекаю в притворстве при теперешней работе, ты вдохновился ею и нашел в ней смысл, и я глубоко это уважаю. Все тебе кланяются…»
Итак, никого из прежних друзей в соратники Васнецову заполучить не удалось. Прахов пригласил в собор Вильгельма Александровича Котарбинского. Он был чуть моложе Васнецова и младшего Сведомского. В 87-м году, когда он приехал в Киев, ему исполнилось тридцать шесть лет. Еще позже приехал Врубель, появились совсем молодые Костенко, Замирайло. Для разбивок клеток на стенах приглашались ученики художественной школы, созданной другом Репина Мурашко.
Все написать своею рукою никаких сил не хватило бы. Однако контуры фигур Васнецов наносил сам, считал, что точность рисунка – главное. Помощники делали подмалевки, а заканчивал фигуру Виктор Михайлович опять-таки своею рукой. Впрочем, удачные куски фона, драпировок – оставлял, не подправляя.
Центральную фигуру Божьей матери Васнецов написал без подмалевок и всю сам. Но уже херувимов он отдал Костенко.
Пророков, святителей, евхаристию тоже никому не передоверил. А вот ангелов разрешил писать помощникам: одного написал Куренной, другого – Костенко. Костенко же написал и евангелистов на парусах. Правда, заканчивал их все-таки сам Васнецов.
Костенко был у Васнецова любимым помощником, обещал вырасти в большого художника, но судьба оказалась к нему немилостивой. Как и многие русские живописцы, он отправился учиться совершенству в Париж. Одну его работу взяли на осенний Салон. И тут случилось несчастье: помешательство, заключение в больницу, ранняя смерть.
Другим помощником, которым Васнецов очень дорожил, был Замирайло. Замечательный шрифтист, он выполнил все надписи в соборе. Позже он сделал с Васнецовым еще одну прекрасную работу: Васнецов нарисовал, а Замирайло написал своими шрифтами «Песнь о вещем Олеге», изданную в юбилейном 1899 году, в год столетия Пушкина.
Вся огромная, многослойная усталость перетекала в единую серую тоску. Васнецов еще и подшучивал над собой: «А дрозд – тосковать, дрозд – горевать!»
Писал жалобные письма Третьякову: «Музыку часто слышите? А я редко очень-очень, а мне она страшно необходима: музыкой можно лечиться».
Эмилия Львовна, как могла, восполняла эту недостачу. В дом приглашались музыканты: Пухальский, братья Блюменфельд, бывал совсем еще молодой Лысенко.
Часы пробили половину десятого. Александра Владимировна привычно сняла с вешалки пальто, чтобы быть ближе к мужу в последнюю минуту перед его долгим рабочим днем. Он вышел из комнаты с «Богатырями» и вдруг поднял руки, как заслонился:
– Не надо, Саша! Не хочу!
– Что? – не поняла Александра Владимировна.
– Да ничего я не хочу! Ничего! Повесь, пожалуйста, пальто.
Она исполнила его просьбу, а он все стоял в прихожей, видимо, не зная, на что решиться.
– Ты хочешь отдохнуть?
– Да… Ведь не каторжный я, в самом деле?
– Может быть, в Москву съездить?
– Нет, – покачал он головой. – Просто посижу дома. Ты знаешь, я по сказкам соскучился… Пошли, поглядим «Царевича на Волке».
– Но ведь это опять работа.
– Ну, какая это работа?! Это, Сашенька, – безмятежное счастье. Знаешь, зови детишек, почитаем сказки. Ты почитай, а мы послушаем.
Поставил Васнецов свою состарившуюся и все еще не конченную картину «Иван-царевич», сели всем семейством на большом диване и посмотрели на Александру Владимировну.
– Что же вам почитать? – спросила она.
– Веселое! – ответил за всех Миша.
– Веселое, так веселое. – И прочитала первую сказочку. – «Заприметил солдат, что у хохла в сенях висело под коньком пуда два свиного сала в мешке: прорыл ночью крышу, стал отвязывать мешок да как-то осклизнулся и упал вместе с салом в сени. Хозяин услыхал шум и вышел с огнем: „Чего тебе треба?“ – „Не надо ли тебе сала?“ – спрашивает солдат. – „Ни, у меня своего богацько!“ – „Ну, так потрудись, навали мне мешок па спину“. Хозяин навалил ему мешок на спину, и солдат ушел».
Посмеялись, а Миша сказал:
– Еще.
– «Раз зимою ехали по Волге-реке извозчики. Одна лошадь заартачилась и бросилась с дороги в сторону; извозчик тотчас погнался за нею и только хотел ударить кнутом, как она попала в майну и пошла под лед со всем возом. „Ну, моли бога, что ушла, – закричал мужик, – а то я бы нахлестал тебе бока-то!“»
– Ну, это грустная сказка, – сказал Васнецов.
– Еще! Еще! – потребовал Миша.
– «Трое прохожих пообедали па постоялом дворе и отправились в путь. „А что, ребята, вить мы, кажется, дорого за обед заплатили?“ – „Ну, я хоть и дорого заплатил, – сказал один, – зато недаром!“ – „А что?“ – „А разве вы не приметили? Только хозяин засмотрится, я сейчас схвачу из солоницы горсть соли, да в рот! да в рот!“»
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
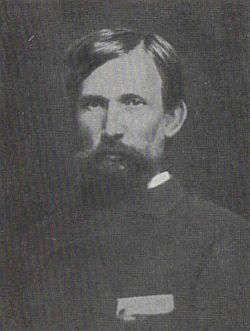 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
– А знаешь, матушка! – сказал вдруг Виктор Михайлович. – Дубы на картине очень уж хороши. Всё! Буду писать ее. Собор подождет, да и нет у меня па него больше ни толики силенок.
Отпуск был взят, но не от живописи. Теперь, к великой гордости и радости детей, в дом ежедневно приводили из киевского зверинца настоящего волка.
– Как хорошо натуру-то пописать! – радовался Васнецов. – Экие глаза-то у него, волчьи, белые. Людоед! Чистый людоед!
Передвижная выставка 1889 года подарила зрителей картинами, без которых теперь русское искусство представить себе невозможно. Тряхнул стариною Максимов. Его картина «Все в прошлом» напомнила о былой силе этого художника. Потихоньку да помаленьку пропил он свой талант. Оттого-то, может, и не было прежней дружбы у них с Васнецовым.
Шишкин выставил «Утро в сосновом лесу», знаменитых «не своих» мишек. Репин представил «Николая-чудотворца», Левитан «Пасмурный день на Волге», Степанов «Лосей», Васнецов «Ивана-царевича на Сером Волке».
Критика снова отчитала Виктора Михайловича. Особенно постарался художественный обозреватель журнала «Русская мысль». «Иван-царевича Виктора Михайловича Васнецова не приобрел Павел Михайлович Третьяков, – писал он, то ли не зная, что картина куплена в Третьяковку, то ли умышленно, и далее следовал весьма примечательный критический опус. – У него (у Третьякова. – В. В.) уже достаточно собрано произведений этого художника, столь неудачно увлекшегося новшеством, якобы долженствующим создать особливую русскую живопись, непохожую ни на какую другую. Выходило нечто, в самом деле ни на что непохожее, свидетельствующее о том, что и с талантом можно забраться в такие дебри бессмыслицы, из которых почти нет средств выбраться на свет божий. В новой картине Васнецова сказывается попытка вернуться на общечеловеческую стезю в искусстве, но до осуществления столь благого намерения еще далеко. Васнецов написал лес, воду и цветы несколько похожими на настоящие, а не на его „Васнецовские“.
Но „серый волк“ все еще претендует по-прежнему на сказочность и вышел совершенно таким, каким мы видим „серых волков“ в окнах меховых магазинов. Прыгает „серый“ через воду, а зритель убежден, что это чучело, только сделано в такой позе, что прыгать никак не может и обречено всю жизнь пребывать с вытянутыми вперед ногами и высунутым языком».
Иное мнение у Саввы Мамонтова: «Твой царевич на волке привел меня в восторг. Я всё кругом забыл, я ушел в этот лес, я надышался этого воздуха, нанюхался этих цветов. Все это мое, родное, хорошее! Я просто ожил! Пусть говорят, что в картине много недостатков, неверностей, я не буду спорить, но пусть кто-нибудь другой так просто и непосредственно повлияет на мою душу, как твоя картина. Вот где поэзия! Молодец!..»
С Мамонтовым вполне согласилась авторитетная среди художников газета «Художественные новости».
«Такого сказочного леса до сих пор не бывало. В сказке – своя логика и своя законообразность: по таким проклятым местам можно скакать только на сером волке. Византийская красота Ивана-царевича и его суженой, смягченная эпическими чертами народной сказки, производит цельное и чрезвычайно приятное впечатление».
Итак, первое серьезное совместительство состоялось. Еще одна «детская» картина Васнецова явилась в мир, чтобы обрадовать главного и постоянного своего зрителя, о котором Васнецов специально не думал, но для которого, но сути дела, и работал всю свою огромную художественную жизнь. Этим зрителем были дети.
Так ли уж это бесспорно, что человеку на жизнь дана одна пара глаз. Так ли это бесспорно? Детские глаза много совершеннее глаз взрослого человека, они чересчур доверчивы, а потому и видят много больше: во-первых, они видят всё множество деталей, мимо которых скользит пресыщенный глаз взрослого, а во-вторых, они видят не смысл картины, до которой спешат докопаться взрослые люди, но мир картины. А это, как понимаете, совсем не одно и то же. Идея-то чаще всего испаряется, иногда до такой степени, что критики начинают приписывать картине совсем противоположные толкования. Мир картины – это не только изображенная объективная реальность, но это еще и чудесное свойство впускать в себя зрителя. Можно и с Аленушкой на сером камне посидеть, можно за витязя решить, куда ему ехать, а потом и отправиться в путь… Тут только одна закавыка: не всякому картина откроется. Взрослому наверняка – нет. Потому что для взрослого сказка – это сказка и картина – это только картина. Дети такого не понимают и не принимают. Они реалисты, и сказка для них – жизнь, и всякая картина, пусть хоть о гибнущей Помпее, – жизнь, совершающаяся сегодня.
Детская литература существует столетия, если вспомнить сказки Перро. Существует и специальная детская графика. А вот живописи для детей и сегодня нет, хотя, имея Васнецова, так уже говорить нельзя.
Детскость Васнецова – в серьезном отношении к сказке, в насыщении этого мира множеством деталей. Ведь у него не бывает героя вообще, вообще Сивки-Бурки, вообще ковра-самолета. На всякое снаряжение хоть технический паспорт выдавай. Детский зритель точность ценит превыше всего. Ему важно, что и как, а куда и почему, он сам решит.
Ну и последнее. Детские глаза умеют и любить на всю жизнь, и помнить на всю жизнь. Способность смотреть по-детски взрослый человек в конце концов утрачивает, но он никогда не утратит и не расстанется со своей преданностью детству. Он обязательно передаст кому-то любовь к художнику. Эта любовь, как колдовская сила, ее нельзя унести с собой.
Работа над «Иваном-царевичем», успех у зрителей, приобретение картины Третьяковым освежили силы Васнецова, по крайней мере, освободили от иллюзии замкнутости в четырех стенах.
Вороны – предвестники жестокой сечи, дамы – предвестники славы. Сначала это было ново: показывать, объяснять, давать подержать палитру и кисти. Потом это стало обременительно. Наконец ввели пропуска. Сторож Степан без визитки Прахова или председателя комитета никого в собор не пропускал. Молва донесла до наших дней рассказ об одном таком посещении.
Две молодые особы явились в собор с пропуском от самого генерал-губернатора Игнатьева. Повел их Васнецов и не без ехидства заставил полазить по лесам. Дамы, однако, в долгу не остались.
– Откуда вы берете все эти картинки? – спросила одна по-французски.
– Из мозгов, государыни! – по-русски ответил Васнецов.
– А мы думали, вы из «Нивы» срисовываете! – как бы само собой разумеющееся сказала дама.
Бывали у Васнецова и прямые столкновения с посетителями.
Однажды явился генерал. Шинель на красной подкладке, шаг командирский, голос громкий. Топает по собору и восклицает: «Ого! Ага!»
Художники отвлеклись от работы, смотрят сверху, кто это? А Васнецов взъярился – и вниз.
– Предъявите пропуск!
– Какой вам еще пропуск? – изумился генерал. – Я фон Роот, одесский генерал-губернатор.
– А я художник Васнецов, которому вы мешаете работать. Будьте любезны, прочтите правила для посетителей собора, обязательные для всех, независимо от их чинов и рангов.
– Я буду жаловаться на вас в Петербург! – заорал взбешенный хозяин одесского края. – Я пошлю телеграмму министру внутренних дел. Это вам не пройдет! Меня при дворе знают!
Васнецов вывел генерала и закрыл дверь на засов.
В те поры одному молодому художнику по фамилии Нестеров приснились подряд два вещих сна. Один сон – высокая до небес лестница. Поднимается он по этой лестнице до облаков… и тут пробуждение… Другой сон про картину «Видение отрока Варфоломея». Будто висит картина на почетном месте в Ивановском зале Третьяковки. Через год и впрямь увидел Нестеров своего «Варфоломея» в Ивановском зале. Что же касается лестницы, то и это сбылось: Михаил Васильевич поднялся вскоре на леса Владимирского собора, чтобы разделить труды и славу его создателей.
С праздником в душе ехал Нестеров в Киев, но и сомнений тоже было достаточно: прибавит ли его кисть к подвигу Васнецова, да что там прибавит – пригодится ли?
Михаил Васильевич умел писать не только красками. Пусть же прозвучит сейчас его светлый голос во славу дружбы двух чудных русских художников, так много давших отечественному искусству.
«Вхожу, передо мной леса, леса, леса, в промежутках то там, то здесь сверкает позолота, глядят широко раскрытыми очами лики угодников, куски дивных орнаментов.
Зрелище великолепное…
Я медленно подвигаюсь среди такой невиданной, непривычной, таинственной обстановки, подвигаюсь робко, как в заколдованном волшебном лесу. Куда-то проходят люди, запыленные, озабоченные рабочие. Тащат бревна, стучат топоры, где-то молотком бьют по камню…
Спрашиваю Васнецова. Говорят, что он на хорах, вон там, на левом крыле их. Сейчас он занят. Снизу кричат ему мое имя.
Голос сверху приглашает меня на хоры…
По лесам я иду впервые, иду робко, озираясь влево на увеличивающуюся пропасть. Перил нет, голова немного кружится, а мой спутник летит по ним сломя голову. Да и я скоро буду бегать по ним, как по паркету.
Наконец площадка, мы на хорах… И я вижу между лесов, перед огромным холстом высокую фигуру в блузе, с большой круглой палитрой в руках. Это и есть Виктор Михайлович Васнецов, тот, о ком тогда говорила уже вся художественная Россия.
Заслышав наши шаги, Виктор Михайлович оборачивается, кладет палитру на бревна, идет навстречу. Мы сердечно здороваемся, целуемся, и с этой минуты начинается наша долгая дружба; несмотря на значительную разницу лет, мы надолго, на всю жизнь, лишь с некоторыми перебоями, едва ли от нас самих зависящими, остаемся „Васнецовым и Нестеровым“».
Приглашение молодого Нестерова в собор последовало после успеха его «Пустынника» и особенно «Варфоломея». Успеха, кстати говоря, далеко не бесспорного. Но если Стасов, Суворин, Григорович и Мясоедов оказались воинственными противниками художника, то у него был и могучий сторонник, впрочем, потерянный в единочасье и навсегда.
Центром Передвижной выставки 1890 года была работа Н. Н. Ге «Что есть истина?». Однако и «Варфоломей» прозвучал. Прославленный ветеран передвижничества решил взять молодого под свое орлиное крыло, пожелал побеседовать наедине.
«Я, как очарованный, слушаю Николая Николаевича, – вспоминал Нестеров. – Его дивная дикция волнует меня… Мы все ходим, ходим. Николай Николаевич все говорит, говорит…
И я начинаю утомляться от ходьбы, от напряженного внимания к словам, не всегда понятным, „учителя“, а он, как бы угадывая мое состояние, неожиданно останавливается со мной у своей картины, у „Христа перед Пилатом“, и спрашивает мое мнение о ней… Что я скажу ему, этому славному художнику, такому ласковому со мной?.. У меня нет тех слов, кои ему нужны от меня… Солгать?.. Нет, солгать не смогу. Не могу и сказать той горькой „правды“, что думаю о картине…
А время идет, идет… Молчание мое для Николая Николаевича становится подозрительным, наконец, неприятным. И так мы простояли перед „Пилатом“ минут десять. Я нем, как рыба. Для старика все стало ясно, и он… повернулся и ушел… Он никогда не простил мне моего неумелого молчания, много раз пламенно осуждал мои картины…
Последний раз я его видел в Киеве в те дни, когда я расписывал Владимирский собор. Помню, мы сидели с Виктором Михайловичем Васнецовым на балконе на Владимирской улице. Мы отдыхали после рабочего дня, о чем-то лениво говорили, как вдруг Васнецов говорит: „Смотрите, ведь это едет Ге“.
Я обернулся и увидел Николая Николаевича, ехавшего на извозчике в сторону Софийского собора. С ним на пролетке сидел почтительно, бочком, молодой человек, по виду художник. Николай Николаевич что-то оживленно ему говорил, и нам показалось, что на наш счет, так как смотрели оба на наш балкон. Ни он нам, ни мы ему не поклонились, и этот наш поступок мы не могли забыть и простить себе всю жизнь. Вызван же он был тем, что Ге с великой враждой относился к росписи Владимирского собора».
Не все сочувствовали делу Васнецова. Далеко не все. Были у него недоброжелатели по личным мотивам. Было и принципиальное неприятие его устремлений сделать для русских людей русский храм. Имелись у него враги и среди духовенства. Один из киевских архиереев говорил, что молиться во Владимирском соборе никак нельзя, вместо святых сиволапые мужики на стенах. Влиятельный среди монашества Иоанникий сделал все, чтобы роспись Великой Лаврской церкви не досталась Васнецову.
Так что поддержка от молодого собрата была очень нужна Виктору Михайловичу. Тем более что дружбы или какой-то творческой близости с Врубелем, работавшим в соборе до Нестерова, не получилось. Врубель был моложе Васнецова всего на восемь лет, но он принадлежал, и целиком, иному художественному поколению.
Строительный комитет отверг эскизы Врубеля, хотя они были необыкновенно талантливы. Для воплощения художественных идей Врубелю был нужен свой собственный собор, которого он, конечно, не получил. Его участие во Владимирском соборе кончилось росписью орнаментов.
Комитет напугало не разностилье. В конце концов, картины Сведомского и Котарбинского рознятся между собой и совершенно не совпадают со стилистикой Васнецова. Дело было в самой сути врубелевской живописи.
Васнецов смущал киевских пастырей реализмом образов, их полнокровием и человечностью. Перед старой иконой, которая воспроизводит человека с большой степенью условности, молиться проще. Старая икона никогда не рассказывает о личности святого, она рассказывает о служении богу. Молящегося икона всячески отстраняет от жизни, ведь он даже родного пейзажа не узнает и родного города тоже. Васнецов же написал па своих иконах и картинах русских людей, русскую природу и русские города.
Система образности Врубеля была совершенно иной. Его оплакивание Христа Богоматерью – не пересказ известного всем события на свой лад, но воистину плач. В таком храме, может быть, и сами слова произносить грех, тут надо молчать, потому что говорят стены.
Обе стихии – васнецовская, эпическая, и врубелевская, обращенная к чувству, – уживаясь, создали Нестерова. Правда, в этом «тихом» искусстве нет врубелевского вселенского страдания. Здесь – своя боль, молитва за себя.
Виктор Михайлович человек был покладистый и благожелательный. В Нестерове он видел продолжателя своей стези, но и талант Врубеля был ему симпатичен. Он пытался оберегать этот талант. Прежде всего от самого Врубеля, выходки которого не понимал и не мог принять.
Да ведь и то! Однажды в соборе Михаил Александрович капнул себе на нос зеленой краской.
– Вы испачкались, – сказал ему Сведомский.
– Ах, это! – Врубель погляделся в зеркало, взял с палитры ярко-зеленую «Поль Веронез», вымазал нос и пошел в город, к Праховым.
Эмилия Львовна тоже не преминула сказать:
– Вы запачкались!
– О нет! – возразил Врубель. – Женщины красятся. Скоро будут и мужчины, в разные цвета. Смотря по характеру и темпераменту. Одним пойдет желтый цвет, другим – синий пли красный, третьим – лиловый. Мне идет зеленый.
Шалость гения? Богема? То и другое, хотя позднее в этом видели зачатки психического надлома.
Врубель в жизни был человеком неустроенным, но ему нравилось играть роль аристократа. В застольях он строго соблюдал очередность вин, он тратил деньги без счета, когда они у него были. Мог обливаться «Коти» и сидеть на одной картошке.
К сожалению, этот широкий стиль Врубель использовал и в своей работе. Ради сиюминутного желания он уничтожал свои картины с легкостью необыкновенной. Прибегает Васнецов однажды к Праховым, радостно возбужденный.
– Адриан! Какую чудесную Богоматерь написал Врубель. Ты зайди завтра в подсобку. Я думаю, такую икону надо использовать в соборе.
Утром пришли в подсобку, где художники рисовали «для себя», и ахнули: на холсте вместо Богоматери гарцевала рыжая циркачка.
– Что вы наделали? – Васнецов за голову схватился.
– Ах, это?! – Врубель ужасно смутился. – Холста не было. Но я напишу другое, лучше прежнего.
И написал Оранту. Позвал посмотреть. Васнецов ужаснулся: зубы ощерены, пальцы скрючены и похожи на когти.
– Что это?!
– Она защищается, – объяснил Врубель.
В другой раз Васнецов и Прахов, зайдя в меблированные комнаты, где жил Михаил Александрович, увидали чудесную картину «Христос в Гефсиманском саду». Правый угол картины был еще не дописан. Тотчас поехали к промышленнику и коллекционеру Терещенко. Терещенко вручил Врубелю задаток, триста рублей. Казалось, дело сделано, надо дописать угол картины, передать покупателю и получить всю сумму целиком.
И снова поверх Христа появилась все та же рыжая циркачка.
Для такого нормально живущего человека, как Васнецов, все это было дикостью, сплошным несчастьем. Конечно, появление во Владимирском соборе Нестерова, человека тоже с характером, но своего по духу, было для Васнецова подарком судьбы.
К тому времени имя Виктора Михайловича уже гремело по стране, и «похожесть» Нестерова на Васнецова воспринималась критиками как ученичество. Критика так долго об этом твердила, что в конце концов своего добилась – заколотила между двумя родственными душами ржавый железный клин.
Уже в начале 1891 года Нестеров в письме к другу вылил все свое негодование, которое, как там ни крути, падало на неповинную голову Васнецова.
«Я не могу обмануть себя и вижу яснее, чем нужно, свои силы, – писал Нестеров. – До сего дня я был и есть отклик каких-то чудных звуков, которые несутся откуда-то издалека, и я лишь ловлю их урывками… Истинный художник есть тот, кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости.
В недавнем письме Соловьева к Виктору Михайловичу он замечает в ободрение Васнецова, что у него есть уже последователя, и именно – „Нестеров“. Признавая гений Васнецова, колоссальное его значение в будущем, я могу лишь признать себя подражателем его относительно, в той же мере, как я подражаю Франческо Фанча, Боттичелли, Беато Анджелико, Рафаэлю, Пювис де Шаванну, Сурикову и не более, но никак не исключительно Васнецову. И последователь его я лишь потому, что начал писать после него (родился после), но формы, язык для выражения моих чувств у меня свой, и чувства эти исходят не из подражания Васнецову или кому-либо, а из обстоятельств, которые предшествовали моей художественной деятельности. Удастся ли что сделать в жизни действительно творческое – вопрос остается открытым…»
Письмо, которое мы только что цитировали, было отправлено 14 февраля. Оно – реакция на статью Владимира Соловьева. Всего тремя днями раньше Михаил Васильевич писал тому же адресату совсем иное: «Скажу Вам, что много стоит трудов Васнецову отстаивать меня перед киевским обществом, и он это делает с таким же жаром, как бы отстаивал себя самого… На этой неделе я, Хрусталев и Менк были вечером у Васнецова, и он им показывал свои эскизы („Апокалипсис“), от которых не только они, но и я, видевший их десять раз, потеряли совсем голову – это гениально!»
Радость, что он, Нестеров, работает рядом с таким человеком, как Васнецов, совершенно открытая, восторг перед творчеством старшего товарища – безоговорочный.
Вот как может повернуть отношения между людьми одна статья, вроде бы доброжелательная.
Что касается «Апокалипсиса», то – гениальное для Владимирского собора, как мы уже говорили, не годилось, – не только смутьяну Врубелю дали от ворот поворот, по и степенному Васнецову тоже. Пришлось Виктору Михайловичу сочинять иные композиции.
Разумеется, Соловьев не ставил себе целью поссорить художников, отвадить Нестерова от Васнецова. Да и никто другой столь коварной задачей не задавался. Одни попросту чесали себе языки, а другие не позаботились унять говорунов, тем более что особые отношения между знаменитыми людьми – пища для всеми желанных захватывающих сплетен.
После успеха «Пострига», картины, которую купил царь и за которую Михаил Васильевич удостоился звания академика, заговорили о том, что Васнецов весь в прошлом и будущее за Нестеровым. И вот уже Нестеров пишет своему другу, что Васнецов принял весть о покупке его картин без удовольствия и утешается только тем, что он, Нестеров, «продешевил».
Возможно, так оно и было: и весть принял без удовольствия, и позлорадствовал финансовой нераспорядительности молодого друга. Приятно ли, когда на тебе, признанном мастере, далеко еще не старике – пятидесяти нет! – публично ставят крест, а имя твоего младшего товарища и ведь действительно ученика – нарочито пишут впереди твоего. И разве твоему духовному ученику, давно уже сложившемуся художнику, не обидно читать о себе как об эпигоне знаменитости?
Интрига банальная, всем известная, но срабатывающая вновь и вновь и всегда наверняка. Сплетники явного скандала и явного разрыва – не дождались, но художников развели на годы. А ведь Михаил Васильевич любил и талант Васнецова, и человека Васнецова.
Сколь ни грандиозна бывает работа, если ее делают, то и дело в конце концов приходит к концу.
«В моем Киевском сидении совершился очень серьезный факт: в алтаре сняли леса, – отчитался Васнецов Елизавете Григорьевне в августе 1890 года. – Можете представить, что это значит для меня. До сих пор я мог видеть только, как моя страшная работа еще страшней разрастается и разрастается… Временами чувствовалось, что даже и силы не хватит на продолжение. И вдруг вижу воочию, что больше трети работы уже совершившееся дело, уже часть этой горы за спиной, уже тяжкие муки выполнения идеи пережиты. Одного сознания, что дело уже сделано, достаточно для награды за тяжелый труд. Как сделано, не мне судить, довольно того, что я свой долг исполнил „еже писах-писах“. Альфа моего громадного – теперь это вижу – труда написана, помоги Бог написать в нем неуклонно и Омегу».
Он пришел в собор в воскресенье, когда не работали. Дверь была не заперта.
– Посетители, что ли? – испугался Виктор Михайлович.
– Посетителей-то нет, – как-то очень неуверенно ответил сторож Степан, и Васнецов догадался: видно, старик хватил чарочку ради праздника.
– Ты не пускай никого.
Художник вправе побыть наедине со своим творением.
Ступая по облаку, как по тверди, шла вечно молодая женщина, прекрасная в материнстве. Ее мальчик рванулся навстречу пришедшим в их дом, всплеснул ручонками, и в одной из них – цветок, он так резво рванулся, что мать невольно прижала дитя к груди. Ребенок прекрасен, за спиной ясное золото неба, но в глазах матери нет радости. Она знает наперед, кто ее сын и какая доля ожидает его. Сияют, как солнце, нимбы, в движениях матери спокойствие. Высший суд, высшая правда, высшее счастье – на их стороне, на стороне ее сына. Широкие всплески крыл осеняют их вечный путь к людям, какие бы они ни были, эти люди.
Он поднял и поднес к лицу своему ладони.
– Вот ведь!
И было непонятно, как это могло совершиться. Чем его руки, сделавшие это, лучше иных?
– Четырнадцать метров тридцать сантиметров! – сказал он и даже глаза сощурил, чтобы отметить на полу четырнадцать метров с гаком.
И опять смотрел на идущую по облакам. Шевельнулась странная мысль: «А могу ли я молиться на дело рук своих?» Ему неприятна была эта мысль – наверняка навеяна окаянным, – он даже зажмурился, а потом опять смотрел, смотрел, и женщина с младенцем шла к нему по облакам, и в глазах ее стояла собранная с поля человеческого человеческая боль. Вся-то хитрая хитрость была для нее проста, а простое было светом для глаз ее.
– Какой уж тут Рафаэль!
Иные ретивные уже в с Рафаэлем поспешили сравнить его Богоматерь, даже Нестеров туда же – Рафаэль. Пришлось вразумить молодого: «Кукольник тоже думал о себе, что он – Пушкин. Да так Кукольником и остался». Молодому такое полезно услышать, придет время, тоже павлиньи-то перышки распустит.
– Нет, это не Рафаэль. Это – Васнецов, мальчонка из Рябова. Господи! Как же это у тебя такое бывает?! Из Рябова, да в Киев, да сюда вот, в божий дом…
Он вышел из собора и увидел, что у Степана вопрос в глазах.
– Посмотрел, – сказал он ему.
– Я вот тоже часами гляжу, – признался сторож. – Загляденье.
– Спасибо.
– Да за что ж мне-то?
– За то, что глядишь.
– Ах, Виктор Михайлович! Я и на тебя теперь гляжу… Вроде человек как человек, тихий… Нет, не сумею сказать.
– Ну и ладно. Хорошо помолчать тоже хорошо.
Виктор Михайлович надел картуз и тотчас сиял, прощаясь со Степаном. Пошел вверх по улице, по золотой дорожке, выстланной осенью.
И что-то ему все казалось – глядят на него или вроде бы кто-то идет след в след. Он не любил оглядываться, но тут не утерпел, остановился, повернулся – никого! И увидел: на другой стороне улицы приостановилась в смущении и нерешительности… Александра Владимировна. Удивился, перешел к ней, посмотрел в лицо и все понял.
– Ты в соборе была.
– Была… Поглядеть ходила. Одной поглядеть хотелось.
– Вот оно какое наше счастье, Саша. Бог и тут нас соединил.
– Лицо у тебя было… Как у мальчика.
Они засмеялись и пошли рука об руку, два хороших человека, давно уже не умевших жить друг без друга.
Проездом через Киев явился в собор старик Неврев. Поглядел росписи, растрогался, расплакался, расцеловал творца.
А вечером Виктор Михайлович жаловался жене:
– Ты знаешь, Саша! Все эти похвалы, которые теперь на меня сыплются – от лукавого! Я сегодня Евфросинью писал. Пишу, а дьявол под руку толкает – ах как у тебя красиво! Как чудно! Никто так не может!.. Бросил кисти, ушел на Днепр… В Москву надо возвращаться. Без Москвы я погиб.
Лекарство от самовлюбленности явилось нежданное и страшное. За годы привыкнув на лесах держаться за воздух, отступил, чтобы поглядеть на мазок со стороны, а перил на лесах не было – и полетел.
– Васнецов разбился!
Послушали – дышит, потрогали – вроде не стонет, но без памяти. Отвезли домой – и за хирургом. Оглядел, ощупал – кости целы. Приказал полежать, дал успокоительное. Обошлось.
В Москву Васнецовы переехали летом 1891 года. Поселились в Абрамцеве, а осенью сняли квартиру в Демидовском переулке.
Через год Виктор Михайлович перевез из Киева «Трех богатырей».
Однако Владимирский собор не отпускал от себя. В начале 1892 года художник был занят окончанием трех потолков, тема – «Единородный сын». На работы ушла зима и весь март. Осенью снова был в Киеве, написал «Крещение Руси» и начал «Страшный суд».
Из мирских картин за это время было создано мало. Летом 91-го года повторил, несколько изменив, композицию «Трех царевен». Картину приобрел и увез в Киев Е. М. Терещенко.
В 1889-м – написал портрет Бориса, в 1892-м – Михаила, сыновей своих. В 1894-м – сочный, прекрасно проработанный и, главное, ничуть не потерявший от завершенности в трепетности и даже восторженности портрет Лёли Праховой.
Было еще повторение старого рисунка «На льдине», созданы иллюстрации к «Песне про купца Калашникова» для собрания сочинений Лермонтова, издаваемого Кушнеревым.
Огромная вдохновенная работа приносит творцу прежде всего огромную опустошенность. Не потому, что все отдано, а потому что после многолетней сосредоточенности на одном художник вновь оказывается лицом к лицу с хаосом беспрестанно меняющегося, кипящего, клокочущего пространства, которое есть жизнь. Эту жизнь, распыленную, никак не организованную, бессмысленную, предстоит по крохам собрать в себе и начать, в который раз, еще один акт творения. Человек самолюбив, его новый шедевр по логике творчества обязан превзойти предыдущий, а если это Владимирский собор? Так возникает жалоба души, и надо, чтоб кто-то выслушал эту жалобу. Поверенным в душевных радостях и невзгодах Виктора Михайловича была Елизавета Григорьевна Мамонтова. «Не тянет как-то особенно заглядывать в текущую мою жизнь, – писал он ей. – Болеют все инфлюэнцией, голод… (1891-й – в России голод. – В. Б.)… все это настраивает на печальный лад. Люди тоже не интересуют – сам людей не разрисовываешь, как бывало прежде, разными интересными красками. И как бы человек ни маскировался и ни загримировывался, а суть его видна насквозь, и видишь, по какому шаблону скроен человек, и – ах, как редко промелькнет кой-где живая искорка… и скучно донельзя станет. А в свою душу поглубже заглянешь, так и того меньше утешения… а любить людей все-таки нужно. Нам дано для любви и утешения искусство, только тогда и живешь во всю полноту, когда им увлекаешься, ну а когда устанешь – то плохо».
А между тем признание начинало оборачиваться милостями и чинами. В 1893 году избрали академиком Академии художеств. Предложили руководство мастерской религиозной живописи, которая была бы отделением Петербургской Академии, а помещалась, как того желал Васнецов, в Москве.
Дал согласие сгоряча, быстро опомнился, подал в отставку, которую у него приняли.
Педагога из Виктора Михайловича не получилось. Его педагогика – его картины. В те годы, пожалуй, не было в России другого художника, кто оказал бы более сильное влияние на отечественную живопись. Началось с насмешек, Нестеров вспоминал, как на выставках в Москве учащиеся Московского училища живописи, ваяния и зодчества изощрялись в острословии перед картинами Васнецова. Но уже очень скоро у самого Нестерова неприятие перешло в восторженную любовь. Не все торопились идти тем же путем, но глаза открылись у всех: оказывается, в искусстве можно говорить своим языком, «своими» красками, видеть мир не так, как требуют каноны, но как видят твои глаза, твой ум, твое сердце.
Отказавшись от мастерской, Васнецов, однако, не только имел особое мнение о системе художественной выучки, но и старался проводить свои педагогические идеи в жизнь.
Приняв в 1892 году участие в обсуждении нового устава Академии, он писал ее конференц-секретарю графу И. И. Толстому: «Императорская Академия художеств в настоящее время призвана занимать первенствующее место в деле развития Русского искусства и служить по-прежнему центром, привлекающим молодые художественные силы со всех концов обширной России. Свободная художественная и художественно-образовательная деятельность отдельных лучших мастеров и деятельность других подобных школ (в Москве, Киеве, Одессе) едва ли могут вполне заменить ее…»
Но уже через несколько строк выясняется, что «первенствующее место» за Академией Васнецов признает теоретически и главным образом потому, что в Петербурге Эрмитаж, есть возможность учиться у старых великих мастеров. «Выходя из такого взгляда на значение и задачи Академии художеств, – пишет он, – естественно задумываешься о том, насколько она выполняет эти задачи или при каких возможных условиях она могла бы их выполнять. Уже самое обращение к мнениям художников указывает, с одной стороны, что современная постановка дела в Академии не отвечает своей цели, а с другой – указывает на искреннее желание со стороны стоящих во главе управления повести дело возможно правильнее».
Исходя из своего горького опыта, Васнецов усовершенствование академического образования видит прежде всего в вопросе «о преподавателях, как самого существенного, дающего смысл всему делу». Думается, сам подбор слов здесь не случаен. И хотя у Васнецова есть идеал «профессора-преподавателя» – это Чистяков, но значит, и бессмыслицы в преподавании было немало, коли приходится говорить о смысле.
«Второй существенный вопрос для Академии художеств (и, разумеется, для Васнецова. – В. Б.) – составляет поступление учеников, т. е. какая должна быть подготовка учеников в художественном и научном отношении».
Требование среднеобразовательного ценза некогда закрыло академические двери перед родным братом Васнецова, перед талантливым Аполлинарием. Да и сам Виктор Михайлович не закончил курса из-за «хвостов» по общеобразовательным дисциплинам.
Выходец из малоимущих, товарищ Максимова и Куинджи – крестьянина и пастуха, – он за демократическую Академию: «Значительное большинство талантливых русских художников выходит из среды незажиточной и из простых классов. Некоторые из них едва могут достигнуть возможности пробраться в Петербург, и редкие из них на родине в состоянии получить образование в средних учебных заведениях как по недостатку средств, так и по страстному стремлению заниматься исключительно искусством в ущерб образованию…»
Академия – живой деятельный организм, и так как годы ее перевалили во времена Васнецова за столетие, то, естественно, что-то в ее методе устаревало, ветшало, требовало перемен. Перемены эти происходили. Профессорами Академии стали Репин, Куинджи, Серов…
Проблемы выбора целей, жизненных и художественных, вставали и перед Васнецовым. Работы в соборе заканчивались, от преподавательской деятельности отказался, а что дальше?
Прахов, думая о дальнейшей судьбе художника и тревожась, советовал ехать в Италию за новыми художественными впечатлениями, но сам же затевал постройку православного храма в Варшаве и расписывать этот храм предлагал, конечно, Васнецову и, конечно, Нестерову.
Храм этот действительно был построен и расписан. Нестеров от работы в нем отказался, а Васнецов нет… Эскизы для Варшавского храма он написал в 1900–1911 годах, а просуществовал храм только до 1920 года. В Польше Пилсудского всякую добрую память о России вырывали с корнем. Храм с росписями Васнецова был сровнен с землей.
Работа в соборе хоть и убывала, да никак не кончалась. Семья жила в Москве. Без «мамы», как теперь Васнецов называл Александру Владимировну, без детей было ему в Киеве тоскливо и пусто.
«Дорогая, милая моя мама, милые мои детки Таня, Боря, Алеша, Миша и Володюнчик – здравствуйте! – писал он в январе 1893 года. – Как вы поживаете? Будьте непременно все здоровы – гулять тоже непременно ходите и с горы катайтесь, а маму не обижайте и слушайтесь. Боре желаю поскорее выздороветь и помнить, о чем просил… Дневник его поведения, мама, все-таки веди, и надеюсь, что будут все 5… Володюнчику спасибо за картину – прекрасная картина – хочу послать ее на выставку в Чикаго, только сам ли он рисовал ее…»
О выставке в Чикаго – шутка. Художнику Володюнчику было три года. Боре, у которого по поведению имелись не только пятерки, шел тринадцатый, Алеше исполнилось десять, Мише – восемь, Тане было четырнадцать.
По такой детворе как не заскучать? И Виктор Михайлович скучает, по два раза на неделе пишет письма.
«Ухожу на работу в половине 9-го до 12, потом с 3 до 5. Более нельзя еще работать – темно. Устаю к вечеру очень… Никуда не хочется ходить… У Праховых все та же канитель… Посетители ихние, кроме прежних, – всякий неприятный сброд… Тебя-то, голубушка, очень уж жалко – сколько тебе забот, хлопот, боли… Ну, милая, не унывай… люблю тебя! Не грусти, дорогая! Деток моих милых: Таню, Борю, Алешу, Мишу и Володюнчика, – целую крепко! Маму не обижайте и помогайте ей!.. 30 янв. ждут эмира Бухарского в Киев – опять, вероятно, потащат в собор – мешают только».
И еще через несколько дней.
«Скучно, скучно, моя голубушка! Дело тянется-тянется… на дворе все туманы, слякоть, темень! Хоть бы солнышко выглянуло, светлей бы на душе стало».
Ошибся в размерах со «Страшным судом». У Аполлинария неприятности, ни одной его картины не купили на Передвижной выставке.
«Немножко не радует отношение к тебе передвижников, а, впрочем, дуй их горой! – советует старший брат. – На всякое чихание не наздравствуешься. Гораздо важнее холодное отношение к картинам Павла Мих. – это действительно стоит задумчивости… Не следует готовить к выставке и ставить много картин, более двух больших ни в коем случае не следует ставить…»
Кончилась еще одна киевская зима. А весна на Украине прекрасна. Работа начала спориться, и настроение поднялось.
«Радуюсь поступлению Алеши в гимназию, – пишет Виктор Михайлович 23 мая. – Поздравляю его с таким важным шагом в жизни!.. А еще более поздравить с успехом должно тебя, моя дорогая Шура, за твой труд и терпение – троих подготовить в гимназию – не шутка!..»
С весною прибыло света, работы и помех… Поглядеть собор явился один из великих князей. Следом знакомый из Вятки. Этот не только для просмотра, по и с настойчивым предложением написать для иконостаса вятского собора Александра Невского ни много ни мало – шестьдесят два образа!
И хоть это заказ земляков, пришлось отказывать.
Но слава была уже очень велика, спрос на Васнецова все возрастал.
Для Георгиевской церкви в Гусь-Хрустальном Виктор Михайлович написал четыре огромных холста: «Голгофу», «Сошествие во ад», «Страшный суд», «Евхаристию». Кроме того, для алтаря им исполнен эскиз мозаики «О тебе радуется благодатная» и рисунок бронзового иконостаса с эмалью. Десять лет отдал Васнецов этой работе, а сохранилось из оригиналов только два произведения: уже в наши дни восстановлены «Страшный суд» и мозаика «О тебе радуется».
Создавал Виктор Михайлович иконы и картины для собора Александра Невского в Софии, для церкви в Дармштадте. Писал образа по заказу царской семьи для коронационных и свадебных торжеств, откликался и на иные заказы религиозного содержания. Большинство этих работ разошлись по белу свету, а среди них есть произведения замечательные. Сужу по голове Иисуса Христа в терновом венке, которую видел у К. П. Вендланда.
Много, очень много сил забрала у Васнецова религиозная живопись.
Молодой Нестеров уже на лесах Владимирского собора понял: втянуться в религиозную живопись – значит обречь себя на художественную немочь. Васнецов же, при всей мудрости, думал иначе. Он, видимо, настолько уверовал в могущество своего таланта, что пытался увлечь русских атеистов своим искусством.
Еще продолжалась работа в Киеве, а Виктор Михайлович был готов взвалить на себя роспись Воскресенского собора в Петербурге. Воскресенского собора Васнецову целиком не дали. Можно только радоваться, что комитет, сославшись на малые средства, предложил художнику исполнить местные образа для иконостаса.
Увлечение Васнецовым рождало множество заказов. Художник жил и работал в постоянной спешке – вечный должник. Не успевал исполнить один заказ и уже начинал другой.
Нестеров, несмотря ни на что все-таки очень любивший Васнецова, не мог ему простить ни застоя в его церковных работах, ни тем более попустительства по отношению к собственному таланту. О церковности Васнецова, о его общественной позиции он говорил очень резко и ядовито. Вот выдержки из письма к Середину: «Сообщение Ваше о В. М. Васнецове меня порадовало, видимо, человек стряхнул с себя обузу труда да к тому же и снял свое „архиерейское облачение“, оно совсем его задавило, как бедную голову Бориса шапка Мономаха. Из когда-то милого, живого, увлекательного и увлекающегося – он в Москве у себя стал олицетворением „Московских ведомостей“, да хорошо бы если времен Каткова – а то нет…»
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |