"Школа победителей Они стояли насмерть" - читать интересную книгу автора (Селянкин Олег Константинович)
Глава первая ПРИГОТОВИШКИ
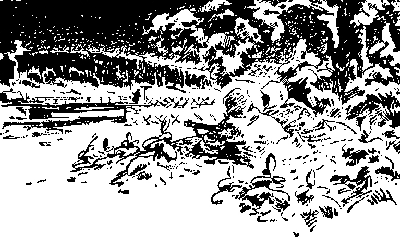 |
Нависло над землей небо, обесцвеченное зноем. Пыль легла на деревья, застывшие в немой печали у дороги, и серыми стали листья. Поникли ветви, словно невидимый груз клонил их к земле, потрескавшейся от жары. Даже одинокая ромашка, подкравшаяся к самой дороге еще весной, склонила к примятой ногами траве свой желтый венчик с несколькими уцелевшими белыми лепестками.
По обочине дороги, в тени деревьев, вытянувшись цепочкой, шел батальон морской пехоты. По загорелым лицам матросов струился пот, стекал на фланелевые рубахи, и они покрылись серыми пятнами. У многих бескозырки и фуражки были сдвинуты на затылок. Автоматные диски и гранаты оттягивали ремни.
Моряки шли, немного наклонившись вперед и покачиваясь. Та же пыль, что покрывала деревья, лежала толстым слоем на обочине дороги и глушила шаги. Было слышно только мерное дыхание людей, да изредка звякал приклад автомата, ударившись о диски.
Кажется, что слишком медленно идет батальон, что устали матросы и вот-вот кто-нибудь из них опустится на землю. Но это только кажется. Несколько дней назад, так же вразвалку, вышел батальон из Ленинграда и с тех пор Не меняет темпа, по-прежнему упрямо движется вперед, оставляя позади десятки километров, проходя мимо встревоженных деревень.
— Слава богу! Пошли морячки — конец фашисту! — не раз слышали моряки за своей спиной старческий шёпот, и вроде бы меньше болели потертые ноги, меньше резал плечо ремень автомата.
Впереди батальона идет высокий, немного сутуловатый командир первого взвода лейтенант Норкин. Китель его распахнут, и видна влажная от пота грудь. Лейтенант изредка оборачивается назад и смотрит на матросов В углах их ртов собралась пыль. Она темными полосками обозначила морщины на лбу и складки на шее. С каждым часом все больше пыли на лицах, все глубже становятся морщины, но по-прежнему спокойно, уверенно смотрят на лейтенанта и голубые, и серые, и карие глаза, по-прежнему нет в них ни усталости, ни упрека за то, что он ведет их жарким полднем по пыльной дороге, и снова лейтенант идет вперед, положив руку на пыльный ствол автомата.
А дорога все вьется по отлогим холмам, изредка ныряет в лесочки и снова выползает на солнцепек. Кажется, не будет ей ни конца, ни краю. Еще сегодня утром встречались беженцы, санитарные машины, а сейчас нет никого. Будто вымерло все вокруг. От этого ещё тоскливее становится на душе.
Вот лейтенант шагнул на дорогу, нагнулся и поднял что-то. В его руках обыкновенная тряпичная кукла. Не мигая смотрят ее вечно открытые глаза дикого цвета. Нос, словно от загара, облупился. Тело куклы грязное, на нем отчетливо виден след колеса. Лейтенант подержал ее в руках и бережно положил на траву. Молча проходят матросы мимо куклы, бросают на нее взгляд и отворачиваются. Тяжело видеть ее здесь, на дороге, в пыли. Ведь у каждого она вызывает теплые воспоминания о доме, родных. И невольно думают моряки: где хозяйка куклы? Может быть, сидит на тарахтящей телеге, трет кулачками глаза и всхлипывает. А может быть, мимо ее могильного холмика, выросшего около воронки от бомбы, недавно прошли моряки?
Много различных предположений, но ни одного радостного.
Наконец, батальон свернул с дороги в лес и остановился. Матросы попадали в тень, а командиры собрались вокруг капитан-лейтенанта Кулакова. Он сидел, поджав под себя ноги, и гладил ладонью карту, разложенную на пне. На его худощавом лице с большим прямым носом не было заметно усталости, словно не шел он с батальоном в жару по пыльной дороге. Только орден Красной Звезды, полученный за финскую кампанию, подернулся дымкой пыли и немного повернулся, сдвинутый с обычного места ремнем автомата.
И хотя лицо командира батальона, как всегда, было спокойно, глаза налились усталостью и тоской. Трудно Кулакову, ой как трудно… Ведь почти двадцать лет отдал он флоту, все время служил на подводных лодках, и вдруг стал командиром батальона морской пехоты!
И если на подводных лодках ему все было ясно, привычно, то здесь, что ни час, — открытие, новая загадка сухопутной тактики. Взять хотя бы сегодняшний переход. Еще утром нашел Кулакова связной командира бригады и передал приказ выйти к деревне Ломахи. Кажется, чего проще: получил приказ — ну и трогайся к месту назначения. Будь это на подводной лодке, Кулаков бы не волновался, а тут — сразу вопросы, сомнения. Прежде всего — как идти? Ведь пехота соблюдает какой-то режим. Прошли немного — отдых, и опять переход до следующего привала. А когда отдыхать, когда привалы делать? Через час или когда люди устанут?
Правда, с этим еще можно мириться: матросы будут идти до тех пор, пока им не прикажешь остановиться. А как вот найти дорогу, по которой тебе нужно двигаться? На весь батальон только одна карта и есть. Да и на ней не все деревни и дороги обозначены. Дойдешь до перекрестка — и гадай, в какую сторону тебе поворачивать.
Нужна помощь, да где ее получишь? От начальства в этой горячке слова путного не добьешься, а командиры рот и взводов в батальоне — тоже подводники и пришли в батальон вместе со своими матросами. Им, как и Кулакову, все здесь казалось странным, необычным: и эти длинные переходы, и автоматы, и «правое плечо… марш!» — вместо привычного, понятного: «Лево руля!»
Больше же всего Кулакова угнетало то, что батальон шел к фронту, где должен был встретиться с врагом, врагом жестоким и, главное, — умеющим воевать. Как и где произойдет эта встреча? Не угадаешь. Пока ясно одно: батальон не побежит вспять, не опозорит себя. А победит ли… Мало вероятно, хотя он и большая сила. Ведь он весь вооружен автоматами, кроме того имеет специальный пулеметный взвод и даже гаубичную батарею. И это в то время, когда в некоторых частях еще и не видали автомата!
Сила большая, но и ответственность немалая. Надо бы учиться, да некогда: батальон все идет, идет вперед. Времени только для сна хватает.
Все понимал Кулаков, не льстил себя надеждами, а поэтому и хмурился, глядя на единственную в батальоне карту.
А что лицо у него было спокойным — привычка, оставшаяся от службы на подводных лодках. Там очень часто бывает так, что только командир, смотрящий в перископ, знает, что творится на поверхности моря, только по его лицу и могут узнать матросы, угрожает ли лодке опасность. Дрогнет лицо командира — переглянутся матросы, и страх перед неведомой опасностью заползет в их души, менее четкими и уверенными станут движения. Значит остается одно: пусть ты даже видишь, что через несколько секунд острый нос корабля противника может разрезать твою лодку, но не только дрогнуть — даже подумать об этом не имеешь права!
— Нам приказано занять оборону здесь, — наконец сказал Кулаков и провел пальцем с коротко остриженным ногтем по голубой полоске реки, пересекавшей карту.
Командиры сгрудились вокруг него, склонились над картой. Кто-то положил руку на плечо Кулакова, но он не сбросил ее, не сделал замечания: не такое сейчас время, чтобы к мелочам придираться.
Норкин тоже смотрел на карту. Зеленые пятна лесов, луга и несколько прямоугольников с надписью: «д. Ломахи». Не привык он еще, как и его товарищи, к этим картам. Там, где армейский командир видел, понимал всё, моряки замечали только краску, яркую, но мало говорящую краску. А ведь Норкин, который в финскую войну был рядовым в морской пехоте, считался в батальоне специалистом по вопросам сухопутной тактики.
Вот поэтому к нему и обратился Кулаков:
— Сходи-ка, дорогой мой, и взгляни, что там наворочено. Уж больно не люблю я картам верить… Сделай набросок местности и дай соображения о расположении на ней огневых точек. А вы, — Кулаков повернулся к остальным командирам, — объясните краснофлотцам, что мы здесь должны создать рубеж обороны и обжить его. Ночью начнем рыть окопы и до появления противника будем в них нести караул… Ты, дорогой мой, иди, куда приказано!..
Сделав несколько шагов, Норкин оглянулся и заметил, как Кулаков достал из кармана кителя «Боевой устав пехоты» и положил его на карту.
«Сегодня занятия без меня состоятся», — с радостью подумал Норкин, отдал свой автомат связному и быстро зашагал к виднеющимся за пригорком домам деревни.
Лес остался позади, и слабый ветерок перебирал мокрые от пота волосы, играл ими. Высоко в небе заливался жаворонок. Норкин видел его трепещущие, словно прозрачные крылья. И вдруг жаворонок почти отвесно упал на землю и исчез в траве: из-за леса, чуть шевеля крыльями, бесшумно, как корабль под парусами, выплыл ястреб. Он сделал круг над полем, поднялся выше. Стихли птичьи голоса, притаилось все живое. Только выцветшие васильки тихонько покачивались на своих тонких стеблях.
Большое поле разорвано трещиной с крутыми стенками, а между ними и течет речушка, которая обозначена на карте такой голубой краской. С обрыва, на котором остановился Норкин, хорошо видны мелкие камни, устилающие дно. Вода, искрясь, пробегает над ними. На самой середине речки стоит теленок и, отмахиваясь хвостом от надоедливых слепней, пьет воду, низко опустив свою безрогую голову.
«Вот это глубина! — подумал Михаил. — И штанов снимать не надо, чтобы перебраться через речку!»
А за рекой — серая лента шоссе. По нему и может прийти враг. Значит, река, хоть и не совсем надежная, но преграда. Танки могут перейти ее только по единственному мосту, а его всегда можно заминировать, даже взорвать.
Довольный осмотром, Норкин уселся на берегу под тенистым тополем, вынул из кармана тетрадь и начал рисовать. Вдруг над самым его ухом раздался звонкий голос:
— Не шевелись! Стрелять будем!
Норкин вздрогнул от неожиданности и оглянулся. У него за спиной стояли два парня и девушка, а перед самым лицом его чуть вздрагивали стволы берданки и малокалиберной винтовки.
— Уберите ваши «пушки». Я бежать не собираюсь, — как можно небрежнее сказал Норкин, стараясь казаться спокойным, хотя ему было и стыдно за свою беспечность, и боязно под мертвящим взглядом широкого дула берданки.
«Прямо хоть картину пиши: «Юные колхозники поймали шпиона», — подумал он.
— Покажите ваши документы! — сказала девушка чуть дрожащим голосом.
Норкин пожал плечами, словно хотел сказать этим движением: «Зачем такие формальности?» — и полез в карман за удостоверением личности. Ствол берданки тотчас угрожающе приподнялся и снова девушка крикнула:
— Не шевели руками! Стреляю!
— Так что вы мне прикажете делать? — вспылил лейтенант. — Документы показывать или сидеть сложив руки?.. А вообще, уберите ваши «автоматы», пока я не послал вас к черту!
Девушка покраснела так, что не стало видно веснушек, раскинувших свой лагерь на ее вздернутом носу, открыла рот, чтобы ответить, но один из парней тронул ее за локоть и прошептал:
— Помолчи, Маша. Опять сказанешь…
И как это часто бывает в нужный момент, Норкин долго не мог найти удостоверение. Он несколько раз похлопал себя по всем карманам, заглянул под подкладку фуражки, но оно словно сквозь землю провалилось. Было страшно неловко чувствовать на себе настороженные, недоверчивые взгляды ребят, и Норкин покраснел еще больше. Только того и не хватало, чтобы его под конвоем отвели в милицию…
Осмотрев все, Михаил развел руками и, подыскивая слова оправдания, смущенно посмотрел на ребят. В это время тетрадка соскользнула с его колен и из нее выпала маленькая книжечка с золотым якорьком.
— Пожалуйста, читайте;
Три головы сблизились, почти соприкасались. На Норкина больше не обращали внимания, он воспользовался этим, встал, застегнул китель и начал бесцеремонно рассматривать патруль. Босые ноги девушки в свежих царапинах. На смуглом, загорелом лице — яркие пятна веснушек. Только лоб, там, где его обычно закрывал платок, был белый. Девушка внимательно читала удостоверение, чуть шевеля припухлыми губами.
Парни, переходя речку, видимо не снимали ботинок и к их мокрому верху прилипла трава. Берданка и малокалиберная винтовка тупо уставились стволами в землю.
Удостоверение просмотрели от корочки до корочки. Парень в голубой майке облегченно вздохнул, закинул винтовку за плечо и теперь уже с уважением и некоторой долей зависти смотрел на лейтенанта. На лице девушки были заметны смущение и даже разочарование. Она, наверное, искренне сожалела, что этот лейтенант настоящий, что он не переодетый шпион.
— Вы не сердитесь, товарищ, — сказала девушка, возвращая удостоверение. — Сидим мы в правлении, вон в том домике за рекой, и видим, как подошел к берегу человек, осмотрелся, сел и записывает что-то… Не могли мы иначе!
У Норкина раздражение прошло, он уже не сердился. Ему было только стыдно, что он, лейтенант флота, оказался так неосторожен, невнимателен, и его задержали простые ребята, которые и о военной-то службе понятия не имеют.
«Чтб бы им сказать такое?» — думал Норкин, пряча удостоверение в карман кителя.
— Хорошо… Хорошо, что вы так внимательно следите за всем, — начал он после небольшой паузы. — Только спокойнее надо. Вон Маша растерялась и кричит: «Документы давай, а руками не шевели!..» И вы тоже хороши, — повернулся он к парням. — Прижались к ней, оружие опустили и за мной не следите. От вас настоящий шпион запросто удерет! — закончил Норкин и улыбнулся, довольный, что нашел ошибки и у них.
Больше приключений не было, и, выполнив задание Кулакова, Норкин вернулся к батальону. А ночью, когда лес начал казаться сплошной, непроходимой черной стеной, из него к берегу реки потянулись цепочки матросов.
Для окопов своего взвода Норкин выбрал высокий обрыв, поросший лесом. Никто не оспаривал у него этого места, так как формально он был прав: взвод Норкина первый, ну, ему и быть на самом правом фланге. Однако Норкин думал о другом, обосновываясь здесь. Он знал, что раз противник движется по шоссе, то не миновать ему моста, у которого расположились пулеметчики. Значит, наткнувшись на плотный огонь, фашисты собьются в кучу, замечутся около моста и домика правления. Вот тогда и покажет взвод Норкина, на что он способен! Ведь его окопы немного выдвинуты вперед и нависают над флангом врага.
Кроме того, в лесу легче и замаскировать окопы. Не так много жертв будет.
Матросы за работу взялись дружно. Комья земли один за другим падали на бруствер и окоп рождался на глазах. В темноте изредка мелькали огоньки папирос да звякали лопаты, ударившись о случайный камень.
Норкин еще раз осмотрел работы, вышел на пригорок и лег на спину, закинув руки за голову. Теплый ветерок чуть шелестел листвой деревьев, и если бы не звон лопат и не тревожные гудки машин на шоссе, то и не похоже было бы на войну. Ночь, обыкновенная июльская ночь.
Норкин тяжело вздохнул. Не будь этих проклятых фашистов — не горели бы сейчас родные деревни и города, не корчились бы в удушливом дыму листья деревьев, спокойно бы спал народ и счастливыми были бы глаза многих матерей.
А Норкин… Норкин не лежал бы сейчас на земле, не отмахивался бы веточкой от надоедливых комаров в ожидании того часа, когда придет его черед встретиться с врагом.
Как все неожиданно переменилось! Еще недавно ходил по отсекам подводной лодки, мечтал на ней выйти в море, и вдруг оказался здесь, в нескольких километрах от него. Не морской прибой, а жалкая речушка чуть лепечет рядом…
Невольно вспомнился тот день, когда все так неожиданно переменилось. Начался он обычно: подъем, физзарядка, завтрак… А в самый разгар работ раздался сигнал боевой тревоги. Построились быстро, бесшумно. Немного погодя пришел командир бригады.
— Товарищи! — сказал он, и Норкину показалось, что контр-адмирал говорит для него, Норкина, с его лица не спускает своих пытливых глаз. — Вы знаете, что враг напал на нас внезапно, коварно… Он с кровавыми боями продвигается вперед… Наши вооруженные силы вышли ему навстречу, но еще больше их готовится к боям…
Больше ничего Норкин не запомнил из этой короткой речи, но понял главное: армии здброво достается, она изнемогает в неравной борьбе и моряки должны помочь ей, уничтожать воздушные десанты противника, если они появятся в ее тылу.
И зашагал батальон подводников по дорогам войны. С противником он пока не встречался, десантов не уничтожал, и моряки очень обижались, что их все время задерживают у различных деревень, не пускают на фронт. Они искренне думали, что успехи фашистской армии временные, что еще несколько дней, недель — и остановят ее, погонят назад, а батальон расформируют. Ведь не напрасно же столько лет твердили везде и всегда, что враг будет разбит быстро и без особого напряжения! Случись так — вернется батальон в Ленинград, и хоть ложись и умирай от насмешек: на фронт ходили, а врага и в глаза не видывали! Много на кораблях осталось завистников…
Лишь одно успокаивало нетерпеливых моряков: батальон сменил уже несколько позиций и неуклонно приближался к фронту, который стремительно шел на сближение с ним.
— Разрешите обратиться, товарищ лейтенант? — раздался рядом голос связного Ольхова.
— Обращайтесь, — ответил Норкин и сел.
Ольхов опустился на корточки и сказал уже просто, по-домашнему:
— Мы ждем вас.
— А окопы готовы?
— С перекрытием! — торопливо ответил Ольхов.
— Сейчас проверим, — сказал Норкин и легко, пружин нисто вскочил на ноги. Начиналась его работа. Еще в первую ночь после ухода из Ленинграда, когда всем надоело бесплодное ожидание чего-то, Норкин начал пересказывать Ольхову содержание «Овода». Начал лишь потому, что скучно ему было, и потому, что Ольхов, пришедший во флот из далекого рыбацкого колхоза, очень мало прочел книг и с жадностью набрасывался на любую. Это понравилось лейтенанту еще на подводной лодке, и он тогда же взял над ним своеобразное шефство: рекомендовал книги и помогал разобраться в прочитанном. Так началась их простая, бесхитростная дружба. Теперь он думал только продолжить начатое, но когда закончил рассказ, то вокруг него сидел уже весь взвод.
С той ночи и выработался твердый распорядок: матросы рыли окопы, лейтенант принимал работу, а потом рассказывал. Откровенно говоря, проверка окопов много времени не занимала и была простой формальностью, так как матросы работали на совесть. Лишь однажды, вырыв окопы, они не закрыли их бревнами. Сделали так — и закаялись: вместо рассказа матросов ждал такой нагоняй, что они больше не делали попыток обмануть лейтенанта.
— О чем сегодня разговор будет? — осторожно спросил Норкин, подходя к темнеющей щели окопа.
Ольхов немного помялся и ответил:
— Если вообще можно, то об училище… Там правила приема, учеба и прочее… Некоторые после войны туда поступить хотят.
Норкин украдкой облегченно вздохнул: уж о чем, о чем, а об училище он мог рассказать. Четыре года провел в его стенах, из тех же окон, что и Нахимов, смотрел на Неву. А то в прошлый раз попросили рассказать о Дарвине. Вот тут пришлось попотеть! Спасибо Кулакову: вызвал к себе и спас от позора.
— Вот проверю все, тогда и расскажу, — сказал Норкин.
Тщетно Михаил искал недостатки: придраться было не к чему, и, неопределенно хмыкнув, он сдвинул фуражку на затылок. Только одно движение, а матросы поняли, что официальная часть окончена, и матрос Богуш спросил, смеясь черными, немного навыкате, глазами:
— Прикажете играть большой сбор?
— Воздух! Левый борт, курсовой пятнадцать! Юнкерсы! — вдруг раздался крик наблюдателя. Не было здесь ни носа корабля, ни кормы, но матрос, как на корабле, точно указывал борт: нос — направление на противника. Не повернется матрос к врагу ни боком, ни спиной.
— По местам! — скомандовал Норкин и спрыгнул в вырытую для него ячейку.
В начавшем розоветь небе отчетливо видны фашистские самолеты. Выдвинутые вперед моторы и шасси, закрытые обтекателями, делают их похожими на хищных птиц.
До самолетов еще далеко, и Норкин высунулся из окопа. Берег реки ощетинился стволами пулеметов, снайперских винтовок и автоматов. Батальон был готов к бою.
Обычно самолеты проходили стороной или проплывали над окопами на большой высоте, но сегодня первый из них неожиданно повалился на крыло и понесся к земле, поливая ее из пулеметов. И сразу утренней, предрассветной тишины как не бывало: вслед за первым вошли в пике второй, третий, четвертый, а навстречу им из окопов затрещали автоматные и пулеметные очереди.
Вихрем пронеслись самолеты над речкой, поднялись, вновь построились и степенно, не торопясь, потянулись на восток.
— Вот гад! Ни одного не сбили! — злобно выругался кто-то.
— Да нешто его из такой фукалки достанешь? — оправдывался другой, пренебрежительно поглядывая на свой автомат. — Мне бы сюда мою пушку. Я бы им мигом мозги вправил!..
Самолеты больше не показывались, и, — едва первые солнечные лучи упали на землю, — так же бесшумно, как и появились здесь, матросы ушли в лес. Только извилистый желтый вал бруствера да пустые консервные банки напоминали о том, что еще недавно здесь были, работали люди.
Норкин снял ботинки и только теперь по-настоящему почувствовал, как горят его ноги. Трава, покрытая росой, хорошо освежает, и он трет ею ступни. Вокруг знакомая картина, которую можно видеть каждый день: матросы чистят оружие, делают шалаши или на маленьких кострах разогревают завтрак. Но большинство спит под деревьями. На земле ненужными котелками валяются каски, надоевшие за ночь.
Рядом с Норкиным сидит Ольхов. Его белые брови светлыми, золотистыми полосками выделяются на загорелом широком лице. Днем и ночью Ольхов находится рядом со своим лейтенантом, хотя они почти и не разговаривают между собой. Изредка бросит Норкин приказание, взглянет Ольхов в голубые глаза командира, спокойно ответит: «Есть!» — и можно не сомневаться: приказание будет выполнено немедленно и точно.
Сейчас он чистит автомат лейтенанта.
Вдруг кусты затрещали, расступились и на поляну вышел краснофлотец Любченко. На его плече лежала сухая елка. Остановившись около костра, Любченко сбросил дерево на землю и сказал, усаживаясь в тень:
— Теперь, Ольхов, тебе дров хватит? Бачил, бачил, да больше ничего, не було.
— Видали, товарищ лейтенант, моих помощничков? «Больше не було»! Да и этого дерева на неделю хватит!
— А нехай и на неделю, — флегматично заметил Любченко, растянулся на земле, а еще через минуту и захрапел.
Любченко тоже был торпедистом с лодки Норкина. Про его силу ходили анекдоты, но после одного случая он окончательно завоевал всеобщее признание. В тот день, когда это произошло, в гости к подводникам пришли армейцы. Поговорили о международном положении, о книгах, домашних делах, а потом кто-то запел песню. Так и начался смотр самодеятельности. Здесь не было выделенного по приказу жюри: сами слушатели оценивали каждый номер. Давно уже отошли в сторону охрипшие певцы и мокрые танцоры, а на гимнастических снарядах все еще мелькали синие матросские воротники и зеленые гимнастерки. Победа уже начала склоняться на сторону моряков, когда, бесцеремонно растолкав локтями зрителей, в центр круга вышел коренастый красноармеец и легко, играючи, несколько раз выжал гирю. Многие матросы подымали ее, но так легко, непринужденно — никто. Наступило молчание. Тогда и появился Любченко. Он не спеша вышел в круг, поправил бескозырку, сбившуюся набок, и, словно буханку хлеба, поднял гирю до уровня своей груди. Его вытянутая рука застыла горизонтально. На ладони, как в чаше, лежала гиря. Любченко стоял спокойно. Только побелевшие пальцы да лицо, начавшее краснеть от натуги, говорили о том, что он держит груз. Прошло несколько секунд, и, слегка качнув гирю, он отбросил ее в сторону, а потом сказал:
— В ней, братцы, нет двух пудов, фальшивая, — и ушел.
Конечно, после этого гирю взвешивали несколько раз и не могли найти подтверждения его словам. Но победа была одержана, и моряки были довольны…
Вот этот Любченко и спал сейчас рядом под кустом.
Норкин, дав ногам немного отдохнуть, встал, прошелся между шалашами взвода, проверил посты, потом лег и только начал было засыпать, как у его головы хрустнула ветка и раздался знакомый немного хрипловатый голос краснофлотца Богуша:
— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?
— Обращайтесь, Богуш, — ответил Норкин и нexoтя сел.
— Там, мимо нашей базы, кто-то идет.
Михаил пристально посмотрел в глаза Богуша. Дело все в том, что среди подводников Богуш слыл затейником, страстным любителем шуток. Артист одного из белорусских театров, во флоте он быстро освоил специальность торпедиста, стал подтянут, более выдержан, но с шутками не расстался, и редко на лодках проходил день, когда бы он кого-нибудь не разыграл. Этому немало способствовало и то, что подводники жили все вместе, все время были друг у друга на виду. В свободное время матросы и командиры запросто беседовали, играли, вышучивали друг друга, как члены одной большой и очень дружной семьи.
Вот поэтому Норкин и вглядывался в чуть смеющиеся черные глаза Богуша, стараясь угадать, шутит он или говорит серьезно. Ничего подозрительного лейтенант не обнаружил, но на всякий случай ответил:
— И пусть себе топает мимо.
— Да нет! Вы думаете, я шучу? Понимаете… подозрительный он! Одет в синий комбинезон, в руках немецкая винтовка. Идет крадучись около кустов, а глазами так по сторонам и стреляет!.. Наши следят за ним, а я к вам с докладом.
Норкин, как и другие, слышал много рассказов о том, что фашисты повсюду забрасывают своих шпионов, готов был в каждом прохожем заподозрить диверсанта, а поэтому, выслушав Богуша, вскочил, потянулся было за автоматом, но терять время на его сборку не захотел, махнул рукой и сказал:
— Веди!
Несколько матросов, схватив оружие, побежали следом.
Действительно, от куста к кусту, временами останавливаясь и прислушиваясь, мимо леска, занятого моряками, пробирался человек. В каждом его движении были заметны настороженность, готовность в любую минуту отпрянуть в сторону, вскинуть винтовку и выстрелить.
Норкин посмотрел на матросов. Они с интересом наблюдали за незнакомцем. Да это и было понятно: вот она, первая встреча с врагом! Некоторые нетерпеливо поглядывали на лейтенанта. Он был для них сейчас не просто командир, но и человек с опытом войны на суше, человек, знающий, как нужно поступать в подобных случаях. А Норкин ничего не мог придумать лучше, как выйти из кустов. Незнакомец оглянулся, увидел его, вскинул винтовку и закричал:
— Стой! Не подходи! Убью!
— Я и так стою. А ты чего бежишь? Давай поговорим. Видишь, я без оружия.
Незнакомец в нерешительности остановился. Ствол его винтовки то подымался, то опускался.
— Кто ты такой? — спросил Норкин, доставая из кармана папироску и делая шаг вперед.
— А ты кто такой?
— По форме видишь — моряк.
— Нечего здесь морякам делать!
— Иди, проверь документы.
— Нет, ты иди сюда!
— Хорошо, — и Норкин сделал еще несколько шагов.
Но незнакомец не стал ждать его и побежал. Дальнейшего Норкин никогда не мог объяснить: словно какая-то сила подтолкнула его, и он тоже побежал. Ему, босому, бежать было легко, и расстояние быстро сокращалось. Рядом тяжело топали матросы. Незнакомец неожиданно задержался на секунду, обернулся, вскинул винтовку и выстрелил. Пуля просвистела совсем близко, но мысль, что она могла убить, почему-то не пришла в голову, и, прижав локти к бокам, Норкин побежал еще быстрее. Ему нужно было во что бы то ни стало догнать человека в синем комбинезоне, и он старался изо всех сил.
— Стрельну? — крикнул на бегу Богуш.
— В воздух! — ответил Норкин.
На автоматную очередь незнакомец опять ответил выстрелом, и снова пуля пропела над головой.
— В него? — вновь спросил Богуш.
Норкин не успел ответить: из кустов наперерез бегущему выскочил здоровый матрос, вырвал у него винтовку и ударил его кулаком по голове. Незнакомец вскрикнул, упал на траву. Матрос сел на него.
— Чисто Любченко работает, — позавидовал кто-то из матросов.
— Взял, — сидя на груди незнакомца и простодушно улыбаясь, кратко доложил Любченко.
— Молодец, Любченко! Веди к комбату, — распорядился довольный Норкин.
— Идем, немчура, — беззлобно сказал Любченко и встряхнул незнакомца за шиворот.
— Пусти! Ты сам фашист! — истерично крикнул тот, пытаясь вырваться из сжавшей его клешни.
— Но-но! Полегче! Как дам разок — сразу перестанешь ругаться! — и Любченко угрожающе приподнял свой огромный кулак.
Перед капитан-лейтенантом Кулаковым стоит Норкин. С чубчиком, выбившимся из-под фуражки, хоть и босой, он стоит спокойно, довольный собой, и косится налево, где, метрах в пятидесяти, сидит человек в комбинезоне.
— Значит, дорогой мой, он стреляет, а ты бежишь? — спрашивает Кулаков и, как кажется Норкину, ласково смотрит на него.
— Так точно, товарищ, капитан-лейтенант!
— И не боялся, что убьет?
— Никак нет!
— Не обижайся на правду, но ты дурак изрядный! — так же спокойно продолжает Кулаков. — Стоишь небось и думаешь: «Я герой! Под пулей головы не склонил!» Уж не мечтаешь ли, что я к ордену тебя представлю?.. Дудки! Не дождешься, дорогой мой, не дождешься! Зачем без оружия пошел? Почему краснофлотцев не послал? Командиров у нас лишка? Не затем тебя партия поднимала до командира, чтобы ты головой дурацкую пулю ловил!.. И вообще мне поговорить с тобой надо. Нехорошим душком от тебя попахивать начинает.
Норкин удивленно приподнял брови, хотел возразить, потом решил, что спорить — только злить начальство, и промолчал, пожав плечами.
— А ты плечиками не поводи! Не поводи! — повысил голос Кулаков. — Ты лучше ответь мне на такой вопрос… Почему твой взвод окопался на правом фланге?
— Так он же самый правый, — неуверенно и немного краснея, ответил Норкин.
— И только? — спросил Кулаков, хитро прищурясь.
Норкин не мог выдержать этого насмешливого, всё понимающего взгляда и опустил глаза на свои босые ноги. И если сначала он даже гордился тем, что был босой, то теперь кровь еще сильнее хлынула к лицу.
— Нет, дорогой мой! Меня, старого воробья, на мякине не проведешь! Я тебя насквозь вижу!.. Местечко для взвода с умом выбрал! Противник на товарища навалится, а ты противнику в бок?.. Товарищу — синяки и шишки, а тебе — пироги и пышки?.. Думал, что комбат — лопух, в сухопутной тактике не разберется? Так я говорю?
— Я ведь не для себя, для дела…
— Для дела, говоришь?.. Скажи, кто в штормовую ночь на вахте стоит?
— Ну, командир лодки…
— А почему? Ему мокнуть и мерзнуть больше всех хочется?
— Он опытнее…
— Во! — Кулаков ткнул пальцем в Норкина и подошел к нему вплотную. — Товарищи твои новички, а ты в финскую на фронте был. Значит, ты, хоть немного, но опытнее. Понял? Немного, вот на столечко, — Кулаков показал самый кончик своего мизинца. — Для пользы дела где должно было быть твое место? У моста!.. Понял?.. Подумай на досуге, а сейчас иди!.. Смотреть на тебя тошно!
И, забыв даже козырнуть, Норкин пошел к своему взводу. Теперь ветки кололи ноги, а во взглядах встречных матросов он видел не только восхищение его «подвигом», но и осуждение. Да, Кулаков имел право так говорить с Норкиным. Не как командир, а как старший товарищ, более опытный товарищ: Михаил учился вместе с младшим братом Кулакова — Борисом, и не один раз запросто разговаривал с Николаем Николаевичем, делился с ним своими планами, выслушивал его советы. Будь на месте Кулакова другой командир — может быть, и обиделся бы Норкин за грубоватую прямоту слов, а на него — не мог. Он верил ему, считал его правым. И поэтому, когда из-за дерева выскочил лейтенант Селиванов и, обняв Норкина, сказал:
— Молодец, Мишка! Рад за тебя! Ты, конечно, виноват, что сам побежал… Но ты не струсил под пулями и этим искупил свою вину! — Норкин оттолкнул его и бросил:
— Пошел ты…
Леня говорил еще что-то, но в ушах Норкина звучали слова Кулакова: «Подумай на досуге…»
— А ты кто будешь? — спрашивал тем временем Кулаков человека в комбинезоне.
— С аэродрома… Моторист…
— Почему стрелял по командиру?
— Я… Я думал, что он немец…
— Почему тогда не убил?
— Я думал… наш он…
— Думал, думал! — передразнил моториста Кулаков. — Сразу думать надо было! Решил, что это наш— остановись, предъяви документы! Думаешь — фашист — так бей в сердце!.. А у тебя всё одно: «Я думал, я думал»! У-у, многодум!.. Пристрелили бы они тебя и делу конец… Документы не предъявил? Стрелял?
— Больше не буду…
— А ты попробуй! Я этому командиру выговор влепил! Теперь он при таких встречах только автоматом разговаривать будет!.. Где ты взял эту чертову винтовку?
— Позавчера из Литвы приехал и привез… В бою взял…
— Вот видишь! В бою оружие у врага отобрал, а у себя дома перетрусил! Попал с фронта в тыл и теряешься… Отправлю тебя с провожатым в часть… Донцов! Проводи в часть и расскажи командиру про его геройство…
«Подумай на досуге», — сказал Кулаков. Норкин лежит под кустом, притворяется спящим, а сам всё думает, думает. Тысячу раз прав Кулаков!..
Невольно встает перед глазами маленький уральский городок. Он, как в чаше, скрылся среди обступивших его гор. И над этой чашей почти всегда не голубое безоблачное небо, а плотная крыша из клубящегося дыма. Да и как ему не быть? Дымит завод, дымят многочисленные паровозы, углежоги, дымят маленькие домики, прилепившиеся к склонам гор.
По мостовой, лоснящейся от жидкой грязи, в больших дедовских сапогах с загнутыми носками идет длинный, тощий паренек. Это он, Миша Норкин. Конечно, не совсем приятно ученику седьмого класса ходить в такой обуви, но ничего не поделаешь, приходится терпеть: мать-пенсионерка и так выбивается из сил, чтобы одеть и прокормить его. Даже брюки сшиты из ее пальто.
И все-таки хорошо жить! И мама хорошая, и товарищи хорошие. А школа? Учителя?
Окончив семь классов, заупрямился Миша, не хотел больше учиться. «Сам буду на хлеб зарабатывать!»—решил он. Но едва успел сходить в депо и спросить насчет работы, как пришла пионервожатая и сказала:
— А мы, Миша, нашли тебе работу.
У Михаила глаза расширились от удивления. Он думал, что его пришли отговаривать, а тут…
— И знаешь, какую? — продолжала вожатая, словно не замечая растерянности Михаила. — Через полмесяца мы выезжаем в лагеря, и ты назначен помощником физрука. Согласен?
Еще бы! Провести лето в лагере и работать!
Да разве это единственный случай, когда ему помогали?
Если бы не общая помощь — не окончил бы ты, Мишка, десять классов, не поступил бы в морское училище, не стал бы командиром. Да, командиром… Нечего сказать, хорош командир!..
Норкин перевернулся на живот и положил голову на руки. Солнце пробивается сквозь листву, его лучи бродят по матросским лицам и спинам, по примятой траве, и от этого все кажется пятнистым. Одно из таких светлых пятен остановилось на спине, жжет, надо бы перейти в тень, но вставать не хочется.
Слышно, как шуршит прошлогодняя трава под ногами дневального. Он одиноко ходит среди спящих и, наверное, с завистью посматривает на них.
«И Леня Селиванов тоже хорош… А еще другом называется! Вместо того чтобы указать на ошибку — оправдывать начал», — думает Норкин.
— Товарищ Метелкин! Краснофлотец Донцов прибыл после выполнения задания! Диверсант, задержанный вашим доблестным взводом, в целости и сохранности сдан командиру части! — бойко рапортует Донцов, видимо вытянувшись перед дневальным.
— Вольно, — басит тот.
— Тише вы! — тотчас раздается шепот Богуша. — Командира разбудите.
— Ничего. Я уже не сплю… Ольхов! Дай, пожалуйста, папироску…
Ольхов лезет в вещевой мешок лейтенанта, из распечатанной пачки достает одну папироску, протягивает ее лейтенанту, пересчитывает оставшиеся, качает головой и прячет пачку обратно.
— Позвольте одну штучку и вашему личному коку? — говорит Богуш, подкладывая ветки в маленький костер, над которым висит почерневший от копоти котелок.
— Дай, Ольхов, папироску Богушу, — теперь уже просит Норкин. Тишина. Никто не отвечает ему. Выждав немного, он снова зовет: — Ольхов!
— Вы не волнуйтесь, товарищ лейтенант, — вступает в разговор старшина второй статьи Никишин. — Они почивают.
— Скажешь тоже, — протестует Норкин. — Он сейчас со мной разговаривал.
Но Ольхов так заливисто, с присвистом, храпит, что сомневаться не приходится.
— Он всегда быстро засыпает, как услышит, что нужно произвести выдачу из ваших запасов, — охотно поясняет Богуш.
— А ты хочешь, чтобы я всё роздал? — неожиданно подает голос Ольхов. — И так командир только после сна папиросы курит, а в остальное время махорку смолит.
— Брось, Ольхов, — перебивает его Норкин. — Дай штучку.
— Не дам! Сказал — не дам, и точка! — не сдается Ольхов и решительно подтягивает к себе вещевой мешок. — Вы лучше умойтесь да поешьте. Вот полотенце, мыло.
— А где вода для умывания? — спрашивает Никишин.
— Без указчиков! Давно вон под тем кустом стоит, — сказав это, Ольхов подсовывает себе под голову вещевой мешок и укладывается снова, но в это время Богуш испуганно спрашивает:
— Разве ты ее для умывания принес? А я-то, дурень, думал, что ты обо мне позаботился, и в суп ее вылил!
На лице Богуша такое искреннее отчаяние, что матросы не выдерживают и хохочут. Только Ольхов молча вскакивает на ноги, хватает котелок, перевертывает его над головой Богуша и бежит к ручью, который тихонько журчит в овраге, спрятавшись за плотной стеной кустов.
Хохот разбудил всех, но никто не ворчит, не ругается, и шутки в адрес Ольхова и Богуша сыплются со всех сторон.
— Командиров рот и взводов к комбату! — крикнул рассыльный, пробегая мимо.
Норкин быстро оделся и сунул пистолет в кобуру.
— А обедать? — спросил Богуш.
— Потом, Борис Михайлович, потом! — отмахнулся от него Норкин и, придерживая пистолет, побежал к Кулакову.
— И всегда так! Другие командиры и поспать, и поесть успеют, а нашему всё некогда! — не вытерпел Никишин.
— Давайте меняться? — предложил Донцов. — У нас Чигарев беда спокойный. Лишнего шагу не ступит… Сегодня началась стрельба, а он сидит в шалашике и морщится.
— Вы, балалайки! Меняй пластинку! — прикрикнул главстаршина Ксенофонтов. — Наш лейтенант правильно действует, и нечего ему косточки перемывать. Он бегает, о нас заботится, а мы порой на него же и шипим…
— Ну, этого у нас не бывало! — возмутился Богуш.
— А когда он нас заставил перекрытия в окопах делать? Ты первый шум поднял, — а что потом вышло? Налетели самолеты, начали строчить—мы под перекрытие! Другие по окопу мечутся, а мы сидим, покуриваем… Ни одного раненого!
— Хватит, главный, агитировать! — перебил его Никишин. — Языком мы немного того, а меняться не будем.
— Нема дурных, — охотно поддержал его Любченко. Ксенофонтов и не собирался агитировать. Старый матрос, прослуживший во флоте четырнадцать лет, он чувствовал, что между матросами и лейтенантом давно установились хорошие, дружеские взаимоотношения. Командир заботился о матросах, отдавал им свое свободное время, и они полюбили его, старались вернуть ему все сторицею. Взять хотя бы теперешнюю жизнь. Лейтенант стал командиром взвода, ему полагается только связной, но по молчаливому уговору Ольхов стал смотреть за имуществом лейтенанта, Богуш — готовить обеды, Любченко — носить запасные автоматные диски, а Никишин был кем-то средним между вторым связным и телохранителем. А ведь матросы такой народ, что их угодничать никаким приказом не заставишь.
Даже спать взвод ложился вокруг своего командира.
— Вы теперь иголка, а мы — нитка, — сказал однажды Никишин, когда Норкин спросил его, почему матросы не отстают от него ни на шаг. — Теперь мы до смерти или победы связаны.
И не случайно именно Ольхов, Богуш, Никишин и Любченко заняли «командные должности». Все они, как торпедисты, на лодке подчинялись непосредственно Норкину, и теперь по-прежнему жили своей «боевой частью». Да и дружба их всех связывала крепкая. Они и в увольнение обычно ходили вместе. Если здесь Любченко, то так и жди, что вот-вот рядом с ним появится подчеркнуто серьезный Богуш, готовый беззлобно посмеяться над кем угодно, или Никишин, с усмешкой в глазах и вздрагивающими ноздрями горбатого носа. Все они одинаково дорожили честью своей боевой части и лодки. Еще в первые месяцы совместной службы с новыми торпедистами Ксенофонтов как-то зашел в первый отсек, посмотрел на торпедные аппараты, поджал губы и вышел, сказав:
— Грязно.
С ним не спорили. Никишин, который был командиром отделения, шевельнул черными бровями — и началась чистка! Самый придирчивый человек не смог бы теперь найти на торпедных аппаратах ни пятнышка, но Ксенофонтоа снова повторил:
— Грязно.
Несколько дней шепталась четверка, выспрашивала у других матросов, где до этого служил Ксенофонтов да что там было особенного, и в один прекрасный день главный старшкна вынужден был признать отсек чистым: торпедисты узнали его «тайну» и хромировали все некрашеные части торпедных аппаратов.
— Командир из лейтенанта может хороший получиться, — словно (думая вслух, сказал Ксенофонтов, поглаживая рукой голову, начавшую лысеть с вискоз.
— Уже получился! — горячо вступился за командира Любченко.
— Да, для тыловой жизни он хорош, — согласился Ксенофонтов.
— И для фронта хорош! — не сдавался Любченко.
— Не воевали с ним, и судить трудно…
— А сегодня? По нему стреляют, а он глазом не моргнет!
— Вот и попало ему от комбата.
— Подумаешь, попало! Смелости взысканием не отберешь, — не сдавался Любченко.
— Не это главное для командира… Ну, да ладно: поживем— увидим! Пойду пополощусь… Есть желающие?
Желающих не нашлось, и Ксенофонтов, повернувшись к матросам мясистой спиной, медленно, вразвалку зашагал между деревьями. Ему недавно исполнилось тридцать шесть лет, но он по сравнению с другими матросами казался значительно старше и слабее физически, нежели был на самом деле.
— Где лейтенант? — спросил запыхавшийся Ольхов.
— К комбату вызвали, — буркнул Богуш.
— Так и не ел?
— А ты его, что ли, первый день знаешь? — вспылил Никишин.
В это время показался Норкин. Он почти бежал, и по его сдвинутым к переносице бровям, по глубоким складкам в углах рта поняли матросы, что случилось что-то серьезное, важное, и начали торопливо засовывать в вещевые мешки свое немногочисленное имущество, а один убежал за главстаршиной.
— Ксенофонтов! — крикнул Норкин, останавливаясь на поляне.
— Слушаю вас! — ответил тот, продираясь сквозь кусты и на ходу вытираясь тельняшкой.
— Построить взвод! Ольхов! Автомат!
Пока лейтенант проверял автомат и надевал через плечо противогазную сумку, взвод был построен. Чуть дымили затоптанные костры. Несколько измятых бумажек белели там, где еще недавно лежали матросы. Сурово, но спокойно смотрели матросы на своего командира. Таким людям нельзя лгать, и Норкин сказал горькую правду:
— На нашем участке прорван фронт. Мы пойдем сейчас в окопы и там встретим врага. По-балтийски!.. Командиры отделений! Развести отделения по местам!
— Первое отделение… — Второе…
— Третье… — Четвертое…
— За мной! — и четыре коротких черных цепочки в ногу, как на утренней зарядке, побежали к окопам.
— Богуш! Обед захвати! — крикнул Ксенофонтов.
— Я взял, товарищ главстаршина! — ответил Ольхов.
Прошло еще несколько дней, и погода резко испортилась. Ветер дует порывами, хлещет дождевыми каплями по дежурящим в окопах матросам, выбивает зерна из разбухших колосьев. Сгорбившиеся, хмурые бродят моряки по окопам. Тяжело хлопают по ногам намокшие клеши.
Так и не принял батальон боя у деревни Ломахи: ополченцы остановили врага, и, прождав сутки, матросы снова бросили вырытые ими окопы и снова неторопливо зашагали на запад, ближе к фронту. Теперь по ночам уже слышны тяжелые вздохи пушек, а немецкие самолеты почти непрерывно кружатся над дорогами.
Не одну позицию подготовили и оставили моряки со времени выхода из Ленинграда. На каждой из них они готовились встретить врага, и если потребуется, то и умереть, не пустив его дальше. Но приказ неизменно срывал их с места, заставлял идти куда-то дальше. Всё это сильно сказывалось на настроении людей. Сначала они недоуменно пожимали плечами, удивляясь неразберихе, противоречивым приказаниям, а потом даже начали потихоньку роптать, и все мельче и мельче становились вырытые ими окопы. Напрасно начальник штаба батальона старший лейтенант Мухачев доказывал, что эта небрежность равносильна преступлению и будет стоить многих жизней, — матросы равнодушно выслушивали его, но за лопаты не брались. Даже командиры не обращали внимания на его слова.
— Зачем рыть? Всё равно дальше пойдем, — вслух или мысленн повторяли многие сказанную кем-то фразу.
Все встрепенулись лишь после того, как однажды, при появлении вражеских самолетов, из леса, где расположились моряки, взвилась ракета. Рассыпав искры, она упала недалеко от шалаша Кулакова. Моряки оцепили участок леса, осмотрели каждый кустик, но никого не нашли. Лишь помятая высокая болотная трава звала куда-то вдаль, говорила, что туда ушел неизвестный.
А на следующий день еще происшествие: один матрос, возвращаясь из деревни, задел ногой за веревочку, протянутую через тропинку, и грянул выстрел. Спасло матроса от смерти лишь то, что именно в этот момент он нагнулся, чтобы завязать шнурок ботинка.
Вот тогда все зашевелились. В ротах состоялись комсомольские и партийные собрания. Матросы не пощадили друг друга, не обошли критикой и начальство. Много неприятных вещей было сказано, а боевые листки покрылись злыми карикатурами на всех тех, кто успокоился, забыл о войне. И когда атмосфера накалилась, Кулаков собрал на лужайке весь батальон, дал возможность высказаться многим, а потом и сам взял слово.
— Довоевались! — бил словами капитан-лейтенант. — В первые ночи рыбаков задерживали. Человек проходил — докладывали!.. А подошли к фронту — фашисты рядом с нами спать начали! Чего доброго, проснемся завтра, а у нас целой роты нет. Украдут!.. Приказываю. Начальник штаба! Сегодня же доложите, чей взвод не исправил окопов. Командирам взводов подать мне списки лодырей. Я их всех в Ленинград отправлю. Пусть не прячутся под маской защитников… Стыд и позор! Я в глаза комбригу смотреть не могу!
— Разрешите, товарищ капитан-лейтенант? — перебил его комсорг первой роты Кирьянов.
Высокий, чернобровый, со смоляным кольцом волос, свалившихся на крутой лоб, он стоял среди матросов и нервно мял руками бескозырку.
— От имени всех прошу поверить нам, — начал он звенящим голосом. — Устали мы от ожидания боев и поддались! Не прячь глаза, Метелкин! Про тебя говорю! Ты первый кричал: «Шпионы и диверсанты — сказки для детей младшего возраста!» Теперь мы сами с усами и отличаем правду от вредной болтовни!.. А народ у нас хороший, товарищ капитан-лейтенант. Сможем прибрать к рукам кого надо! И приберем! Сожмем! — и Кирьянов, выбросив руку вперед, медленно сжал пальцы в кулак. Побелела кожа на суставах, а через лоб протянулась синеватая жила. — Только охнут!.. Службу наладим. Прошу сегодня назначить меня вне очереди в охранение, — закончил он, вытер вспотевший лоб и под одобрительный гул сел на свое место.
— Теперь мое слово! — и, не дожидаясь разрешения, поднялся Метелкин. — Ты, Кирьянов, правду сказал. Спасибо. Другие вон косятся на меня, а отмалчиваются. Боятся обидеть!.. А чего церемониться? Говори прямо! Здесь война! Мешает Метелкин — убери его, и точка!.. Больше плохого обо мне не услышите… Слово даю, — и он сел, но тотчас же ухватился за плечи соседей и снова встал. — Почему нет у нас занятий? Только день и учились. Неужто за это время всю армейскую премудрость познали?
Снова одобрительно гудит собрание. Прав и Метелкин. Только один день, когда впервые заночевали в лесу, и занимались матросы сухопутной тактикой. Все им было в новинку, и день пролетел незаметно. Потом ночной поход, рытье окопов, снова переход, и про занятия забыли. Почти две недели матросы на суше, а только и знают, что перебегать нужно «змейками». Неужели этого достаточно для того, чтобы разбить врага?
Кулаков и комиссар батальона, старший политрук Ясенев, переглянулись. Ясенев нагнулся к Кулакову, что-то прошептал ему, и тот, кивнув головой, ответил Метелкину:
— Правильно сказал, Метелкин. Есть грех и за мной с комиссаром… Вот мы с ним сейчас посовещались и решили делом доказать, что признаем свою ошибку… С сегодняшнего дня начинаем занятия.
Касаясь друг друга плечами, шли Норкин и Селиванов с собрания. Селиванов шагал умышленно широко, стараясь идти в ногу с Норкиным.
— К нему? — спросил Селиванов. Норкин кивнул. Немного помолчали, и теперь сказал уже Норкин:
— Н-да, дела…
— О Володьке? — спросил Селиванов.
— Ага.
Вот и весь разговор. Однако они прекрасно поняли друг друга. Леонид Селиванов, коренастый, розовощекий крепыш, любил поговорить, пофилософствовать, но с Норкиным он становился сдержанным, даже молчаливым и понимал своего друга с одного взгляда. В училище, видя их вместе, многие первое время удивлялись, не могли понять, что у них общего, но потом, так и не поняв главного, привыкли к этому, а начальство даже поощряло их дружбу. Дело в том, что Селиванов, живой, подвижный, моментально схватывал верхушки всего, довольствовался этим и никак не мог подняться выше тройки. Она словно являлась его пределом. Однако Норкин «быстро прибрал его к рукам», как сказал один из преподавателей. Селиванов стал, тяжело вздыхая и с тоской поглядывая в окно на крыши домов, просиживать над книгами часами, и у него вскоре появились четверки и даже пятерки. В свою очередь и он помогал Норкину. Уроженец и житель Ленинграда, он водил Норкина по музеям и различным историческим местам города и его окрестностям. Во время совместных экскурсий и занятий и научились они разговаривать молча.
Лейтенант Чигарев, к которому они шли сейчас, был командиром пулеметного взвода и окончил училище вместе с ними. В училище его не любили за замкнутость, самовлюбленность, но учился он отлично, дисциплины не нарушал, и его до поры до времени оставляли в покое. Он сам тоже ни к кому в друзья не напрашивался. Но здесь, в морской пехоте, Чигарев резко изменился к худшему и его бывшим соученикам порой бывало стыдно за него. Вот для решительного разговора с ним и шли Селиванов и Норкин в пулеметный взвод.
Чигарева они нашли в одном из блиндажей. Владимир сидел, подперев ладонями давно не бритое лицо, и словно спал с открытыми глазами. Он даже не шевельнулся, когда товарищи вошли и сели напротив него, пододвинув к себе коробки с пулеметными лентами. Норкин осмотрелся. Уткнувшись стволом в земляную стенку, стоял пулемет, словно наказанный мальчишка. Ленты торчали из коробок, валявшихся по всему полу, а пулеметный чехол бесформенным комом лежал у порога. О него, видимо, вытирали ноги. И куда ни глянь — везде консервные банки, клочки бумаги, окурки.
— Ну, что ты, Володя, раскис? — начал Селиванов без всякого предисловия. — Ноешь…
— Ответь мне честно на один вопрос, — перебил его Чигарев и устало навалился спиной на стенку блиндажа, — Ты доволен своим положением? Доволен? А я не доволен. Не до-во-лен! Понимаешь? Не до-во-лен! Я учился на морского командира, а не на пехотинца!.. Загнали за тридевять земель от моря, сунули в чертову дыру и — здрасте! Зачем тогда высшее образование? Водить матросов в лес и обратно — большого ума не надо! «Взвод! На-пра… все здесь? ложки взяли?.. во!»
Чигарев больше не мог сидеть. Он резко поднялся, прошелся по блиндажу и остановился на середине. Его щеки покрылись багровыми пятнами. Белокурые волосы рассыпались, падали на глаза, и он то и дело резким движением головы отбрасывал их назад.
— Ты сам себе противоречишь. Скомандуй четко, ясно, без вставок, — сказал Норкин.
— Я-то скомандую! Не в этом счастье, — Чигарев заметался по блиндажу, потом остановился у входа, посмотрел на небо и сказал, стоя к товарищам спиной: — Я море люблю…
— Да ты его еще и не видел толком! — рассердился Селиванов. — Тебя учили, уйму денег ухлопали, а ты — невеста привередливая!. «Дайте мне море! Я с высшим образованием! Пришлите пружинный матрац!»
— Правильно! Четыре года учили, тратили деньги, а послали в окопы…
— Кто лучше знает, где ты сейчас нужен? Нарком или ты? Послали сюда — и служи здесь честно! Нечего сказать, нашел довод: «С высшим образованием, а в окопах!..» Не такие люди ими не брезговали!.. Мишка! Что ты молчишь?! Скажи ему!
— Ты очень хорошо все сказал.
— Чуешь, Вовка? Все наши так думают! Все мы хотим на море!.. Но коли нас прислали сюда — мы честно служим…
— А я? Не честно? Меньше вас меня дождь мочит? Или комары не едят?
— Да ты что, дурной? Не в этом дело!.. У тебя вечно такая кислая физиономия, что смотреть не хочется!
— Кто тебе велит? Не смотри.
— И не буду!.. Глядя на тебя и матросы несут службу спустя рукава! Где они сейчас? Чей ты пулемет караулишь?
— На собрание отпустил, а потом в деревню за молоком зайдут.
— Весь взвод за молоком? Не многовато? — не вытерпел Норкин.
Чигарев и сам чувствовал, что поступил опрометчиво, но ответил небрежно, стараясь скрыть под беспечностью свое смущение:
— Пусть прогуляются.
— Возьмись за ум, Володя! Прилетят фашисты — кто, стрелять будет? Один из трех пулеметов?
Чигарев пожал плечами и отвернулся. За последние дни ему несколько раз приходилось вести подобные разговоры. Сначала это были намеки, товарищеские шутки, но со временем они стали более резкими, похожими на обвинения.
Чигарев видел, что изменилось к нему отношение и товарищей-командиров, и матросов, но, как большинство самовлюбленных людей, объяснял это не тем, что сам плох, а какими-то другими, пока неизвестными причинами. Может быть, все завидуют его физической красоте? Уму? Этого ему ни у кого занимать не надо.
Володя был единственным ребенком в семье и с детских лет привык к всеобщему вниманию и поклонению. Его отец, служивший в одном из учреждений Саратова, почему-то решил, что у сына выдающиеся способности, что его ждет блестящее будущее, и так часто говорил об этом, что Володя запомнил любимые его фразы лучше, чем любое стихотворение. И не только запомнил, но и поверил в них.
И у отца были некоторые основания думать так: Володя знал многое, был более начитан, чем его сверстники. Но не знал отец, что эти знания были неглубокими, поверхностными. Кроме того, Чигарев-старший, хоть и восхищался сыном, времени ему уделял мало, и Володя жил под крылышком у маменьки, старательно прихорашивающейся и молодящейся женщины.
— Вовочка! Милый! Не ушибись!
— Ты, Вовочка, серьезный, умный мальчик, и вдруг гоняешь какой-то футбол?! Возьми книжечку и почитай, — обычно слышал Володя.
Читал он все, что попадалось на глаза. Мать не противоречила, и даже больше того — позволяла читать книги независимо от их содержания. А когда однажды отец, придя со службы, взял из рук сына книгу, прочел ее название и спросил: «Не рано ему читать «Брачную ночь»?» — мать пришла на помощь четырнадцатилетнему сыну:
— Вова сам понимает, что ему вредно читать, а что полезно. Кроме того, не забудь, что для общего развития полезно знать все. Понимаешь меня? Все! — сказала она.
Чигарев-старший нерешительно помялся, хотел возразить, но у жены начали подозрительно блестеть глаза и он молча прошел в свою комнату.
В школе Володя учился отлично; знакомые, приходившие к Чигаревым в гости, иногда слышали от него довольно меткие и дельные реплики, и тут же высказывали свое восхищение. Все это окончательно убедило самого Володю и его родных в том, что он многообещающий юноша.
В военно-морском училище разгадали Чигарева, помогли избавиться от многих недостатков, и его знания стали более глубокими, систематическими, но самовлюбленность от этого не уменьшилась. Замечания товарищей теперь он воспринимал как личную обиду, неумные придирки к безупречному человеку.
На фронт Чигарев пошел охотно. Ему нравилась атмосфера всеобщего внимания, зависти и восхищения, окружавшая уходивших на передовую, а сам фронт представлялся в виде какой-то арены, на которой он, Чигарев, наконец, сможет развернуться, показать свои таланты, доказать всем, на что он способен. Но вместо трубных звуков и шелеста развернутых знамен он услышал глухие разрывы бомб и гнусавое гудение комаров; никто не требовал от Чигарева подвига, а спать приходилось под открытым небом, на голой земле.
«Эти условия не для меня. Я по ошибке попал сюда. В другом месте я принесу огромную пользу, а здесь, валяясь на сырой земле, только испорчу здоровье», — решил Чигарев, и с этого момента из командира взвода превратился в случайного попутчика батальона.
Матросы первое время шли к нему с вопросами, предложениями, но, наткнувшись на полное равнодушие, перестали скоро обращать на командира внимание, и взвод стал жить самостоятельно, не тревожа Чигарева. Правда, у него спрашивали разрешения уйти или сделать то или иное, но не из-за того, что лейтенант мог запретить или дать дельный совет. Просто привычка, выработанная за годы службы, брала свое. И эта внешняя дисциплинированность могла сбить с| толку постороннего наблюдателя.
Слушая Селиванова, Чигарев в душе соглашался с ним. Но сознаться э этом, признать себя неправым он не хотел, не мог из-за самолюбия и злился, искал лазейки.
«Тоже мне указчик нашелся! — думал он, хрустя пальцами. — Мишка — \гак тот хоть учился на отлично, а Ленька-то чего суется?»
— Брось упрямиться, Володя, — спокойно сказал Норкин. — Мы просто просим тебя: измени отношение к службе.
И, может быть, прикрикни Норкин в этот момент, разразись потоком обвинений, обругай — и сдался бы Чигарев; но Михаил говорил дружески, с участием, и Чигареву показалось, что его жалеют, отпевают, как покойника. Он выпрямился и ответил, четко произнося каждое слово:
— Рано Чигарева хороните! А вообще — я не маленький и обойдусь без нянек! Когда вы будете командиром роты — прошу пожаловать с указаниями, а пока командуйте своими взводами! — и, козырнув, вышел из блиндажа.
Норкин вскочил на ноги. Его руки сжались в кулаки. Ему хотелось догнать Чигарева, силой остановить его, наговорить ему грубостей, но, стиснув зубы, он тихо сказал:
— Пошли, Леня.
Обходя большие лужи, пузырящиеся от дождя, Норкин медленно шел к сараю, который одиноко торчал темным пятном на околице деревни. Здесь находился командный пункт Кулакова, а вечерами сюда обычно приходили все командиры. Сарай был кают-компанией, где можно поговорить на любую тему, встретить друга и укрыться от дождя. Но сегодня в сарае должен был состояться неприятный разговор. Дело в том, что Норкин поделился с товарищами впечатлением от посещения Чигарева, передал его слова, и на вечер было назначено неофициальное собрание командиров.
Раньше и Норкин неоднократно задавал себе вопрос: «Почему подводники оказались здесь?»
Ему казалось диким, что специалисты, которых готовили не один год, вдруг за какой-то час превратились в обыкновенных пехотинцев. Даже и не в пехотинцев, а в ничего не знающих ратников. Чем вызвана такая резкая перемена?
Норкин, разумеется, не мог знать, что фашистская армия напала на Советский Союз в самый невыгодный для него момент; он не мог знать, что почти все части, находившиеся в пограничных районах, смяты, рассеяны, а некоторые и перестали существовать; не мог он знать и того, что вооружена фашистская армия значительно лучше, чем Красная Армия. Но он видел, что наступательный порыв фашистских войск не ослабевает, что они по-прежнему стремительно продвигаются вперед, а следовательно — нужно бросить кого-то им навстречу. Ведь еще недавно Балтийский флот имел Либаву, Таллин, Кронштадт, Ленинград, а сегодня уже пала Либава; оставив у себя в тылу окруженный Таллин, фашистские армии вышли на берег Финского залива и устремились к последним базам флота—Кронштадту и Ленинграду. Над флотом нависла смертельная опасность. Так кому же, как не морякам, спасать родные корабли? Может быть, поэтому и бросили в бой морскую пехоту.
Но во что твердо верил Норкин, так это в то, что там, в тылу, за спинами моряков, спешно вооружались и готовились к боям огромные армии. Моряки видели, как мимо них на фронт проходили дивизии ленинградских ополченцев, вчера еще людей самых мирных профессий; от них моряки узнали, что объявлена всеобщая мобилизация. Но для подготовки к боям нужно время. Видимо стараясь выиграть его, и сняли матросов с кораблей. А раз так, то хоть и жаль расставаться с морем, а придется воевать здесь, воевать, вложив все силы.
Только Чигарев упрямился, не хотел видеть главного, не замечал, что его молчаливый, пассивный протест страшнее агитации врага: врагу не верили, а на лице своего командира может быть написана только правда. Значит, Чигарев мешает? Тогда — воевать с ним! Или заставить думать как все, или сломать! Середины нет.
Когда Норкин вошел в сарай, там уже собрались все командиры и политработники батальона. Они сидели на досках вокруг костра, разложенного прямо на земляном полу. У их ног стояли котелки с ужином но никто не прикасался к нему: нет Чигарева, не состоялся еще разговор, и кусок в горло не лезет. Для собравшихся Чигарев прежде всего был товарищем, его судьба, пусть по-разному, но волновала всех, и сейчас каждый мысленно подыскивал самые верные, убедительные слова. Слышно было, как шумел дождь по соломенной крыше, как падали на землю тяжелые капли.
Вокруг костра сидели уже не те веселые, казавшиеся беззаботными щеголеватые лейтенанты, что две недели назад покинули Ленинград. Отблески красноватого пламени метались по их нахмуренным лицам, и глубже казались морщинки, раньше времени покрывшие молодые лица, строже был взгляд немигающих глаз. Поверх кителей надеты матросские бушлаты. Их воротники подняты, и вода, стекая по каскам, блестит на черном сукне сначала ярко, в полную силу, а потом все слабее, слабее и, впитываясь тканью, исчезает.
Скрипнула дверь, ворвался в сарай ветер, заметалось пламя в костре. Командиры зашевелились и радостно переглянулись: они боялись, что Чигарев не придет. Ведь его приглашали не на комсомольское или строевое собрание, а на товарищеский ужин, и он мог отказаться, сославшись хотя бы на погоду.
Однако радость оказалась преждевременной. Пришел Кулаков. Он сел на доску, достал из-за голенища щепочку и не спеша, старательно соскоблил с сапог налипшую грязь, так же тщательно вытер щепочку, снова спрятал ее, и лишь тогда спросил:
— Что, как мыши на крупу, надулись? Дождь настроение испортил?
Кулаков почему-то смотрел на Селиванова, и тот ответил, ковыряясь в костре длинной палкой:
— Нас дождем не испугаешь.
— Я так же думаю, — согласился Кулаков. Объяснить ему ничего не успели — вошел Чигарев. На нем был такой же бушлат, так же был поднят его воротник, но медные пуговицы потускнели, некоторые из них болтались на последних нитках и могли оторваться в любую минуту. Вместо одной из них из петли уже и сейчас торчала проволочка. На брюках заметны следы пальцев. Должно быть, Чигарев вытер о них руки, запачканные глиной.
Увидев его, Кулаков скользнул глазами по лицам лейтенантов и многозначительно прищурился, поджал губы. Добродушное выражение исчезло с его продолговатого лица и морщинки смеха, игравшие в углах рта, окаменели, застыли глубокими бороздками. Любил Кулаков эту беспокойную молодежь. Да и она не обходила его своими симпатиями. Еще на лодках его знали как требовательного и внимательного командира. Если молодой лейтенант «считал чаек», а не нес вахту, Кулаков становился придирчивым, строгим и порой даже жестоким. Но стоило его подшефному (а подшефными были все молодые лейтенанты) загрустить — преображался Николай Николаевич. Теперь он так и вился около лейтенанта и не отходил от него, все спрашивал, ласково заглядывая в глаза:
— Что случилось, дорогой мой?
Это не было ни праздное любопытство, ни желание казаться отзывчивым, «отцом-командиром». Нет, Кулаков просто не мог оставаться равнодушным, если рядом с ним страдал человек.
В конце концов Кулаков узнавал причину. После этого следовал целый ряд бесед с комиссаром, принимались меры, и снова улыбался лейтенант, по-прежнему До хрипоты спорил о литературе или яростно доказывал тому же Кулакову, что ленинградское «Динамо» лучше московского «Спартака».
Воспитание Кулакова обычно сказывалось скоро: уже через несколько месяцев лейтенант приобретал прочные знания, опыт, и, получив повышение, покидал лодку. Он от всей души благодарил капитан-лейтенанта и уже на всю жизнь оставался его искренним другом.
Попав в новую обстановку, превратившись из подводника в пехотинца, Кулаков встретил много непонятного и еще внимательнее стал следить за молодежью. «Мне трудно, а им каково?» — рассуждал он. А поэтому настроение Чигарева не было для него новостью, так же как не оказалось неожиданным и собрание командиров. Еще четыре дня назад у него по этому поводу состоялся разговор со старшим политруком Ясеневым.
— Гляжу я на Чигарева и думаю, что самая пора его с небес на землю спустить, а? — спросил Кулаков. — Вызову и дам взбучку!
— Взбучка, Николай Николаевич, дело последнее, — возразил тогда Ясенев. — Я тоже внимательно наблюдаю за Чигаревым и его взводом. Даже Кирьянова, комсорга роты, туда нацелил.
— Ну и что ты, дорогой мой, предлагаешь? Ждать, пока дело до трибунала не дойдет?
— Грош нам цена, если до этого допустим… Эгоист Чигарев, крепко выправлять его надо.
— Что предлагаешь? — нетерпеливо спросил Кулаков.
— Что предлагаю? — Ясенев немного помолчал, подумал и ответил — Я думаю— атаковать его со всех сторон. Переговорю с его товарищами по училищу, настрою их соответствующим образом. Пусть они начнут. Народ зубастый и спуску не дадут. Они начнут, а мы поддержим… Твое мнение?
Кулаков согласился с доводами комиссара, и теперь, взглянув на Чигарева, на хмурых командиров, понял, что Ясенев начал действовать…
— Добрый вечер, — приветливо сказал Чигарев и протянул к огню покрасневшие влажные руки. — Пока выбрался из окопа, весь, как черт, вывозился в глине.
— А ты бы приступочки сделал, — буркнул Селиванов, и прикусил язык: получилось не по плану. Договорились сначала поужинать, а потом незаметно завести разговор о службе. Но реплика вырвалась непроизвольно. Уж слишком много накопилось на душе.
Чигарев взглянул на Селиванова, иронически усмехнулся и спросил:
— Опять нотации читать? Прикажете стоять «смирно», или можно «вольно»?
— Эх, какой ты колючий! Что ерш, когда его из воды вытащат! — засмеялся Кулаков. — Ты садись со мной рядком, обогрейся, подсушись, а потом и ругайся.
— Благодарю вас! — Чигарев козырнул, но не сделал даже шага к указанному месту.
У Чигарева было время обдумать свой разговор с Норкиным и Селивановым; он слишком хорошо знал товарищей, чтобы надеяться на то, что его оставят в покое, а поэтому заранее приготовился к неприятной беседе. «Я им покажу, какая у меня сила воли! Меня сломить не так просто!» — решил он еще перед тем, как идти сюда, и теперь стоял прямо, немного отставив в сторону правую ногу и отбивая носком такт.
Его независимый вид и ироническая улыбка взорвали Норкина. Он стукнул кулаком по колену и крикнул:
— Садись, пока приглашают! Это тебе не перед мамочкой выламываться!
Так грубо с Чигаревым говорили впервые, и он растерялся. Плечи его сразу опустились, на лице появилась виноватая, растерянная улыбка, похожая на гримасу. Он осторожно сел на кучу кирпичей и поежился, словно вдруг холодно ему стало у горячего костра.
Стало слышно, как шипела сырая щепка, брошенная на угли.
— Ужин, видно, придется отложить, а сейчас давай, Володя, поговорим по душам, — прервал молчание Норкин, успевший немного успокоиться.
Чигарев уже стряхнул смущение и вызывающе посмотрел на товарищей. Его глаза говорили: «Я готов! Я один — вас много, но мне всё нипочем!»
— Ты, Володя, неправ во многом, и мы решили, что будет честнее, если мы выскажем тебе всё сейчас, здесь, в глаза… Если ты поймешь нас, то мы будем только рады. Если нет — поставим этот же вопрос официально на комсомольском собрании… Начну по порядку. Ты недоволен, махнул рукой на службу, а это сказывается и на матросах, — Норкин замолчал, в раздумье провел ладонью по лицу. — Пожалуй, пока всё.
«Плохой же ты обвинитель. Уж если мне придется про тебя говорить — не возрадуешься», — подумал Чигарев, но вслух сказал:
— Это общие фразы. Прежде чем говорить их, я бы подумал, есть ли у меня веские доказательства.
— Доказательства? Сколько угодно! — поднялся лейтенант Никитин. — Ты за две недели не провел с пулеметчиками ни одного занятия и Только ноешь, как старая баба!
— Прошу без оскорблений! — Чигарев вздрогнул.
— Виноват… Хотя, какой черт, виноват? Правильно я сказал! Резче еще надо!.. Ты не ноешь, как старая баба, а скулишь, как щенок, попавший на мороз! Ты не хочешь слышать реплик матросов, а они очень точно всё подмечают!.. Вот шел я сюда мимо твоего взвода и слышал: «Сегодня опять спать не придется. Лейтенант на дождь и грязь жаловаться будет». Меня как ножом по сердцу полоснули! Ведь со мной ты четыре года учился! Твой позор на меня падает!
— Ты сам и виноват. Нужно было на месте пресечь попытку обсуждения поступков командира, — пожав плечами, сказал Чигарев.
— Да, пресечешь их! Держи карман шире! — вмешался лейтенант Углов. — Против правды не попрешь…
Долго и много говорили командиры. Выступления были и спокойные, и гневные, и последовательные, логичные, и сумбурные. Но все командиры с внутренней болью говорили правду, и Чигарев понял, что не зависть к eго личным качествам, а любовь к флоту и родному училищу заставила товарищей говорить так. Володя давно перестал возражать, а в голосах товарищей по-прежнему звучали обида, стыд за него, Чигарева, за его репутацию как комсомольца и командира.
— А я так думаю, — начал Кулаков. Он по-прежнему сидел на своем месте, смотрел на костёр и теперь словно размышлял вслух. — Тебе должно быть ясно, в чем и почему ты ошибся. На всякий случай повторю. Ты считал, что используешься не по специальности. Это частично правильно. Твое дело — топить корабли противника в море,
Но ты не понимал, что здесь мы тоже выходим в атаку на корабль. Не на «Бисмарк» или там «Гнейзенау», а на корабль, который называется «Фашистская Германия»!.. А это, дорогой мой, пострашнее и поважнее, чем любой линкор! Здесь мазать нельзя! Мы должны бить только наверняка!.. Когда мы сможем выполнить эту задачу? Что нужно для этого?.. Прежде всего — честно относиться к исполнению своих обязанностей, своего долга перед Родиной. Вот поэтому мы и говорили с тобой… Тут некоторые высказали мысль, что тебя нужно выгнать из флота и комсомола… Что ж… Требование хотя и жестокое, но справедливое…
— Товарищ капитан-лейтенант! — вырвалось у Чигарева.
— Погоди. Когда говорят старшие, перебивать их просто невежливо… Вот я и говорю, что некоторые справедливо предлагают… Не может командовать тот, кто не верит в себя. Не может!.. Вот теперь говори ты.
Чигарев уже давно стоял перед костром. Он не замечал, что от его брюк валил пар. Пальцы Чигарева бегали по пуговицам бушлата, словно искали что-то и не могли найти. Он понял, что между ним и товарищами оказалась пропасть. С каждым днем, часом она становилась все шире, страшнее. Чигареву стало ясно, что именно сейчас он должен сделать окончательный выбор, должен решить, по какую ее сторону он останется. И он решился. Брови его разошлись, дрогнули губы.
— Ясно мне, — тихо сказал Чигарев. — Только… Только трудно мне будет первое время.
— Ну, это не страшно! Колхозом осилим! — улыбнулся Кулаков. — Перейдем ко второму вопросу? — закончил он, лукаво усмехнулся и потянулся за котелком.
В это время дверь сарая снова заскрипела. Все повернули головы в ее сторону и увидели старшего политрука Ясенева. Вода струйками стекала с его каски, а лицо было торжественное, гордое.
Подойдя к костру, он сел рядом с Кулаковым, распахнул шинель и спросил, глядя прямо на Чигарева:
— Понял? Договорились? Тот молча наклонил голову.
— Видите, как все хорошо получилось? — улыбнулся Ясенев. — Ты, Чигарев, помни: как оторвался от народа— тут тебе и конец!.. А теперь другая новость…
— На передовую выходим? — обрадовался Селиванов.
— Наши самолеты в ответ на бомбежку Москвы и Ленинграда начали бомбить… Берлин! — ответил Ясенев.
Несколько секунд стояла такая тишина, что было слышно гудение какого-то шального комара, отогревшегося около костра. Потом все зашумели, заговорили.
Когда шум немного утих, Ясенев сказал:
— Теперь идите к себе и передайте это матросам. Кулаков тихонько ткнул коленом Ясенева и показал
глазами в темный угол, где сидели телефонисты. Один из них, прикрывая ладонью микрофон, приглушенно говорил:
— Честное слово, Петро! Сам комиссар сейчас говорил, что наши самолеты Берлин расчехвостили — дай боже всякому!.. В дым!
Ясенев улыбнулся и так же тихо сказал Кулакову:
— А пройтись по взводам все-таки нужно.
(support [a t] reallib.org)