"«На суше и на море» - 63. Фантастика" - читать интересную книгу автора (Мееров Александр, Голованов Ярослав,...)
Ярослав Голованов ПОБЕДА АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА
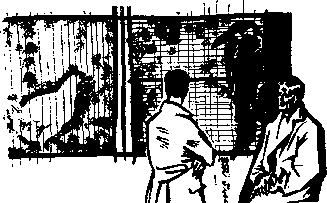 |
1 февраля. Мне всегда казалось, что я хорошо помню его, хотя мне было всего пять лет, когда я видел его в последний раз. Наверное, потому, что это имя-Отто фон Вальден — так часто повторялось в нашей семье, я невольно связал его с неким, мною же созданным образом, неумело собранным из полузабытых, обрывочных воспоминаний детства. И вот сегодня, переступая порог кабинета своего будущего шефа, я увидел совсем другого человека, совершенно непохожего на «моего» Отто фон Вальдена.
Он понравился мне сразу. Высокий, стройный, с яркими голубыми глазами и гладко зачесанными назад пепельными волосами, этот человек являл собой пример нестареющего мужчины. Он крепко двумя руками пожал мне руку.
— Курт! Мальчик мой! Ну, вот ты и приехал… — Я чувствовал по голосу, что он взволнован. — Подумать только! Сын моего друга, маленький Курт, — уже взрослый мужчина! Как бы порадовался, глядя на тебя, Генрих…
Естественно, что мы начали разговор с воспоминаний об отце. Вальден рассказал мне о естественном факультете в Кельне, который он окончил вместе с моим отцом, о годах первой мировой войны, когда их пути разошлись, и о новой встрече в Нюрнберге в 1932 году, и о новой войне.
— О, мы многое пережили, Курт. Генрих Шлезингер был хорошим отцом, примерным мужем и настоящим немцем. Не забывай его, мальчик… Если бы Гитлер был чуточку поумнее, он не посылал бы таких людей, как твой отец, в это восточное пекло. Впрочем, не будем тревожить прошлое… Расскажи-ка лучше, как ты живешь?
Он долго расспрашивал меня о маме, вспоминал наш старый дом, вечера в большой гостиной, когда мама играла Бетховена, сонату фа-минор, которую так любил отец…
Вальден опять заговорил об отце. Я сказал, что плохо помню его. Действительно, с конца 1940 года отец редко бывал дома. Он приезжал всегда неожиданно, иногда ночью. Помню, как я боялся серебряного черепа на рукаве черного отцовского мундира. Череп с двумя костями крест-накрест. Отца убили в Польше, в самом начале сорок пятого. Подробностей мы так и не узнали. Известно только, что погиб он в каком-то секретном лагере во время восстания заключенных.
— Я все знаю, мальчик, — нахмурившись, перебил меня Вальден. — Это чудовищная нелепость. Мундир СС-шелуха, дешевая упаковка… Генриху нужны были деньги, аппаратура, лаборатории. А он должен был работать в этой смрадной дыре в окружении банды славянских дистрофиков… А главное, все эти лаборатории и деньги нужны были не в сорок четвертом, когда нашим единственным утешением было «Gott mitt uns» на солдатских пряжках, а ровно на десять лет раньше, когда эта тупая свинья Геринг назвал его и меня «фантазерами», полагая, что самое важное для величия рейха — это танки и бомбардировщики…
Наконец мы заговорили о моей будущей работе. Вальден подтвердил, что будет рад принять меня в свой институт.
— Курт, ты увидишь здесь немало такого, что может показаться тебе странным, ненужным, рассчитанным на дешевый эффект. Не торопись с выводами, мальчик. Ты еще очень молод, и узнать тебе предстоит немало. Мне нужны не только умные помощники, но и настоящие друзья, — с грустной улыбкой проговорил он. — И, может быть, добрые друзья даже больше, чем умные помощники…
12 февраля. Целыми днями пишу. Заполняю какие-то пространные анкеты, подписываю туманные инструкции, правила и расписки, запрещающие поездки за границу, общение с иностранцами и разглашение каких-либо фактов, связанных с работой. Впрочем, я готов подписать еще сотню бумаг, лишь бы скорее приступить к работе. Правда, в отпуск я собирался съездить к тете Лотте в Дрезден. У нее теперь новая квартира, она давно приглашала меня погостить и полюбоваться «Сикстинской мадонной», вернувшейся из России. Но Дрезден — это ГДР.
Нельзя так нельзя. У меня есть работа, а работа в наши дни важнее мадонны.
И вот, наконец, все позади. Сегодня я первый раз попал в лабораторию. Она помещалась на новенькой, тихой, тенистой улочке, еще не пропахшей бензинной гарью. Светлый двухэтажный домик лаборатории меньше всего походил на научный центр. К нему примыкал высокий глухой забор, из-за которого выглядывали густые кроны старинных лип. А через пятнадцать минут я увидел их корни. Шеф в белоснежном халате и шапочке шагал рядом со мной по маленькой липовой аллее.
— Сегодня только первое знакомство, беглый осмотр. Смотри, удивляйся и не задавай много вопросов. Все вопросы — завтра. Тебе будет интересно выслушать ответы, а мне — узнать первые впечатления…
Первые впечатления. В одной из комнат в небольшом металлическом ящике я увидел шевелящуюся серую массу, которую принял вначале за скопление каких-то жуков. И лишь подойдя ближе, я понял, что это мыши. Сотни мышей, не превышающих по своим размерам канцелярской скрепки. Нет, это были не крохотные розовые детеныши, а взрослые сверхкарликовые мыши с хвостом не толще иголки.
— Для таких мышей у нас есть и соответствующие кошки, — улыбнулся фон Вальден, подводя меня к следующему стенду.
В одной из клеток я действительно увидел мохнатых существ, напоминавших елочные игрушки. Их трудно назвать кошками, хотя это, бесспорно, были кошки — очаровательные, ласковые, десятисантиметровые кошки. Они чуть слышно мурлыкали, когда шеф гладил их пальцем и почесывал за ухом спичкой.
Весь корпус был наполнен всевозможными карликами. Некоторые из них воспринимались просто как детеныши и не поражали воображения. Другие были прямо-таки восхитительны. Трудно даже представить себе лошадь, которую можно посадить в чемодан, или датского дога, способного уместиться в коробке из-под ботинок. Иногда казалось, что все это какая-то оптическая шутка, будто кто-то держит перед твоими глазами перевернутый бинокль. Я еще не пришел в себя после всего увиденного, когда Вальден весело предложил:
— Не хочет ли наш Гулливер предпринять второе путешествие?
Я был уже несколько подготовлен к чудесам, но, согласитесь, курица, доходящая вам до пояса, может вызвать возглас изумления. Здесь было особенно много птиц: воробьев, превышающих по размерам ворон, и ворон величиной с кондора. Тут были и гиганты млекопитающие, но не столь потрясающих размеров.
— А вот наша гордость, — сказал Вальден, подведя меня к стеклянному шкафу, внутри которого рядом с белыми фарфоровыми радиаторами белели два продолговатых мешка. — Пари, что ты не догадаешься, что это такое? А? Это яйца муравьев! Скоро мы увидим новое чудо…
Но самое необычайное ждало меня впереди, в так называемом корпусе N. том самом, где мне предстояло работать.
О нет, здесь перед моими глазами был уже не бинокль, а какое-то странное кривое зеркало. Я видел крыс с нормальными головами и сморщенными крохотными туловищами; собак с лапами толщиной не более карандаша, которые не могли даже удержать их тела; свирепого нильского крокодила, хвост которого превосходил длину туловища раза в четыре. Это была сумасшедшая пляска размеров и пропорций. Казалось, все эти животные были созданы природой в припадке какого-то безумия.
Откровенно говоря, обитатели корпуса N произвели на меня тягостное впечатление. Я шел домой пешком, стараясь осмыслить все виденное в лабораториях фон Вальдена.
Все «чудеса» сводились, собственно, к воздействию на рост и развитие животных. Сначала изменения отдельных частей тела особи происходило пропорционально, затем — непропорционально. Но каким образом можно все это сделать?
Дома я лег в постель, захватив с собой несколько надоевших университетских учебников. Кажется, ты знаешь их наизусть, помнишь, на какой странице какая фотография и схема. Но когда надо что-то вспомнить, оказывается, что помнишь все, за исключением того, что тебе нужно. Итак, карлики и великаны…
Тысяча семьсот лет назад Клавдий Гален, сын великого скульптора Никона, опроверг мнение Аристотеля о том, что мозг есть железа, выделяющая слизь для охлаждения организма при работе сердца. Но слизь существовала, и Гален нарек создателем ее маленькую железу — гипофиз. Двенадцать веков спустя знаменитый Андреас Везалий подтвердил это в своих трудах. Прошло еще около сотни лет, прежде чем медики пришли к выводу, что гипофиз и слизь не имеют ничего общего. Но тогда зачем он существует? Уиллс считал, что гипофиз выделяет спинномозговую жидкость, Мажанди — что он поглощает ее. Мнений было столько же, сколько анатомов. И лишь в конце прошлого века француз Пьер Мари раскрыл тайну загадочной железы. Гипофиз — крохотный кусочек нашей плоти, вес которого едва превышает полграмма, управляет ростом. Он выделяет матотропный гормон, влияющий на размеры всех органов и тканей тела. Ведь гипофизарный нанизм, рождающий карликов и гигантизм — его противоположность; акромегалия, при которой непропорционально увеличиваются отдельные части тела; хондродистрофия — страшный недуг, задерживающий рост конечностей, — все они имеют один корень — нарушение функций гипофиза. Собаки корпуса N — хондроди-строфики? Но ведь это сенсация! Шефа можно назвать «королем гипофиза»: он сумел подчинить себе никем еще не побежденную железу! Друг моего отца совершил переворот в науке!
13 февраля. Мое восторженное настроение, вызванное накануне осмотром лабораторий института экспериментальной биологии, не улеглось и к утру, когда я вновь встретился с шефом. На все моя восторги Вальден отвечал добродушной отеческой улыбкой. А когда я, блеснув медицинской эрудицией, выложил все своз догадки об открытии тайн гипофиза, он расхохотался.
— Я вижу, ты кое-что увез из Кельна, Курт. Поздравляю, поздравляю! Итак, ты говоришь «ручной гипофиз»? Неплохо. Для газетного заголовка, — он стал вдруг серьезным. — Ты и прав и не прав. Бесспорно, матотропные гормоны влияют на рост. Ну, а что происходит в глубине гипофиза? Об этом твои учебники молчат. Что такое вообще матотроппый гормон и почему именно он, а, например, не тиреотропный гормон, который также выделяет гипофиз, влияет на рост твоих рук и ног? Ах, уж эта мне старая школа, миллионы названий, за которыми полнейший вакуум. Ты слушал курс биофизики?
— Да, конечно. — По правде сказать, я был сбит с толку резким переходом шефа от улыбок к тону недовольного экзаменатора. Наверное, «да» прозвучало очень неуверенно, потому что шеф продолжал:
— Любое живое тело — это ткани, ткани состоят из клеток. Должно быть, в Кельне уже знают и, возможно, рассказывали вам, что клетка содержит ядро, а ядро, как считают некоторые, в том числе и я, несет, в свою очередь, хромосомы, в которых находятся гены.
Рост — это деление клеток. При этом происходит удвоение хромосом и генов. Миллионы и миллионы клеток «набиты» совершенно одинаковыми генами. Но процесс их удвоения может нарушаться, ген претерпевает изменения, мутирует…
— Шеф, — улыбнулся я, — очевидно, вы не взяли бы к себе в институт человека, которому надо объяснять, что такое мутация…
— Чудесно. — Я почувствовал, что Вальден увлекся собственным красноречием, и эта импровизированная лекция нужна теперь ему самому больше, чем мне. — Итак, — продолжал он, — если вам знаком этот термин, вы должны знать, что форма живого организма — продукт мутаций. Сильное изменение формы под влиянием мутантных генов обычно приводило к смерти. Я говорю приводило, потому что все эти процессы носили стихийный, случайный характер. Но и тогда уже многим было ясно, где надо искать ключ к созданию новых форм.
Гипофиз — один из многих аппаратов, посредством которого гены влияют на развитие. В наших руках огромные возможности направленных, рассчитанных и обдуманных изменений организма. — Вальден торжествующе поднял голову. — Можно лепить живое так же, как лепят из глины. И мы, биологи, научились бы делать это гораздо раньше, если бы не замыкались в своих кельях — лабораториях, набитых мышами и собаками, а почаще заглядывали к соседям. Я говорю о физиках. Гибрид двух наук мог бы принести невиданные плоды гораздо раньше…
Шеф то вскакивал из-за стола и взволнованно расхаживал по серому нейлону ковра, то присаживался на ручку моего кресла и, склонившись, шептал над самым моим ухом.
Его рассказ напоминал главы увлекательнейшего фантастического романа. Он говорил о каком-то Альбрехте. Сначала я подумал, что это кто-то из его научных сотрудников, но потом сообразил, что речь идет о машине. Я не понял до конца ее устройства. Очевидно, это была удивительная помесь электронного микроскопа с мощным генератором рентгеновского излучения. Уникальная аппаратура фокусировала поток рентгеновских лучей, который, подобно тончайшему хирургическому инструменту, оперировал ядра зародышевых клеток. Все это помещалось внутри сложнейшего универсального инкубатора, заменяющего яйца и материнскую утробу птицам и животным…
— Ты помнишь эти стихи, Курт? — неожиданно спросил фон Вальден:
— Откуда это, Курт, а?
— Кажется, Гёте… — сказал я.
— Да, Гёте писал о нас! Ведь мы воплотили все сокровенные желания в телесных образах… Хотя нет, еще не все… Сейчас мы воздействуем лишь на некоторые признаки, но это только начало, — голос Вальдена звенел. — Мы сможем создать совершенно новые формы живых существ, да простит мне господь эти слова… Человек! Разве так уж рационально устроен он? Ты задавал себе когда-нибудь вопрос, зачем сейчас человеку нужны брови, например, или ногти на ногах? Если потребуется, я смогу создать новое лицо человека, — лицо рационально сконструированное, с глазами, поднятыми выше лба, с одной ноздрей (а почему, собственно, их должно быть две?), с рассчитанными акустиками ушными раковинами, способными улавливать ультразвуки. Ты представляешь себе сонату фа-минор Бетховена в переложении на ультразвук?
— Вы мечтаете создать чудовище?! — воскликнул я.
— Красота человека?… Да есть ли понятие более условное? — Вальден презрительно усмехнулся. — Привычка, не больше. Жаба, очевидно, считает Аполлона уродом. Для того чтобы сравнивать, нужен эталон. Расстояния мы измеряем в метрах, радиацию — в рентгенах, а красоту? Венера Милосская? Ну, а почему, собственно, Венера? А если даже и Венера, то как сравнивать? Дело не в красоте, Курт! — Он опять перешел на быстрый взволнованный шепот, — В наших руках будет великая сила: мы сможем направленно изменять себе подобных. Если бы нас поняли в тридцать четвертом, то в Германии уже была бы настоящая новая раса арийцев. И тогда бы не потребовалось измерять циркулями череп для определения его чистоты…
— Новая арийская раса? — перебил я шефа.
— Конечно! Но теперь не те годы. Само понятие чистоты расы так загажено этими молодчиками Розенберга и Геббельса, что трудно говорить об этом всерьез. Но… Годы идут, времена меняются, и нужно вынуть руки из карманов, как любил говорить твой отец, нужно работать.
16 августа. Странное чувство владело мною все это время. Меня очень увлекала работа, и, забыв обо всем, я засиживался вечерами в лабораториях корпуса N. Но в те немногие свободные вечера и воскресные дни, которые у меня оставались, я старался взглянуть на себя со стороны, осмыслить не процесс своей работы, не технику, а… — может быть, это чересчур громко сказано — ее философское содержание. И невольно вспоминался тот откровенный разговор с шефом, когда он предсказывал будущее своих открытий.
Вальден — расист? В это нелегко было поверить, а еще труднее совместить с его репликами в адрес Геббельса и Розенберга. Как-то, когда он был в нашей лаборатории, разговор зашел о новых сообщениях из США, в которых описывались бесчинства американских расистов в южных штатах. Вальден поморщился и сказал: «Не понимаю, как серьезные люди могут заниматься такой ерундой». Расист не может так сказать. И потом он слишком большой ученый; чтобы скатиться до расизма. Очевидно, он вкладывает в понятие расы какой-то свой, не совсем верный или, по крайней мере, не общепринятый смысл. Да и как можно сравнивать его с этими гитлеровскими маньяками, его, знатока поэзии и живописи, коллекционера гравюр Дюрера, человека, который плакал на концертах Бетховена… И, конечно, это счастье для любого молодого биолога работать под руководством такого ученого…
И я работаю. Работаю и учусь. Оказалось, что знания одной биологии и медицины мало для сотрудников корпуса N. Тем более, что теперь в моем ведении находился «Альбрехт». Рассказывают, что таких аппаратов в институте несколько, и тот, что стоит у нас, — еще не самый большой. Каковы же тогда другие?
Когда меня впервые подвели к «Альбрехту» — низко гудящей громаде, занимающей половину просторной комнаты, — я подумал, что и через десять лет не смогу управлять им: сотни кнопок, тумблеров, рубильников, созвездия разноцветных лампочек, экранов, ряды блестящих штурвальчиков, окруженных непонятными загадочными табличками: «питание внешнего контура», «фокусировка у-фона», «блок частотных модуляторов» — все это было знакомо мне не больше китайской письменности.
А теперь я уже спокойно сижу в кресле оператора перед бледно-зеленым экраном ЦЭМа (центрального электронного микроскопа) и уверенно нажимаю на кнопки. Конечно, все это пришло не сразу. Мне много помогали и сам шеф, и Гуго, и Марта.
Гуго Боцке — седой молчаливый человек. Из него еще можно выжать несколько слов о работе, но о себе — никогда. За полгода совместных трудов я не узнал даже, где он живет, женат ли, как попал в институт. Он отлично разбирается в электронике и физике, но биологию знает слабо. Вдвоем мы представляем неплохой «мозговой сплав». Как-то он менял триоды в «Альбрехте». Через маленький лючок с трудом пролезала рука, и он закатал рукав халата. Я увидел длинный шрам, изуродовавший запястье.
— Уж не Адольф ли постарался? — спросил я, указывая на шрам. Адольф — это наш длиннохвостый крокодил. Существо злобы неимоверной.
— Адольф, — мрачно ответил Боцке. — Но не тот Адольф, о котором ты думаешь. Это «сувенир» из Севастополя.
Так я узнал, что он был на русском фронте. А больше, пожалуй, я ничего и не знаю о нем.
— Если и дальше у тебя пойдет так гладко, — сказал мне Гуго в другой раз, дружески похлопав по плечу, — ты угодишь в корпус S.
Но сколько я ни пытался расспрашивать, что это за корпус, он отмалчивался. «На сто марок больше», — это все, что мне удалось узнать.
И все-таки, несмотря на его угрюмость, я чувствую, что он неплохо относится ко мне. Во всяком случае, лучше, чем к Марте.
Откровенно говоря, я не понимаю Марту. Может быть, потому, что еще мало знаю ее. Через месяц после того, как я впервые переступил порог корпуса N. Марту, эту двадцатидвухлетнюю девчонку, Вальден послал в Чикаго. Там происходил конгресс энтомологов, и Марта повезла туда наших муравьев. Ведь они действительно вылупились! Ганс и Герман — длиною 180 сантиметров!
На этот раз шеф изменил себе: впервые за всю историю института (так говорил Гуго) за наш высокий забор вышло в мир одно из детищ Отто фон Вальдена — сверхгигантские муравьи. Правда, институт остался в стороне: муравьи уехали за океан под вывеской новых работ ассоциации энтомологов ФРГ, хотя ни один энтомолог во всей Федеративной республике не имел абсолютно никакого понятия, откуда они, собственно, появились.
Так вот, Марта повезла Ганса и Германа. Шум поднялся необыкновенный. «Дер Штерн» посвятил нашим питомцам половину номера. Ганс (он чуть больше) угодил на обложку «Лайфа», муравьев показывали по телевидению. Кстати, во время передачи Ганс перекусил какой-то кабель и чуть не сорвал всю демонстрацию. С ним было немало хлопот еще в Нюрнберге. Он, едва успев вылупиться из яйца, отодвинул засов своей клетки и кинулся на лаборанта. Муравья загнали обратно при помощи двух огнетушителей.
Конгресс встретил наших муравьев восторженно, хотя доклад, который Вальден написал для старичка энтомолога, главы нашей делегации, был сплошной «липой». Там говорилось о каких-то мифических методах дифференциальной селекции, но ни слова не было сказано о работах фон Вальдена и «Альбрехте», которому Ганс и Герман были обязаны своим рождением.
Через месяц Марта привезла муравьев обратно. Газетный бум стих, и муравьи снова перекочевали за забор на Рихард-штрассе, в наш корпус. Марта кормила их говядиной, вареным картофелем и следила за тем, чтобы они не согнули прутьев решетки, толщина которых позволила бы держать в ней льва.
Это и было ее основным занятием. Насколько я понял, Марта не знала толком ни физики, ни биологии. Всякой творческой работе она предпочитала чисто техническую. Она обожала статистику, любила вычерчивать графики и диаграммы, вести всякую официальную документацию, которая нам только мешала. Она была любопытна, но не любознательна. Ее интересовало решительно все, за исключением нашего дела: мои знакомые и те, кто звонят мне по телефону; и что я думаю о предложениях Москвы по разоружению; и как мне нравится последнее выступление американского президента. Очевидно, это ее любопытство и равнодушие к нашей работе и раздражало Боцке, да и меня немного. Я не совсем понимал шефа, который приглашал ее на все наши научные консилиумы: пользы от нее не было никакой. Быть может, Вальден просто не хотел обижать «фрейлен Марту», как он с неизменной почтительностью называл ее. О, у нашего шефа можно учиться не только биологии, но и «старым, добрым» правилам хорошего тона!
3 ноября. Однажды, когда фон Вальден пришел в нашу лабораторию, я спросил его, почему он назвал свой аппарат «Альбрехт».
— А разве ты не знаешь, — удивился он. — Нюрнберг — родина великого Альбрехта Дюрера. Одного из тех немногих художников, который до тонкости знал пропорции живого тела. Ты читал его «Книгу пропорций»? Обязательно посмотри. А помнишь «Адама и Еву»? Это гениально!
— Шеф, а что вы говорили о Венере Милосской? — напомнил я.
— О, ты не понял меня, — недовольно поморщился фон Вальден. — Это трудно объяснить. Для Дюрера не существовало абсолюта красоты. Я чувствую, что в слово «искусство» он вкладывал нечто иное, чем его современники, да и потомки. Дюрер говорил: «Искусство заключено в природе, кто может, тот извлекает из нее искусство и владеет им». И разве то, что делаем мы с помощью нашего «Альбрехта», — не искусство? Ведь все возможное уже заключено в природе, в недрах зародышевой клетки, и именно наш «Альбрехт» извлекает из нее то, что мы хотим.
— А что «он» делает в корпусе S? — совершенно неожиданно для самого себя спросил я.
Шеф резко повернулся. Его яркие голубые глаза на секунду впились в мое лицо.
— В корпусе S «Альбрехт» тоже делает то, что мы хотим, — медленно, с расстановкой проговорил он.
Несколько недель Вальден не напоминал мне об этом разговоре. Я тоже молчал, и вот сегодня он вызвал меня к себе. Первое, что я услышал от него, было:
— Курт, с сегодняшнего дня вы переходите на работу в корпус S.
Он похвалил мои отчеты по крысам-головастикам (вес их головы составлял 38 процентов общего веса), отметил, что я в совершенстве владею техникой операций на «Альбрехте», и выразил надежду на то, что и в будущем мои дела пойдут не хуже.
— К тому же рад сообщить вам, что ваше жалованье с сегодняшнего дня увеличивается на сто марок, — добавил он.
— Благодарю, шеф, — ответил я. — Но что я должен буду делать?
— Ваша новая тема: режимы кровообращения коры головного мозга.
— Опять крысы?
— Нет. Но работу с крысами не забывай. Она тебе еще пригодится… Впрочем, ты знаешь, что я люблю сюрпризы и не люблю предварительных объяснений. Вопросы потом.
Он отложил в сторону бумаги, лежавшие перед ним на столе. Я заметил среди них мою анкету. В графе «Род занятий отца», там, где я написал «биолог», рукою шефа было добавлено: «группенфюрер СС». «Зачем?» — подумал я, но промолчал.
Корпус S стоял на берегу маленького пруда, окруженный со всех сторон пышной зеленью липовой рощи, в листве которой белели изоляторы линии высокого напряжения. «Значит, — подумал я, — и здесь есть свой „Альбрехт“»: высокое напряжение питало конденсаторы фокусировки.
Я не ошибся. В первой комнате, вернее, зале, я увидел уникальный аппарат. Он был больше того, на котором я работал. Перед главным пультом управления было два кресла. Я сразу заметил, что и сам пульт был снабжен какими-то дополнительными ручками управления, назначение которых было мне неизвестно. Я сказал об этом шефу.
— О, это пустяки, — ответил Вальден. — Да первое время тебе и не нужно будеть работать на «Альбрехте».
 |
Мы прошли длинным темноватым коридором, в котором за маленьким столом сидел какой-то здоровенный детина в белом халате. Увидев шефа, шедшего впереди, он встал. Мы молча прошли мимо и остановились перед дверью, застекленной белым матовым стеклом. Из-за двери раздавался какой-то писк, напоминающий щебет зеленых попугайчиков. Вальден оглянулся на меня и улыбнулся, затем открыл дверь и остановился на пороге.
— Добрый день, ребята, — весело поздоровался он. Я услышал ответный писк и заглянул через плечо шефа. Картина, которую я увидел, останется в моей памяти до самой смерти. Просторная квадратная комната без окон была ярко освещена. В ней не было ничего, кроме большого белого письменного стола и целого ряда маленьких кресел у противоположной стены, напоминающих детские стульчики на колесиках. В креслицах я увидел живые человеческие головы, с интересом смотревшие на нас. В первую секунду мне показалось, что это какой-то фокус, что тела, принадлежащие этим головам, помещаются где-то внизу, под полом комнаты. Но это только показалось.
В креслицах сидели чудовищные существа. Большие взроcлые человеческие головы принадлежали уродцам с телами двухгодовалых детей. Они пищали что-то, чего я не мог разобрать, улыбаясь и протягивая к нам тонкие птичьи лапки-руки.
Это было так страшно, что я почувствовал, как липкий холодный пот выступил на моем теле. Шеренга голов у стены дернулась и поплыла в сторону: я понял, что теряю сознание. Чтобы не упасть, я схватил руками плечо шефа. Он обернулся, ободряюще похлопал меня по плечу:
— Ну, ну, Курт…
Очнулся я уже в другой комнате на диване, обтянутом белой клеенкой. Рядом в кресле сидел Вальден.
— Можете идти, — сказал он детине в белом халате, стоявшему у двери. Увидев, что я открыл глаза, он добавил: — Отлично, теперь мы можем поговорить.
Его голос звучал неторопливо и жестко, в нем уже не было так радовавших меня всегда отеческих нот.
— Вам надо лечить нервы, Курт Шлезингер! (Он впервые назвал меня по фамилии.) Я понимаю, это несколько необычное зрелище, но вы же мужчина. Успокойтесь и слушайте меня.
Я проглотил комок, сжимающий горло, и согласно кивнул головой.
— Вы помните одну из наших первых бесед? Я рассказывал о возможности переделки человеческого организма. Как видите, эта возможность оказалась действительностью. Мы говорили тогда о расе арийцев. Вырастить новую расу — задача сегодня невыполнимая. По целому ряду причин, известных всем, кто читает газеты. Невыполнимая и, если угодно, ненужная. Теперь я почти убежден в этом. Почти. Но то, что вы видели, — не забава. Я буду абсолютно откровенен. Надеюсь, вы оцените это, а впрочем… Вы, конечно, помните расписки о сохранении тайн. Это не мои тайны, они принадлежат государству. Итак, вы слышали что-нибудь о «Литл-бэби»?
Я отрицательно покачал головой.
— «Литл-бэби»-одна из статей импорта ФРГ, — улыбнулся фон Вальден. — Баллистическая ракета среднего радиуса действия может быть оснащена водородной головкой и еще чем угодно. Над ней бьются уже лет восемь, но она упорно не желает лететь туда, куда ей нужно лететь: система управления искажает корректировку на активном участке траектории. Кроме того, специалисты считают, что эта система вообще неустойчива и легко может выводиться из строя направленными радиопомехами. Впрочем, вы все равно в этом ничего не понимаете. Короче, аппаратура — дрянь! И я предложил заменить приборный отсек кабиной пилота. Но этот пилот должен занимать не больше места, чем занимают сегодня гироскопы и интеграторы ускорений. Это требование ракетчиков. И за точным его выполнением следит фрау Марта. Что делать, Курт, тот, кто платит, имеет право требовать. Совершен принципиально новый шаг в истории человеческого прогресса: раньше человек строил машины для себя, теперь мы строим человека для машины! Ты можешь себе представить самоходную пушку с детскую коляску или подводную лодку в полтора метра длиной? — его голос звучал торжествующе. — Они не будут управляться приборами. Ты биолог и знаешь — человека нельзя заменить прибором. В них будут люди!
Десять лет я пробовал растить карликов, и ничего. Полный провал. «Альбрехт» рождал идиотов. Я отступил: оставил нетронутой голову и уменьшал тела. Я написал свою «Книгу пропорций» и проверил ее сначала на крысах, потом… И вот результат: эти ребята отлично соображают. Правда, иногда у них бывают обмороки, что-то с кровообращением коры головного мозга… слишком слабенькое сердце…
— Но ведь они люди, — одними губами прошептал я.
— Они трупы! Мы получаем их в больницах, где делают аборты ранее облученным женщинам. А потом их выращивает мой «Альбрехт». И если бы не он, они бы вообще не существовали.
Он еще долго говорил о непревзойденном соотношении веса мозга к весу тела этих несчастных, об опытах по сокращению количества потребляемого ими воздуха, о шарнирных манжетах, поддерживающих головы, тяжесть которых не может выдержать тонкая шея…
Он говорил, и я слышал его слова, но они летели как-то мимо меня, не задевая сознания. Просто всем этим словам уже не было места в моем мозгу, переполненном невыразимым кошмаром. Что-то подобное я испытывал в детстве, когда был тяжело болен и в бреду падал в какие-то бездонные раскаленные пропасти; падал один, маленький и брошенный всеми. Тогда я плакал, кричал в бреду, и мама успокаивала меня, гладя по голове… Может быть, и теперь надо просто закричать на этого человека, человека, который не может говорить того, что он говорил. Он, друг моего отца… Если бы был жив отец!.. Отца убили, убили в секретном лагере… А может быть, и отец?… Это ужасно, все ужасно… Крошечные мыши, которых фон Вальден воспевал стихами Гёте, мечты о людях с ультразвуковыми ушами, шпионаж Марты, бессмертные полотна Дюрера и эта страшная машина, которую он назвал именем великого художника… Я вдруг отчетливо вспомнил автопортрет Альбрехта Дюрера и выражение его глаз. Они пристально смотрели на меня, смотрели в мои зрачки, вопрошая и требуя…
 |
(support [a t] reallib.org)