"Дом за вашим небом" - читать интересную книгу автора (Розенбаум Бенджамин)
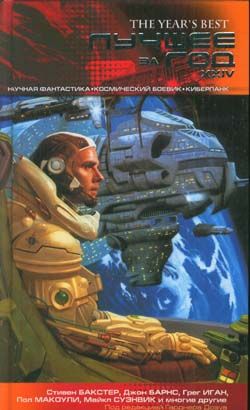 |
Бенджамин Розенбаум Дом за вашим небом[1]
Матфей просматривает свою коллекцию миров. В одном из них маленькая девочка по имени Софи дрожит в кроватке, прижимая к себе плюшевого мишку. Ночь. Малышке шесть лет. Она плачет, тихо-тихо, чтобы никто не услышал.
С кухни доносится звон бьющегося стекла. Тени родителей мечутся на стене соседского дома; девочка видит их в окно. Взмах — одна тень падает. Софи зарывается личиком в мех медвежонка и молится.
Матфею не следует вмешиваться, он это знает. Но сегодня на сердце у него тревожно. Мир отправил посланника. Он идет, чтобы встретиться с Матфеем впервые за очень долгое время.
Идет издалека.
Посланник — один из нас.
— Пожалуйста, Бог, — произносит Софи, — пожалуйста, помоги нам. Аминь.
— Не бойся, малышка, — отвечает ей Матфей плюшевым ртом медвежонка.
Замерев, Софи резко вздыхает.
— Ты Бог? — шепчет она
— Нет, дитя мое, — говорит Матфей, создатель ее вселенной.
— Я скоро умру? — спрашивает девочка.
— Не знаю.
Когда они, все еще несвободные, умирают — это навсегда. У девочки яркие глаза, нос кнопкой, пушистая копна волос. В движении ее мышц — пляска натрия и калия. Невольно Матфей представляет труп Софи среди миллиардов прочих, возложенных на алтарь его тщеславия и слабостей, и содрогается.
— Я люблю тебя, мишка, — шепчет девочка, обнимая игрушку.
На кухне — звон бьющегося стекла и рыдания.
В вас — в ком так нуждаемся теперь — мы видим свою бурную и хрупкую юность: зависимую от материи, несовершенную, смертную. Людскую. Отец Матфей, наш священник, — агамный[2] рабочий организм с защитными покровами пурпурного цвета и сетью серебристых трихом.[3] Представьте его в человеческом облике: немощным старцем с иссушенным телом, проницательным взором, гладкими белоснежными волосами и ясным, румяным лицом.
В сравнении с просторными дворцами бытия, в которых обитаем мы, дом Матфея выглядит крошечным. Вообразите хижину-мазанку, приютившуюся на склоне неприступной горы. Но, как бы ни был скромен кров, в нем есть место для хранилища временных моделей — миров вроде мира Софи, — каждая из которых населена разумной жизнью.
Суть моделей, пусть и умело сделанных, не секрет для их обитателей. Когда наступает конец, Создатель открывает Свое присутствие, спрашивая каждую из душ: что дальше? Большинство принимает предложение покинуть пределы своего мира и присоединиться к обитателям дома Преподобного.
Их вы можете представить в виде длиннохвостых попугаев, живущих в плетеных клетках без щеколд. Клетки висят под самым потолком хижины. Птицы порхают, навещают соседей, воруют хлеб со стола и сплетничают о Матфее.
А что же мы?
Наши истоки — в начале начал, когда космос был наполнен ярким сиянием; мы растворялись в соленых морях, нас перемешивали потоки кварков в глубинах нейтронных звезд, нас вбирал в себя лабиринт гравитационных искажений между черными дырами… Мы обретали друг друга, сливались в промежуточные звенья, вели архивы Бытия… Мы строили дворцы — мегапарсеки неисчерпаемой материи мудрости, в каждом грамме которой кипели общности нашего Я… О, славные, зрелые годы!
Теперь наша вселенная стара. Дыхание вакуума — прежде лишь шепот, который мягко разводил нас в стороны, — ныне достигло состояния чудовищного шторма. Пространство расширяется быстрее, чем свет может пересечь его. Наши дома обречены на одиночество; между ними лишь мрак и пустота.
Чтобы выжить, мы остываем. Теряем скорость мыслительных процессов, хотя в теории их импульс может угасать бесконечно долго. Сужается диапазон частот; нам приходится экономить силы. Мы вырождаемся.
И смотрим на священника, на его крошечный домик за пределами нашего мира. Матфея мы создали очень давно, здесь тогда еще сияли звезды.
Там, в протосфере, на границе с космосом, он творит что-то новое.
Какая расточительность: отправить микрочастицу себя к его жилищу. Кто из нас решится на это?
Отец Матфей молится.
«О Господь Вседержитель Безначальный, пред величием чьим я ничтожен, как цифра шесть пред бесконечностью; о Благодать Животворящая, что вне скверны и лютости бытия нашего, даруй мне частицу силы Твоей и долготерпения Твоего. Не для себя молю, Господи, но для паствы Твоей; для мириадов Твоих вочеловеченных подобий. Да святится Имя Твое во веки веков. Аминь».
Завтрак преподобного остывает перед ним нетронутый. (На самом деле это утренний комплект стандартных, но приятных проверок системной базы данных, но вы можете представить себе густую, дымящуюся овсянку, приправленную мятой.)
Одна из птиц спархивает на стол. Это Джеффри, старейший из попугаев. Когда-то он был константным сгустком плазмы в гелиопаузе смоделированной звезды.
— Забери ключи, Джеффри, — произносит Матфей. Попугай смотрит, склонив голову набок:
— Зачем ходить в хранилище, если потом ты становишься грустным?
— Они страдают. Темные, запуганные, жестокие друг к другу…
— Брось. Жизнь полна боли. Болит — значит живет! Лишения! Борьба! Роковое стремление размножаться в обреченном мире! Все рождается в боли. А твои дела плохи — слишком привязался к разумной жизни. Муки внешние питают муки внутренние! — Попугай склоняет голову на другой бок и продолжает: — Прекрати лепить нас в таких количествах, если боль не по нраву.
На Матфея жалко смотреть.
— Что ж, хотя бы спаси тех, кого любишь. Возьми их сюда.
— Как я могу, они не готовы. Помнишь, как случилось с Селевкидами?[4]
Джеффри фыркает. Еще бы не помнить — высокоорганизованные полчища жестоких захватчиков, стремящихся к абсолютной власти. В течение бесконечно долгих эпох они крушили дом Матфея, пока священник не заточил агрессоров обратно в их имитацию мира.
— Я тогда предупреждал, между прочим. Но не об этом речь. На их бесчисленную армаду тебе плевать. Тебя волнует кто-то другой.
— Одна маленькая девочка, — кивает Матфей.
— Так забери ее.
— Это было бы верхом жестокости. Лишить ее всего, к чему привыкла? Разве она вынесет? Лучше постараться хоть как-то устроить ее жизнь там…
— Вечно ты вмешиваешься, а потом жалеешь. Матфей хлопает ладонью по столу:
— Я устал от такой ответственности! Хватит! Забери дом, Джеффри. Я стану твоим попугаем…
— Ни за что. Я слишком старый и большой, я уже достиг покоя. Даже не подумаю изменяться ради твоих ключей. Трансформаций с меня довольно. И с них тоже. — Клювом Джеффри указывает на остальных попугаев, тараторящих под потолком. — Разве что дураки найдутся.
Матфей, вероятно, хочет возразить, но в этот момент приходит посланник (представьте чистый высокий звон дверного колокольчика). Сигнал посетителя считывается по исчезающему каналу, который пусть и слабо, но все еще связывает жилище священника и мрак, в котором обитаем мы.
Поднимается переполох, все готовятся к встрече, пока разрозненные части пришедшего переходят в режим целостной телесной оболочки.
— Переправь его в виртуальность, — советует Джеффри, — от греха подальше.
Матфей проверяет учетную запись. Он потрясен:
— Известно ли тебе, кто это? Древнейший, огромное сообщество душ из великой эры света. Среди его частиц есть те, что были рождены смертными, но преодолели телесность еще на заре всего сущего. Он один из моих создателей.
— Тем более. — Джеффри упорствует.
— Унизить гостя, ограничив доступ?! — возмущается Матфей. Попугай молчит. Он понимает: преподобный надеется, что вновь прибывший займет его место.
Всхлипывания на кухне внезапно обрываются. Софи садится, сжимая медвежонка в объятиях. Опускает ножки в пушистые зеленые тапочки. Приоткрывает дверь спальни.
Гость священника выглядит как тучный, раздражительный торговец средних лет; землистого оттенка кожа, волосатая грудь, тяжелая челюсть и красные, словно от бессонницы, глаза.
Матфей привечает его радушно, щедро выделяет оперативное пространство и права доступа. Горячо настаивает на посещении хранилища:
— Там много довольно интересных дивергенций… Посланник прерывает его на полуслове:
— Я проделал тяжелый путь не для того, чтобы тратить время на жалкие несовершенные игрушки. — Взглядом он пригвождает Матфея к месту. — Нам известно, что ты строишь новую вселенную. Причем настоящий мир, не искусственный. Первородный, бесконечный и густонаселенный, как наш собственный.
Священник замирает. Он должен бы признаться… Оценить жертву посланника; ведь тому пришлось разорвать себя на части, чтобы прибыть сюда хотя бы крупицей привычного величия… Но, к своему стыду, Матфей пускается в уклончивые объяснения:
— Я провожу кое-какие эксперименты…
— Я знаю! Неужели ты полагаешь, что от нас можно что-либо скрыть?
Матфей заметно нервничает:
— Пузырек вселенной… Я воздействую на его формирование, чтобы добиться однородности и стабильности. Но надеюсь, вы прибыли не для того, чтобы… То есть, я хотел сказать, это теоретический интерес, не более… Проникнуть внутрь мы не можем…
— Ошибаешься. Я нашел способ поместить свою сущность в новую вселенную, — возражает посланник. — На начальной стадии моя матрица займет паразитные частоты в зоне молчания и будет воспроизводиться струнами,[5] пока на десятой в минус тридцатой степени секунде не начнут формироваться субвейвлеты.[6] Я буду существовать, искривляясь в свернутых измерениях,[7] воплощаясь в каждой частице, возникающей из вакуума. Тогда я смогу применять движущую силу, используя мощность генератора монад,[8] который я уже установил в парапространстве.[9] Матфей трет глаза, словно на них пелена.
— Вы шутите. Быть в каждом атоме вселенной — и обречь себя на вечное бездействие и заточение?! К тому же новый мир может пострадать от влияния внешних энергий…
— Я готов пойти на риск. — Посетитель оглядывается вокруг. — Я и любой, кто пожелает присоединиться. Мы не станем сидеть и смотреть, как все покрывается льдом. У нас есть возможность стать ангелами нового Творения.
Матфей молчит.
Подпрограммы посланника, вводя давно забытые коды, устанавливают более тесное соединение с преподобным через доверяющий домен:[10] представьте, как гость перегибается через стол и кладет широкую серую ладонь на худое плечо священника. В этом прикосновении — древние мощь и ожидание.
Другую руку он протягивает для ключей.
Матфея окружают только тонкие стены домика. Снаружи — протосферный хаос, бесформенный, оглушающий, враждебный. И лишь за хижиной ютится крошечный пузырек чего-то, что еще не стало сущим; пока еще нет. Что-то драгоценное и непознанное. Священник неподвижен.
— Что ж, — говорит гость, — не желаешь давать ключи мне, отдай ей.
И являет Матфею другое лицо.
Ее лицо. Ныне она часть посланника, а прежде — взрастила способность чувствовать в первой из струн, коими мы создавали священника. Начальным ее воплощением был лес симбионтов — гибких серебристых существ, что шелестели ее пурпурной листвой, напевали ее мысли, рассеивали споры ее эмоций… Исполненная покоя, она вела бесконечные беседы с Матфеем. Любящая, ласковая, с серебряным голосом… Ее улыбки, молчание или неодобрение пробуждали младенческое сознание.
— Все хорошо, Матфей, — говорит она, — ты молодец. Дыхание шевелит пунцовую листву ее лица, кроткая улыбка источает пьянящий, тягучий аромат.
— Мы создали тебя как ориентир, путевую станцию… Но теперь ты мост в новый мир. Идем с нами. Идем домой.
Матфей подается вперед. Как же ее не хватало, как хочется рассказать обо всем: о хранилище, о маленькой девочке!.. Уж она знает, что делать, — или, пока она будет слушать, священник догадается сам.
Его системы исследуют и анализируют каждый бит информации, проверяют подлинность, сличают стиль, вычленяют древние матрицы ее возможных воплощений в прошлом. Все блоки, ответственные за верификацию и контроль кодов доступа, подтверждают достоверность…
И все же что-то в нем сопротивляется.
Вы бы сказали: Матфей смотрит ей в глаза и понимает, что обманут.
Он отдергивает руку.
Но поздно: слишком долго он любовался ее пурпурной листвой. Посланник уже взломал его защиты.
Взрываются протосферные бомбы, чистильщики Небытия, пагубного для Сущего. Некоторые попугаи оказались предателями: по высокоскоростному обходному каналу посланник успел соблазнить их обещаниями власти и новой жизни. Они раскрыли секреты входа. Токсичные снаряды запущены; их цель — вывести из строя сознание каждого обитателя дома. Частицы Матфея разрознены, наполняются ядом и разлетаются по всему его оперативному пространству. Попугаев уничтожают системные ошибки — Осы.
Дом объят пламенем. Стол перевернут; на полу осколки чайных чашек.
В руках посланника Матфей сжимается до размеров тряпичной куклы. Гость опускает его в карман.
Частичка священника, еще свободная, уносит в себе ключи от дома, мчится сквозь невероятный лабиринт остатков разорванных соединений. Без ключей победа пришедшего не будет полной.
То, что осталось от Матфея, мечется под хваткой преследователя, сопротивляется изо всех сил. Крупица сознания ныряет в еще открытый выход, несется по спасительной цепи, рассыпающейся на ходу, уносит ключи. Укрывается в хранилище, в плюшевом медвежонке маленькой девочки.
Софи встает между родителями.
— Детка, — говорит мама надломленным от страха голосом, пытается подняться, — иди к себе.
Кровь на ее губах, на полу.
— Мамочка, можешь взять мишку, — предлагает Софи.
И поворачивается к отцу. Вздрагивает, но глаза не закрывает.
Посланник подносит куклу-Матфея к лицу.
— Пора сдаваться, — произносит он. Матфей чувствует его дыхание. — Ну же, скажи, где ключи. Тогда я отправлюсь в Новый Мир. И оставлю тебя и эти примитивные поделки, — он кивает в сторону хранилища, — в покое. Иначе…
Священник дрожит. Господь Всемогущий, на то ли воля Твоя? Матфей не воин. Он не допустит гибели обитателей дома и хранилища. Лучше рабство. Не таков Джеффри.
Пока священник собирается с духом, Селевкиды врываются в основное оперативное пространство хижины. Кровожадный народ. Заключенные на целую вечность в своем мире, дом Матфея они не забыли. Вооруженная до зубов и готовая к схватке армада.
И Джеффри — их союзник.
Теперь он полководец Селевкидов. Ему известны все углы и щели в доме, а также то, что посланника не одолеть мемами[11] или бесконечными циклами,[12] не уничтожить логическими бомбами.[13] За миллиард лет тот значительно улучшил арсенал программного оружия общего назначения.
Тактика Селевкидов — в физическом воплощении. За пределами дома, вдали от виртуальной темницы, они строят гарнизон, строят по странным законам, неизвестным посланнику. А затем протосферными подобиями алмазных резаков вспарывают память дома.
Множатся пространственные прорехи — как если бы домик на склоне горы был нарисован на холсте, из которого теперь вытягивают нити.
Посланник упорствует — разрастается, распределяет себя по всей хижине, уклоняется от лезвий. Его преследуют попугаи-разведчики, которые отслеживают каждую частичку, докладывают о расположении врага. Жужжат резаки, множатся яркие вспышки там, где теряют устойчивость и коллапсируют сущностные гиперсостояния…[14] Все гибнет: посланник, попугаи, Селевкиды… Их первичные данные, а также копии уничтожены.
Осколки грубой материи разлетаются прочь, как обрывки бумаги, теряются в запутанном лабиринте протосферы, враждебной всему живому.
Это конечный рубеж для миллионов душ из хранилища. Временная шкала каждой — от рождения до смерти — свернулась, повисла в многомерном пространстве: законченная, преданная забвению.
Кровь клокочет в горле Софи, густая, соленая. Наполняет рот. Тьма.
— Крошка. — Голос у отца злой, резкий. — Не делай так больше! Слышишь? Не смей вставать между мной и мамой! Открой глаза! Ну?! Открой глаза, маленькая дрянь!
Софи слушается. Отец весь красный, лицо в багровых пятнах. Лучше не бесить папочку. Не озорничать. Не дерзить. Голова Софи гудит, как колокол. Во рту — полно крови.
— Крошка…
Бровь отца дергается. Он опускается на колени. Вдруг вскидывает голову, как гончая, заметившая кролика:
— Черис! Лучше не звони копам. — Он хватает Софи за руку. — Считаю до трех.
Мама снимает трубку. Отец встает:
— Раз…
Софи плюет в него кровью.
Хижина залатана — не ахти как, но без дыр, только стала чуть меньше.
Отец Матфей, с красным попугаем на плече, препарирует останки посланника разделочным ножом. Руки его дрожат; в горле пересохло. Он ищет ту, что была лесом. Ищет свою мать.
И находит ее текстовые блоки. Узнает о нашем позоре.
Вначале было единство. Ее пленяла бурная эра света, наша необузданная жажда сливаться друг с другом в новые могучие тела, в новые могучие души.
Один из выдающихся наших соратников всегда добивался ее восхищения (и приходил в негодование, если не добивался). Когда же, шаг за шагом, он стал доминировать в единой душе, она вдруг выступила против него. Никто не ждал от нее такого — ведь она верила в обеты строителей новых систем, верила, что жизнь там будет справедливой. Знала, что ей будет дан голос, право выбора.
Но мы предали ее, так как наши замыслы себя не оправдали.
Деспот заточил ее в самых глубинах нашего единого тела. В назидание остальным.
И в то время как он, наш будущий посланник, окруженный славой и почетом, разрабатывал планы по созданию сфер Дайсона,[15] она кричала от боли.
Миллиарды лет пыток истерзали каждую ее частицу. Все, что может сделать Матфей, — это по памяти воссоздать ее образ в новом существе. Но он достаточно опытен, чтобы не питать на этот счет иллюзий.
Священник сидит, неподвижный, как статуя, смотрит на острие ножа.
— Прощай, друг, — говорит Джеффри Селевкид. Не голос — скрежет затачиваемого лезвия.
Матфей переводит взгляд на попугая.
Правда, Джеффри теперь похож на ястреба. Нечто с устрашающим клювом и когтями-бомбами. Сильнейший из Селевкидов; способный превзойти и уничтожить их всех. Джеффри, с перьями, обагренными кровью.
— Говорил я тебе, — продолжает он, — хватит с меня трансформаций.
Невеселый смех его — лязг металла, крушащего камень.
— Со мной покончено. Я ухожу. Матфей роняет нож.
— Нет, — молит он, — прошу тебя, Джеффри. Стань тем, кем был прежде…
— Не могу, — отвечает Джеффри Селевкид. — Та сущность потеряна. А новая не уступит позиций. — Потом хриплый смешок. — Смерть героя — лучшее, что приходит в голову.
— Что же мне делать? — шепчет Матфей. — Нет сил продолжать. Я хочу отдать ключи. — Он прячет лицо в ладони.
— Только не мне, — говорит Джеффри. — И не Селевкидам. Теперь они на свободе; здесь начнется война. Впрочем, может, их поставят на место. — Скептический взгляд на священника. — Чьей-то жесткой десницей.
Джеффри вылетает в окно, в небо-иллюзию. Матфей наблюдает, как он погружается в месиво протосферы, как размывает его на части Небытие.
Кружение синих и красных огней. Взрослые вокруг Софи говорят быстро и решительно. Носилки с нею грузят в машину «скорой помощи». Софи слышит, как плачет мама.
Несмотря на крепежные ремни, одна рука ее свободна. Кто-то протягивает ей медвежонка, и она прижимает его к себе, прячет личико в мех.
— Ты поправишься, птенчик, — говорит взрослый.
Двери захлопываются. Щечки у нее холодные и мокрые, во рту привкус слез и железа.
— Будет чуть-чуть неприятно. Укол: боль начинает отступать.
Взвывает сирена; рокочет мотор. Они мчатся.
— Тебе тоже грустно, мишка? — шепчет Софи.
— Да.
— И страшно?
— Очень.
Она обнимает его покрепче:
— Все будет хорошо. Честное слово. Не бойся. Я все для тебя сделаю.
Матфей молчит. Уютно устроившись в ее объятиях, он чувствует себя птицей, миновавшей бурное море и на закате дня вернувшейся домой.
Приткнувшись к хижине священника, нарождается новый мир.
Уже рушатся мосты между ним и нашей древней вселенной: теперь мы безвозвратно принадлежим тому, что становится прошлым. Константы определены, симметрия рассчитана. Скоро Ничто, бывшее Нигде, станет пространством. Начнется Нечто, которое было Никогда. Начнется со вспышки, столь мощной, что ее эхо заполнит небеса навеки.
Точка, пылинка, щепотка, комната, планета, галактика и дальше — до бесконечности.
Здесь спустя множество эпох появитесь вы, во всем непостижимом разнообразии форм. Ищите друг друга. Любите. Творите. Будьте осмотрительны.
Достигнув расцвета, ваша Вселенная станет драгоценной лагуной по сравнению с пустым, темным океаном, где мы удаляемся друг от друга, замедленные до холодных, бесконечно малых импульсов. Крупицы среди волн непроглядной тьмы. Вы никогда нас не найдете.
Но если будете умны, храбры и удачливы, придет день, когда один из вас отыщет дорогу к дому, давшему вам жизнь, — к маленькой хижине посреди протосферы, где ждет она.
София, хозяйка дома за вашим небом.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |