"Снежный мост над пропастью. (Сборник)" - читать интересную книгу автора (Журавлева Валентина Николаевна)
 |
Валентина Журавлева. Снежный мост над пропастью
 |
Валентина Журавлева
 |
Р2
Ж91
Рисунки Э.Шагеева
7–6–3
 |
СНЕЖНЫЙ МОСТ НАД ПРОПАСТЬЮ
С ума можно сойти! Не получается у меня статья. Вот, пожалуйста, наугад открываю “Вопросы психологии”: “Наибольшее рассогласование между двумя гипотезами определяется средним значением и дисперсией суммы случайных переменных, которая равна сумме средних значений и дисперсий распределений, из которых берутся переменные”. Здорово, а? “Дисперсия суммы… которая… из которых…” Статья, в общем, пустая, но как звучит!
— Скрибас? — спрашивает Гроза Восьми Морей на своем сомнительном эсперанто. — Пишешь, говорю?
Он стоит у входа в палатку, в руках у него сковородка, солнце весело отражается в лысине Грозы Восьми Морей.
— Заходи, дед, — приглашаю я. — Видишь, дела идут совсем малбоне. Не выходит статья.
— Бывает, — успокаивает меня Гроза Восьми Морей. Он устанавливает сковородку на ящик, заменяющий стол, и бормочет: — Щи ирис претер домо сиа… нет, домо де сиа онкло. Она шла мимо дома своего дяди.
— Какого дяди? О чем ты говоришь, дед?
— Сиа онкло. Своего дяди. С предлогом “претер” упражняюсь. А тебе принес роста фиш. Жареную ке-фалку, значит.
Я ем кефаль, слушаю болтовню деда, и у меня появляется отличная мысль. Мои попытки писать научным языком, в сущности, немногим отличаются от эсперантистских упражнений Грозы Восьми Морей. Ну, а если я просто расскажу, как был открыт АС-эффект? Пусть редакторы сами уберут лишнее, уточнят термины, словом, сделают, что полагается. Главное — факты.
— Ли ригардис… ригардис… — Гроза Восьми Морей огорченно вздыхает. — Забыл, понимаешь. Вот ведь… Он смотрел, ли ригардис, а куда он, печки-лавочки, ригардис — забыл… Ладно, ты себе скрибу, дону скрибу, я пойду, надо сети готовить.
Итак, история открытия АС-эффекта.
История эта уходит в глубь веков. В седую древность. В эпоху, когда мы жили в своем Таганроге и учились в шестом классе. С тех пор прошла целая вечность. Пять лет! Да, пять с половиной лет. Мы были тогда в шестом классе, заканчивалась третья четверть, и у Насти была двойка по арифметике. С этой двойки, собственно, все и началось.
Вообще-то арифметика не ладилась у Насти с первого класса. Но в тот раз положение было прямо-таки катастрофическое. Мы — я и Саша Гейм — старались вытащить Настю. Я старалась, потому что дружила с ней. Да и как староста класса я обязана была что-то делать с ее двойками. А Гейм уже тогда считался математическим вундеркиндом, блистал на олимпиадах, и задачки, которые нам задавали, щелкал как семечки. В полном блеске Гейм развернулся позже, через год–полтора, но для нас он уже давно был математическим гением. Он занимался с Настей почти каждый вечер, я тоже помогала; без меня у Гейма просто не хватило бы выдержки. Занимались мы много, однако у Насти ничего не получалось. А впереди была последняя в четверти контрольная работа.
Так вот, собрались мы у Насти перед контрольной и стали решать задачи. И Гейм в этот вечер кипел от злости. Накануне он достал толстенную математическую книгу, тайком читал ее на уроках, и теперь ему отчаянно хотелось удрать домой, к этой книге.
— Попытайся немножко подумать! — с раздражением сказал Гейм, скомкав очередной лист с неправильным решением. — Нельзя решать, не дочитав условий. Что ты смеешься?
— У тебя в очках лампа отражается, — объяснила Настя. — В каждом стекле по лампе. И когда ты злишься, они вспыхивают, как будто перегорают.
— Есть два пункта, — каменным голосом сказал Гейм. — Пункт А и пункт Б. Тебе понятно? — Он взял два карандаша, положил по обе стороны задачника. Настя перестала смеяться. — Расстояние между пунктами восемь километров. Ясно? Из пункта А вышел пешеход со скоростью пять километров в час. Одновременно и в том же направлении вышел из пункта Б автобус. Заметь, они движутся в одну сторону, — это очень важно.
— А куда они движутся? — спросила Настя.
— Туда! — закричал Гейм и показал руками на край стола. — Куда-то туда, какая тебе разница! Главное, они идут в одном направлении. И автобус через двенадцать минут догоняет пешехода. Надо найти скорость автобуса.
— Ладно, — согласилась Настя. — Не кричи, я найду.
Она стала решать задачу, поглядывая на карандаши. Гейм сидел на подоконнике и смотрел на часы.
— Фу, — радостно вздохнула Настя, — смотрите, сто семнадцать без остатка делится на тридцать девять. Значит, все правильно. А я боялась, не будет делиться. Ответ: три километра в час.
— Три километра! — Гейм подпрыгнул на своем подоконнике. — Ты, Настя, уникальная дура. Пешеход дает пять километров в час, автобус позади пешехода, автобус его догоняет, значит, скорость у него больше, чем у пешехода. Подумай, как автобус догонит пешехода, если будет ползти со скоростью три километра в час?!
Тут мне пришлось вмешаться, потому что Настя обиделась на “уникальную дуру”. Я полистала задачник и нашла другую задачу, полегче. В девять утра со станции вышел товарный поезд, а в полдень отправился экспресс. Скорости поездов известны; надо узнать, в котором часу экспресс нагонит товарный поезд.
— Допустим, ты не дура, — великодушно сказал Гейм. — Я не настаиваю. Но логически мыслить ты не можешь — это аксиома. Вот если бы ты прочитала книгу Пойа “Математика и правдоподобные рассуждения”… Пойа дает общий метод решения задач. Решать надо всегда с конца.
— Я и решаю с конца, — возразила Настя. — Смотрю ответ, потом решаю.
— “Смотрю ответ”… Я же тебе о другом говорю! Решать задачу с конца — значит представить себе, что именно надо найти. Вот в этой задаче надо найти время. Давай рассуждать дальше. Что такое время?
— Ну, время… это такое… оно идет.
— Время есть расстояние, деленное на скорость. Поняла? Скорость нам известна. Разность скоростей в данном случае. И если мы узнаем расстояние, задача будет решена. Ясно?
— Нет, с конца я не могу. С ответа могу, а с конца — нет.
Гейм хотел сказать что-то ехидное, но я ему показала кулак.
Настя долго возилась с задачей, перемножала и делила какие-то шестизначные числа. И наконец объявила ответ: экспресс догонит товарный поезд в десять часов утра.
— Слушай, Кира, с ним что-то происходит, — испуганно произнесла Настя, показывая на Гейма. — Ты посмотри на него.
Еще бы! Экспресс догнал товарный поезд до того, как он, экспресс, вышел со станции… Мне было жалко Гейма, я понимала его чувства, но ведь к контрольной все равно надо готовиться.
Гейм мрачно уставился на часы, а я дала Насте еще одну задачу.
— Эту я обязательно решу, — неуверенно сказала Настя. — Ты не сердись, Саша. Ты же сам говорил, что Эйнштейн в школьные годы хватал двойки по математике. А ты ко мне придираешься. Я решу задачу, я ее понимаю. “Из закипевшего чайника отлили две трети воды”. Значит, там осталась одна треть, видишь, я все понимаю. “Оставшийся кипяток долили водой, температура которой равна двадцати градусам… Определить температуру воды в чайнике”. Ну, тут четыре вопроса…
Гейм подошел и стал смотреть, как она решает. Настя написала четыре вопроса, вывела ответ и облегченно вздохнула. У Гейма позеленело лицо. Он взял свою шапку и ушел, хлопнув дверью и не простившись.
Настя растерянно моргала, с трудом сдерживая слезы.
— Я же не хотела его обидеть, — повторяла она. — Ну, Кира, правда, я его не хотела обидеть, почему он ушел?
Вот еще вопрос! А что должен был сделать Гейм, если по Настиному решению вода в чайнике имела температуру в двести четырнадцать градусов?!
Гейм ушел, а я не могла уйти. Но я не знала книги Пойа “Математика и правдоподобные рассуждения” и вообще не была математическим вундеркиндом. Я ходила в театральный кружок; там говорили не о математике, а о системе Станиславского. Дома тоже говорили о системе Станиславского: отец и мать у меня театральные художники. И я стала учить Настю решать задачи по этой системе. У меня просто не было другого выхода.
— Не реви, — строго сказала я Насте. — Прекрати реветь и представь себе события, которые происходят в задаче. Ну, как будто это театр. Или кино. Вот пешеход идет по дороге. Ты вообрази себе эту дорогу. Вообрази пешехода. Кто он такой. Как одет. И зачем ему надо идти. А тут еще дождик, такой мелкий, противный дождик, представляешь? Ну, понятное дело, пешеход переживает, он даже злится на себя, что не стал ждать автобуса. И подсчитывает: догонит его автобус или не догонит?..
— Нет, — перебила Настя. — Он знает, что автобус его догонит. Он подсчитывает, скоро ли автобус его догонит. Вот, думает, подниму тогда руку, и водитель остановит автобус. А дождь, конечно, идет все сильнее…
Ну! Тут я обрадовалась в десять раз больше, чем промокший пешеход при виде автобуса.
— Давай, Наська, — скомандовала я. — Вживайся в образ, у тебя получается.
У нее в самом деле получалось. Она грызла карандаш, который изображал пункт А, и смотрела на меня очень странным взглядом. Она как будто сквозь меня смотрела, куда-то очень далеко. И там была дорога, не очень хорошая грунтовая дорога, по которой шел пешеход, симпатичный парень, в клетчатой ковбойке, и прислушивался, не идет ли сзади автобус.
— Не вышло, — вздохнула Настя. — Не взял его автобус, обрызгал водой, обфыркал вонючим дымом и помчался дальше. Со скоростью сорок пять километров в час.
Она не заглядывала в ответ, она сама нашла эти сорок пять километров в час!
Тут мы сразу принялись за поезда. Правда, сначала не получалось. Настя продолжала думать о пешеходе, которого не подобрал автобус; дождь в той задаче уже лил как из ведра, и спрятаться пешеходу было некуда. Все это мешало Насте вжиться в образ товарного поезда, которому очень обидно, что его вот-вот перегонит расфуфыренный экспресс. Зато в образ закипевшего чайника Настя вжилась как-то сразу. Она даже пофыркивала, вживаясь. И очень сочувствовала чайнику. Он был уже не новый, закопченный, грузный, с накипью. Ручка на нем оторвалась, ее небрежно завязали проволокой. А ведь когда-то он ходил в туристские походы…
Вот так все началось.
Конечно, я тогда не предвидела, во что это выльется. Меня радовало, что Настя получит тройку в четверги. Она и получила свою тройку. Это была колоссальная победа, и мы продолжали заниматься. Я заставляла Настю вживаться в каждую задачу. Метод действовал надежно, только времени нужно было много: не так просто вжиться, скажем, в образ колхозного поля, которое засеяно на три восьмых пшеницей, на две девятых — кукурузой, потом еще чем-то, и в связи с этим надо что-то узнать…
Что поделаешь! Гейм уже начал свою стремительную карьеру, у него не было ни минуты свободного времени, а я могла учить Настю только по системе Станиславского.
И вот пошло — в шестом классе, в седьмом и дальше. Настя старалась, она даже похудела и только глаза у нее с каждым годом становились больше. Раньше я как-то не обращала внимания на цвет Настиных глаз. А тут вдруг заметила, что глаза у нее — как небо в грозу. Серые, а кажутся темнее черных. Большущие глаза цвета грозового неба. И в них все чаще появлялся странный взгляд — сквозь вас, сквозь стены, куда-то далеко-далеко, где идут поезда из пункта А в пункт Б и автобусы догоняют пешеходов. А я подталкивала Настю: “Давай, вообрази, как там все происходит” — и не думала, к чему это приведет. Мне это казалось обычным.
Скажем, у Игоря Лаубиса хорошая память — он этим берет. Нина Гусева перечитала уйму книг — ей начитанность помогает. Саша Гейм — тот прирожденный математик. Ну, а Настя держится на воображении, только и всего.
Я тогда не понимала, что затеян психологический эксперимент. Допустим, память — тут целая наука, как ее развивать. Но никто не ставил такого, как бы сказать, такого нахального опыта по развитию воображения. Никто не знал, что здесь скрыты невероятные возможности.
Наш дом в Исполкомовском переулке, а за углом, на Карла Либкнехта, одно лето жил мальчишка, упитанный розовый балбес. Так вот, он все лето тренировался по плеванию в цель. Сидит на скамеечке и плюет в картонку с кругами. Смотреть противно. За три месяца он научился попадать в десятку с пяти шагов. Вот что может дать упорная тренировка!
А Настя тренировалась не три месяца, а все пять лет — до окончания школы. Она перевоображала тысячи задач! К тому же у нее наверняка были соответствующие природные данные.
Мы перешли от задач с пешеходами, поездами и городами в безлюдную область синусов, усеченных конусов и биквадратных уравнений. Но Настя могла вообразить любую задачу. Даже тригонометрические функции острого угла она видела как взаимосвязанные особенности характера некоего человека по фамилии О. Угол. Человек этот менялся на глазах: одни качества вытеснялись другими, что-то безгранично увеличивалось, что-то безвозвратно терялось. В шестьдесят градусов О. Угол был уже не таким, как в двадцать.
Да что там О. Угол! У Насти оживали совсем уж безликие иксы и игреки. Я ко всему, казалось, привыкла, но меня поражало, как она различает иксы и игреки; ведь они у нее в каждом примере были разные, Я приставала к Насте:
— Вот тебе система уравнений:
2x2 — y = 2
x3 — y = 1,
Объясни, пожалуйста, что ты там видишь.
— Как же, — говорила Настя, — этот икс такой маленький, такой серенький малышок-первоклассник. Видишь, он пыжится, ему хочется казаться старше, он возводит себя в квадрат, в куб, удваивает — и все равно остается маленьким. И мордочка у него измазана чернилами. Отними игрек — и почти ничего не останется. Но ведь его жалко, этого малыша, — продолжала Настя. — Я думаю, пусть у него ничего не отнимают. Пусть этот игрек уберет свои лапы, исчезнет. Ну и тут уже совершенно ясно видно, какой он малыш, этот иксёнок: возвел себя в третью степень и по-прежнему равен единице…
В восьмом классе меня однажды послали к первоклассникам: у них заболела учительница, надо было заполнить свободный урок. Я взяла с собой Настю. Это тоже очень важный эпизод в истории открытия АС-эффекта.
Представьте себе три десятка мини-классников; они, конечно, отчаянно шумят, возятся, и вот Настя начинает им рассказывать про Красную Шапочку. Через две минуты наступает такая тишина, что я слышу, как скрипят новые Настины туфли. Я, дура, радуюсь и не думаю, что малыши могут испугаться. Настя рассказывает, как Красная Шапочка идет по дремучему лесу. Она совсем не старается добиться художественного эффекта. Она смотрит сквозь нас и рассказывает то, что видит. А видит она
Эти извивающиеся змееветви доконали двух маленьких девочек на первой парте, они начали реветь, но Настя на них и не взглянула. А я растерялась. Ведь рассказывала Настя правильно, и малыши слушали.
Тем временем Настя дошла до того, как Серый Волк съел бабушку. Сами посудите, каким он должен быть, этот проклятый волк, чтобы вот так запросто сглотать целую бабушку. И Наська выдала им соответствующего волка. Малыши завыли, прибежала завуч — нам крепко досталось…
В этот день я начала понимать, что затеяла с Настей нечто необычное. Я пошла в библиотеку, взяла учебник психологии для педвузов и стала читать. Ну, не скажу, что все было понятно. Но две вещи я себе уяснила. Во-первых, после школы я пойду на психологический. Во-вторых, эксперимент надо продолжать. В восьмом классе Настя училась на четверки и пятерки. Значит, ничего плохого от развитого воображения быть не может.
Это я тогда так рассуждала. Наивно, конечно: раз хорошие отметки — все в порядке. Теперь-то я понимаю, что Настя просто была бы другим человеком, если бы в тот вечер перед контрольной я не выпустила джинна из бутылки. И у меня тоже была бы другая судьба. Я ведь мечтала о кино, о театре, три года ходила в театральный кружок, а тут мне сказали: так нельзя, выбирай. Они были правы, не спорю. Я пропускала репетиции, не учила роли, вообще утратила интерес к искусству. Читала книги по психологии, одолела даже две работы Жана Пиаже: “Проблемы генетической психологии” и “Роль действия в формировании мышления”, и постепенно крепла уверенность, что я на верном пути. Понимаете, в психологии слишком сильна, как бы это сказать, наблюдательская тенденция. Взгляд со стороны. Даже психологические эксперименты — это тоже наблюдение в слегка измененных условиях. Представьте себе, что физики ограничились бы экспериментами при небольших температурах, давлениях, скоростях, — где была бы сегодня физика? Конечно, психология имеет дело с человеком и вынуждена быть осторожной, но все-таки мы должны перейти к активным экспериментам по исследованию возможностей человеческого мозга.
Смешно: тогда меня огорчало, что я не могу поставить опыт на себе. Не было новых идей. Мне оставалось продолжать эксперимент с. Настей.
Я объявила Насте, что отныне она подопытный объект. Настя улыбалась и смотрела на меня — нет, сквозь меня! — своими глазищами цвета грозового неба.
С этого времени я заставляла Настю вживаться в образы по всем предметам — по литературе, по физике, по химии и даже по черчению. Конечно, не все шло гладко. Скажем, история. История требует точности; это не математика, где можно вообразить пешехода веселым или, наоборот, грустным, можно мысленно остановить автобус или представить себе, что он проехал мимо. Настя однажды вообразила, как Меншиков, уже в ссылке, стоит у окна избы, и на дворе идет дождь, и Меншиков нехотя, небрежно водит по подбородку старой электробритвой “Харьков”. Подумать только — электробритва в первой половине восемнадцатого века! Но Настя утверждала, что очень хорошо видит эту картину и даже слышит монотонное жужжание электробритвы…
Лучше всего у Насти получалось с математикой, физикой, химией Думаю, это не случайно. Рели расположить все отрасли науки и все виды искусства в ряд по степени точности, на одном конце ряда будет история-наука документальная, полностью исключающая вымысел, а на другом — поэзия, почти нацело состоящая из вымысла. Ну, а математика, физика, химия — как раз посредине. Стихи Настя не могла сочинять: ей нужны были исходные данные,
Зато с математикой дела у нас шли блестяще. В девятом классе это признал даже Саша Гейм.
Произошло это так.
Однажды на большой перемене он объявил, что есть задачка из репертуара приемной комиссии физтеха. С бассейном и четырьмя трубами. Народ, естественно, возмутился: всем изрядно надоели задачечные бассейны, специально созданные, чтобы топить бедняг-абитуриентов. Но слова “приемная комиссия” и “физтех” звучали весомо. Игорь Лаубис пошел к доске, а Гейм стал излагать задачу. Когда открыты первая, вторая и третья трубы, бассейн заполняется за двенадцать минут. Если открыты вторая, третья и четвертая трубы, — за пятнадцать минут, если первая и четвертая, — за двадцать. Спрашивается: за какое время бассейн наполнится водой при четырех открытых трубах?
Я следила за Настей. Она смотрела сквозь Гейма и, конечно, видела этот бассейн. Вероятно, она видела и трубы, и краны, и, может быть, даже людей, сидевших у бассейна и ждущих, когда же он наконец заполнится. Игорь стал писать на доске уравнения, ребята ему подсказывали. Но тут Настя сказала:
— Совсем маленький бассейн. За десять минут заполнится.
Гейм сразу насторожился и стал допытываться, откуда Настя знает ответ.
— Вот бассейн, — ответила Настя. — Бетонные стенки, лестница, два трамплина. И трубы. Черные такие трубы, а на них белой краской написаны номера…
— Почему трубы черные? — перебил Лаубис. — Может быть, они серые. Или оранжевые.
— Черные. С большими белыми номерами, — повторила Настя. — Я так вижу, тебе какое дело? Номера один, два, три. Идет вода, за минуту она заполнит бассейн на одну двенадцатую. Рядом трубы с номерами два, три, четыре. В минуту заполняют одну пятнадцатую бассейна. И снова трубы с номерами один и четыре. Одна двадцатая объема в минуту. Каждый номер повторяется два раза — это же сразу видно. Восемь труб, два комплекта по четыре. За минуту они заполняют одну пятую бассейна, весь объем — за пять минут. Значит, четырем трубам нужно вдвое больше времени. Вот и все.
— Учитесь, народы, — торжественно объявил Гейм. — Логика и ясность мышления. Моя школа!
Как же, его школа…
Меня не раз подмывало все рассказать, но я не решалась. В книгах по психологии я вычитала, что математические способности связаны с умением оперировать абстрактными понятиями. Математик, говорилось в книгах, мыслит обобщенно, свернутыми структурами. Вот задача такого-то типа, думает он, здесь надо сначала идти таким путем, потом сделать то-то и то-то. И так далее. Понимаете, без всяких картин. Наоборот, математическое мышление как раз и состоит в том, чтобы уйти от конкретных картин к операциям с обобщенными образами и символами. Получалось, что моя работа с Настей — просто бред, ересь какая-то. Я попробовала говорить с парнем, который учился на пятом курсе нашего педвуза. Разговор не получился: он начал посмеиваться, я замолчала.
Оставались книги. Я много читала; мне казалось, что должна отыскаться книга, которая ответит на все мои вопросы. Книгам уже было тесно в моей комнатушке. Они лежали на столе, на подоконнике, на полу. Однажды, чтобы освободить место, я перенесла в отцовский шкаф все, что когда-то собрала о театре.
— Ну вот, — грустно сказал отец, — сегодня ты сделала окончательный выбор. Жаль. Ты стала бы хорошей актрисой.
Театр. Теперь у меня не хватало времени, чтобы съездить в Ростов, на премьеру. Двадцать четыре часа оказались такими же тесными, как моя комнатушка. Я почти физически ощущала эту тесноту.
А эксперимент продолжался. Настя шла по математике на пятерках. Она даже попала с Геймом на областную олимпиаду. Я поехала с ними — мне хотелось присмотреться к ребятам-математикам. Что ж, в общем, они были похожи на Гейма: мыслили этими самыми свернутыми структурами, символами и, конечно, не вживались в образы иксов и игреков. И все-таки Настя до самого конца олимпиады держалась в призовой группе. Срезалась она перед финишем. По условиям задачи надо было найти высоту облаков над рекой. А наблюдатель был где-то в стороне. Так вот, Настя — единственная! — учла при решении кривизну земной поверхности. И совершенно напрасно. У жюри начался спор, мнения разделились. С одной стороны, задача не требовала поправок на кривизну. С другой стороны, наблюдатель стоял далеко от того места, над которыми висели облака, — поправка на кривизну давала разницу около тридцати сантиметров.
Я-то понимала, что для Насти просто не было выбора. Она
Определенную роль тут сыграл психологический фактор. Члены жюри с некоторым сомнением поглядывали на Настю. Ну, представьте себе ребят на математической олимпиаде. Сосредоточенные, эрудированные, прямо-таки излучающие любовь к математике, к науке — и потому очень надежные. А рядом Настя. Начинающая кинозвезда с обложки “Советского экрана”. Рассеянно смотрит куда-то в пространство, ничего не записывает…
Гейм занял первое место, Насте досталось седьмое; вернулись мы все-таки с победой.
— Не дуйся, — утешал меня Гейм. — Совсем неплохой результат для Насти. В десятом классе нажмет — выйдет на призовое место. Хотя, честно говоря, нет у нее божьей искры.
Он, конечно, не сомневался, что у него эта самая искра есть. Тщеславие вундеркиндов…
— Слушай, Гейм, — предложила я, — давай договоримся так: если Настя в ближайшие пять лет перегонит тебя, ты устроишь артиллерийский салют победительнице.
— Как это — салют?
Вот они, свернутые структуры. Ни капли настоящего воображения!
— А так. У памятника Петру стоят две старые пушки. Зарядишь их и выстрелишь. А если ты выиграешь, мы тебе отсалютуем из пяти орудий. Две пушки у Петра, две у музея и одна возле проходной судоремонтного завода. На весь Таганрог будет шум…
Тут до него дошла эта картина. Мы заключили торжественное соглашение.
Пять лет… Понимаете, есть в психологии мнение, что математические
В общем, я переворошила массу литературы, подумала и решила: Настя должна поступать в физтех.
Летом мы с утра шли в порт, на мол. Порт в Таганроге небольшой, тихий. Бетонный мол — излюбленное место рыбаков. Они целыми днями сидят там со своими удочками. А мы сидели с книгами. За лето я погрузилась в самые дебри психологии — теорию интеллектуальных операций, генетическую эпистемологию, факторный анализ, функциональное моделирование. Настя читала курс высшей математики Фихтенгольца и для практики пыталась рассказывать на английском языке душераздирающие истории из личной жизни дифференциалов и кривых второго порядка…
Кое-что мне удалось записать и потом проанализировать по методу Лирмейкера. Результат был ошеломляющий: индекс фантазии превышал 250. Между тем сам Лирмейкер говорит, что ему ни разу не встречался человек с индексом свыше 160.
Отрабатывая технику анализа, я проверила научную фантастику, сказки, мифы. Лишь в двух случаях индекс фантазии достиг 200 — это соответствовало, по Лирмейкеру,
В конце лета я устроила специальное испытание и заставила Настю написать сочинение на тему “Пятое время года”. Сама я тоже с превеликим трудом выжала три странички на эту тему (индекс фантазии 106). Я брала самые жесткие коэффициенты, которые только допускал метод Лирмейкера, — все равно у Насти получалось 290 единиц!
Конечно, шкала Лирмейкера тут просто теряла смысл. Качество, которое выработалось у Насти, уже не было фантазией в обычном понимании этого слова. Это новое качество так относилось к простой фантазии, как интегральное исчисление относится к арифметике.
И еще одну работу я проделала в это лето: составила сборник задач и упражнений по развитию ультрафантазии. Все эти годы я шла, в сущности, на ощупь — у меня не было сколько-нибудь обоснованной системы. Да и не могло быть — никто не ставил таких опытов. И вот теперь я отчетливо видела пути развития ультрафантазии. Видела ошибки, допущенные раньше. Начнись опыт сейчас, я добилась бы тех же результатов за два года, а не за четыре.
В десятом классе у Насти были сплошные пятерки, Гейм уехал в Новосибирск, в физматшколу, и Настя сверкала на нашем небосклоне без конкуренции.
Да, пожалуй, тут надо сказать о парнях. Математическая слава плюс огромные глаза цвета грозового неба действовали как магнит. Сначала это меня тревожило. Мерещились разные ужасы: а вдруг Настя выйдет замуж и не пойдет в физтех?.. Ничего, обошлось. Видимо, не очень приятно, когда смотрят сквозь тебя и думают о чем-то своем. В соответствующих кругах сложилось мнение, что Настя — зубрилка, мечтающая только о золотой медали.
Она и в самом деле получила золотую медаль. Я с трудом вытянула на похвальную грамоту; все считали, что Настя мне помогает; приходилось поддерживать честь фирмы.
Медаль — это хорошо, а вот сомнений у меня тогда было более чем достаточно. Я вдруг обнаружила: на переднем крае точных наук господствует идея, противоречащая самой основе моего эксперимента. Считается, что современная наука работает там, где воображение бессильно. Чем смелее ученый уйдет от наглядных представлений, тем дальше он продвинется. И это подкреплялось убедительными примерами. В самом деле, попробуйте вообразить фотон, который ведет себя иногда как частица, иногда как волна, иногда как волно-частица и к тому же не имеет массы покоя… Теория относительности, квантовая механика, ядерная физика — каждый шаг вперед удавалось сделать лишь ценой отказа от
Получалось, что я иду против течения. Для утешения я придумала теорию щелей: продвигаться вперед можно не только с позиции математической силы, но и окольными путями — существуют щели, по которым воображение способно прорваться далеко вперед…
Мы поехали в Москву и без особого труда поступили: Настя — в физикотехнический институт, я — на психологический факультет МГУ. Забавное было зрелище, когда мы впервые появились в коридорах физтеха. Я не сомневалась в Насте и позволила себе немного порезвиться. Оделись мы просто, но очень эффектно. Психология кое-чему научила меня в этом смысле. К тому же мы с апреля ходили на мол и успели основательно загореть. Широкие массы бледнолицых абитуриентов были потрясены.
— Дорогие девушки, — вежливо обратился к нам долговязый очкарик, — неужели вы решили бросить ВГИК? —
— О чем ты говоришь, Борис? — вмешался другой интеллектуал. — Актрисы просто пришли посмотреть. В перерыве между съемками.
Это была одна шайка. Ребята из математической школы Костылева. Они понимали друг друга с полуслова, чистенько подхватывали реплики, просто прелесть. Мы им подыгрывали:
— Загар? Отдыхали в Крыму, подумаешь! Говорят, главное перед экзаменами — свежий воздух и хорошее питание…
Развлекались они минут двадцать. Зато с каким удовольствием я рассматривала их физиономии после экзамена! Решая задачу, Настя самостоятельно пришла к формуле Коши–Буняковского.
— Значит, свежий воздух, да? — сказал мне долговязый очкарик. Сам он едва-едва дотянул до пятерки, и вид у него был взъерошенный. — Значит, свежий воздух и хорошее питание? Артистки! Не бросайте ВГИК, подумайте о судьбах родного киноискусства…
Мы поселились у Лидии Николаевны, двоюродной тетки Насти. В наше распоряжение была выделена шикарная комната в двенадцать квадратных метров, из которых по крайней мере три метра занимали камни, минералы, полезные, полуполезные и просто бесполезные ископаемые, собранные мужем Лидии Николаевны, геологом, работавшим сейчас в Афганистане. Камни были на подоконнике, на полках, на полу. Тахта, которая мне досталась, стояла на четырех глыбах полупрозрачного, похожего на лед флюорита. Два дня мы сдирали пыль, въевшуюся в поры камней, и довели минеральное царство до блеска. Потом заново разложили камни. На стол поставили большую друзу золотистого пирита. Лидия Николаевна, работавшая в архитектурном институте, объявила, что камни отлично вписались в интерьер.
Конечно, не худо было бы убавить камней и прибавить этого самого интерьера. Однако я не хотела переходить в общежитие до завершения эксперимента.
Вывод формулы Коши–Буняковского (чем я немало гордилась) еще не гарантировал, что Настя сможет самостоятельно делать новые открытия. Тут вообще складывалась кошмарная ситуация. Я не могла требовать от Насти открытий сразу, на первом курсе. А с другой стороны, нельзя было ждать пять или десять лет: это меня не устраивало. Психологические эксперименты требуют иногда столько времени, что и трех жизней не хватит.
Я злилась, но ничего не могла изменить. Насте надо было заниматься. Мне тоже. Много времени уходило на дополнительные предметы, — я составила индивидуальные планы на два года вперед. Плюс спорт: четыре раза в неделю мы ходили на плавание. Наконец, Москва с ее театрами, концертными залами, картинными галереями, музеями и просто площадями и улицами, которые обязательно надо было обойти.
Я много ходила. Мне нравилось ходить по улицам большого города, смотреть на прохожих, на дома, на витрины и думать. Однажды (это было в конце зимы) я забежала погреться в метро и на встречном, поднимающемся вверх, эскалаторе увидела ребятишек с воспитательницей. Вероятно, это была группа из детского дома. Трудно сказать, куда они ездили в такой мороз. Ребятишки были в одинаковых шубках, шапках и рукавицах.
— Двадцать шесть человек, — сказал кто-то за моей спиной. — Две футбольные команды и запасные игроки. Подрастает смена.
— Вот именно, — насмешливо отозвался другой голос. — Сегодня у них равные шансы. Потом кто-то станет капитаном, а кто-то просидит всю игру на скамейке, в запасе…
Я хотела обернуться, и вдруг — мгновенно, в какую-то неуловимую долю секунды — у меня появилась мысль, которую я ждала все эти годы. Я отчетливо увидела, что надо делать дальше. Увидела картину, в которой эксперимент с Настей был лишь одним из эпизодов.
Ушел поезд, на время опустел перрон, а я стояла, смотрела на рельсы, и сердце стучало так, словно я бежала куда-то из последних сил.
С этого дня я начала готовиться к следующему эксперименту. Время — вот чего мне постоянно не хватало. Слишком быстро прошел этот первый год в Москве.
Летом, сразу после экзаменов, я устроила Настю лаборанткой в Институт технической кибернетики. Я надеялась, что Насте представится случай проявить свои способности. Случай действительно представился, хотя все получилось совсем не так, как я рассчитывала.
После первого трудового дня Настя вернулась в восторженном настроении, невнимательно проглотила парадный обед, сооруженный мною под руководством Лидии Николаевны, и весь вечер вводила нас в дела лаборатории бионики. Группа, в которой работала Настя, занималась проблемой распознавания образов. В общих чертах эта проблема мне знакома, она затрагивает и психологию.
Возьмем какую-нибудь букву, скажем, “а”. Ее можно написать по-разному: прописью, печатным шрифтом, мелко, крупно, самыми различными почерками, но человек легко определит, какая это буква. Можно положить “а” набок, перевернуть, зачеркнуть каким-нибудь замысловатым узором — все равно человек увидит и узнает “а”. Наш мозг умеет выделять главное, характерное для всех изображений объекта и отбрасывать несущественные детали, как бы они ни искажали этот объект. Значит, существуют приемы, с помощью которых мозг распознает зрительные образы. Чтобы научить машину распознавать образы (без этого она не сможет читать и вообще видеть), нужно найти приемы распознавания, суметь их промоделировать, — в этом одна из главных задач бионики. В Настиной лаборатории опыты велись на персептроне — электронной машине, специально сконструированной для распознавания образов. Персептрону показывали набор географических карт, и машина безошибочно отыскивала два одинаковых изображения среди сотен более или менее похожих.
Настя уверяла, что персептрон просто чудо.
— С таким персептроном, — сказала Настя, — мы обязательно утрем нос самому Розенблатту, основоположнику персептроники.
Тут она замолчала и стала смотреть на камни в углу комнаты. Сначала мне показалось, что Настя представила себе эту картину: как осуществляется процедура утирания носа и как ведет себя при этом основоположник персептроники. Но по глазам (в них начали собираться грозовые тучи) я поняла, что дело серьезнее.
У Насти появилась идея.
Мне хотелось расцеловать Настю, но из психологических соображений я сдержала восторг. Надо было по-деловому все обсудить.
Идея в самом деле была замечательная.
Предъявим персептрону много разных фотографий одного и того же человека. Пусть машина выделит наиболее характерные черты и даст
Мы не спали до поздней ночи, на все лады развивая эту идею. Мы не представляли, как обернется дело. Это моя вина. Я обязана была предусмотреть возможные осложнения.
Утром, проводив Настю, я пошла в читалку. В этот день мне никак не удавалось сосредоточиться, мысли вертелись вокруг Насти, персептрона и фотописи. Я даже попыталась представить, как мы утираем нос Розенблатту. А вернувшись домой, обнаружила плачущую Настю. На кровати лежал чемодан, и Настя, глотая слезы, укладывала в него свои вещи.
Пришлось потрудиться, пока я получила информацию о случившемся.
Так вот, утром Настя изложила идею своему непосредственному начальнику, программисту Юрочке. При этом она называла его “шеф” и смотрела на него глазами цвета грозового неба. Юрочка, конечно, не устоял, Он пробормотал: “Головокружительная идея!” — и пошел к руководителю группы, бородатому Вове. Тот сначала морщился и хмыкал, но Юрочка привел неотразимый довод. Он напомнил, что в связи с юбилеем П. П. Пыхтина, старшего научного сотрудника отдела экономики, юбилейная комиссия готовит альбом; там собраны полторы сотни снимков, просто готовый материал для персептрона. И лаборатория бионики, которую упрекали в прохладном отношении к предъюбилейной возне, теперь сможет внести свой вклад, украсив альбом первым в мире фотописным портретом. Вова поскреб бородку и согласился.
Начали обсуждать детали. Выяснилось, что попутно удастся проверить некоторые спорные положения, содержащиеся в недавно опубликованной статье киевских биоников из группы Стогния.
— Такой появился энтузиазм, — вытирая слезы, рассказывала Настя, — их уже нельзя было остановить…
Но она, разумеется, и не думала их останавливать.
Подготовка опыта заняла три часа, пришлось переналаживать фотоблок. Восемь минут машина рассматривала альбом. Еще двадцать пять минут ушло на обработку полученного фотописного портрета. К обеденному перерыву портрет был готов. Сработали неведомые каналы информации, вокруг персептронд собрался народ из разных отделов и лабораторий. Появление первой фотописи шумно приветствовали. Портрет получился яркий. Пыхтин выглядел на нем несколько необычно и в то же время был чрезвычайно похож. Юрочка, дававший пояснения, подчеркивал, что лаборатория реализовала идею нового сотрудника. Идея всем нравилась, новый сотрудник тоже.
Прибыл Павел Павлович Пыхтин, осмотрел портрет, промолвил: “Гм, любопытно…”
Увеличенный снимок повесили в холле, рядом с объявлением о юбилейных торжествах. С этого и началось. То ли освещение в холле было другим, то ли сказалось увеличение, во всяком случае, что-то сразу изменилось. Настя считает, что сработал фактор времени: в фотопись надо хорошенько всмотреться.
Так или иначе, все скоро заметили, что П.П.Пыхтин выглядит на портрете как-то непривычно. Не было, например, модных очков. Казалось, это делает П.П.Пыхтина моложе, и только. Но вместе с очками исчезла интеллигентность. Что-то изменилось в выражении глаз и маленького, плотно сжатого рта. Персептрон сделал то, что удается лишь очень талантливому портретисту. Он убрал все внешнее. Изменения были почти неуловимые. Но с портрета смотрел
— Он был без грима, — сказала Настя. — Наверное, таким он бывает наедине с собой.
В холле наступило неловкое молчание. Потом все разошлись по своим комнатам. Инженер Филипьев, обычно спокойный и немногословный, долго и взволнованно втолковывал, что сами виноваты; следовало найти другого человека. Карьера П.П.Пыхтина началась когда-то со статьи, разоблачающей приверженцев буржуазной лженауки кибернетики. Филипьев припомнил другие эпизоды и предсказал, что у Пыхтина не хватит ума свести историю с портретом к шутке. Предсказание не замедлило сбыться: последовал телефонный звонок.
Бородатый Вова и Юрочка героически приняли удар на себя. Начальство ограничилось “ссылкой”: Настю отправили в командировку. Решение было почти гениальное. Юбиляр мог считать, что лаборатория бионики и Настя наказаны. Лаборатория и Настя могли считать, что никакого наказания нет, так как ехать Насте предстояло в курортные края, на Черноморское побережье Кавказа.
По этому случаю был распит баллон томатного сока. Бородатый Вова от имени коллектива выразил уверенность, что новую лаборантку ожидает блестящее будущее, ибо устроить такой переполох на второй день пребывания в храме науки — это надо уметь…
— Так в чем же дело? — спросила я. — Выходит, все отлично устроилось?
Настя, всхлипывая, покачала головой:
— Придется ехать на дельфинью базу, а там нет ни дельфинов, ни базы. В сентябре только начнут строить. В лаборатории интереснее.
На следующий день я пошла в институт. Говорила с бородатым Вовой. Слушала Юрочку, который клялся продолжать исследования по фотописи. Ходила к начальству. Изменить уже ничего нельзя было — уехал директор института. Но я договорилась, что меня тоже зачислят лаборанткой и отправят вместе с Настей.
— Дельфинов, конечно, на базе нет, — сказал бородатый Вова, задумчиво рассматривая мое заявление. — Дельфины пока резвятся в море. Но при выдающихся способностях Анастасии Сергеевны не представляет никакого труда, предположим, расшифровать парадокс Грея и без дельфинов.
Я спросила, что это такое — парадокс Грея. Вова вздохнул, еще раз прочитал мое заявление и не совсем уверенно предложил перенести разговор о парадоксе Грея на внеслужебное время. Я вежливо отклонила его любезное предложение.
— Кажется, что-то припоминаю насчет парадокса, — сказала я, и это было химически чистое вранье: я не могла ничего вспомнить, поскольку ничего не знала. — Пожалуй, вы правы. Парадокс Грея можно расшифровать и без дельфинов. Мы этим займемся.
— Вот-вот, — пробормотал Вова, поскребывая бородку. Он растерялся от такого нахальства. — Займитесь. Обязательно займитесь. Человечество ждет.
Через два дня мы были в Адлере.
После нудных московских дождей мы попали под ослепительное солнце. Над бетонными плитами аэропорта поднимался теплый воздух, и я подумала, что ссылка получилась не такая уж плохая.
За сорок минут автобус доставил нас до дельфиньей базы. Тут мои восторги несколько утихли. Место, что и говорить, было курортное: обрывистый берег, внизу золотистый пляж, скалы, синее море и деликатный шорох прибоя. Четыреста метров сплошной красоты. И на этих четырехстах метрах стояли грязноватые склады-времянки, высились холмы небрежно разгруженного кирпича, лежали под навесом мешки с цементом, а на самом видном месте возвышалась классическая сторожка допетровского стиля — неопределенного цвета, неопределенной формы, скроенная из неопределенного материала. Вокруг сторожки была растянута паутина сетей. Между сетями, радостно повизгивая, прыгал лохматый рыжий пес.
— Гениальная собака, — сказала Настя. — Сразу увидела в нас сотрудников Института технической кибернетики.
Мы спустились с обрыва и, сопровождаемые гениальной собакой, по лабиринту сетей пробрались к сторожке. У входа на раскладушке спал маленький лысый старичок. На груди старичка лежала книга в потрепанном сером переплете. Собака негромко тявкнула, старичок тотчас приоткрыл глаза и быстро сел на раскладушке. Книга упала, я ее подняла. Называлась она “Основы эсперанто”.
— Ми эстас гардисто, — бойко произнес старичок. — Сторож я. А вы кто? Кио во эстас?
Через десять минут мы полностью уяснили ситуацию.
База действительно существовала только в проектах. Пока была территория, куда завозились стройматериалы и кое-что из оборудования. Слово “территория” сторож произносил на эсперанто, и звучало это внушительно — територио. С южной стороны територио граничила с могучей и процветающей базой Института гидрологии, а на севере упиралась в крутой обрыв. Жилых строений на територио, помимо допетровской хижины, не было. И заботиться о нас должен был, по мнению ученого сторожа, камарадо Торжевский, ведавший територио и материалами.
— Камарадо Торжевский… как его… ли эстас саджа хомо, — объяснил сторож. — Толковый мужик, говорю.
— Что же, — спросила я, — в эсперанто все существительные оканчиваются на “о”?
— Все! — радостно подтвердил просвещенный дед и указал на собаку. — Хундо. А зовут Трезоро. Сокровище, значит.
Сторож-эсперантист Григорий Семенович Шемет оказался презанятной личностью. По специальности он был часовых дел мастером и почти безвыездно прожил полвека в Новгороде. Жил в одном и том же доме, работал в одной и той же мастерской. Жизнь шла плавно и размеренно, как хорошо отрегулированные часы. И совершенно неожиданно для своей многочисленной родни Григорий Семенович сбежал в Архангельск, пристроился в рыбачью артель. У него вдруг появилась неодолимая тяга к морю, к новым местам и неустроенной, полукочевой жизни под открытым небом. Беглеца отыскали и упросили вернуться. Но он сбежал снова — на этот раз к Охотскому морю. Родня смирилась: решено было каждую весну отпускать старика. Он прошел страну “лавлонге кай лавлардже” (что значит вдоль и поперек), удачливо ловил рыбу на восьми морях и теперь собирал деньги на туристский круиз вокруг Европы.
Дед был на редкость бойкий и подвижный. Рассказывая, он быстренько убрал раскладушку, пригласил нас в свою хижину и угостил чаем. В хижине было очень чисто, прохладно, неструганые доски пахли смолой. Не знаю, как Григорий Семенович годами сидел в часовой мастерской, это трудно было представить.
— А зачем эсперанто? — спросила Настя.
Дед всплеснул руками.
— В этой Европе, я тебе скажу, полным-полно разных народов. Не могу же я все языки учить. Не управлюсь до отъезда. И потом, дорогие мои белулино, то есть красавицы, эсперанто — язык звучный, ходкий, стройный. Вот я вам для примера прочитаю стихи поэта Лермонтова “Парус” в переводе на эсперанто.
Стихи поэта Лермонтова, однако, остались непрочитанными, так как прибыл камарадо Торжевский. Он прибыл на новенькой голубой “Волге”, за которой шел караван из трех грузовиков, нагруженных кирпичом.
Камарадо Торжевский был великолепен. Казалось, он сошел с плаката “На сберкнижке денег накопил, путевку на курорт купил”. Впрочем, сторож-эсперантист не ошибся: Торжевский оказался дядькой умным и дельным.
— Вы же свои парни, — сказал он. — Не надо так смотреть на мой новый костюм и на мою новую “Волгу”. Это не роскошь, а скромная экипировка современного толкача. Ибо кто даст мне шифер и провода, если я появлюсь в мятой сорочке? И поскольку вы присланы мне помогать, смотрите и учитесь. Контакт с братьями-дельфинами зависит пока от нас, снабженцев. Не будет оборудованной базы, не будет и контакта.
Мы заверили Торжевского, что приложим все усилия, чтобы ускорить контакт с братьями-дельфинами.
— Это хорошо, — одобрил Торжевский. — Братья-дельфины будут рады. А пока приложите усилия к разгрузке кирпича. Эта банда, именующая себя грузчиками, бросает кирпичи так, словно это золото. А кирпичи — не золото, они бьются. Да. А потом поедем добывать палатку и спальные мешки.
Так началась наша жизнь в ссылке.
Работы было много. Мы встречали вагоны с оборудованием, добывали автотранспорт, распоряжались при погрузке и честно трудились на разгрузке. Торжевский переложил на нас грубую прозу снабжения, оставив себе утонченную снабженческую лирику. Он часто уезжал, вел где-то хитроумные переговоры, в результате которых наши склады пополнялись финскими декоративными панелями, транзисторными кондиционерами и ультрамодерными стеллажами для несуществующей еще библиотеки.
О парадоксе Грея я вспомнила только через неделю.
— Вот еще! — недовольно сказала Настя В этот момент она сосредоточенно рассматривала в зеркало кончик своего носа. — Слушай, как ты думаешь, кожа сойдет, а? Обязательно надо достать крем (раньше она бы сказала “купить”). А с парадоксом Грея ничего не выйдет. Ты даже не представляешь, что это такое…
Ну, тут Настя была неправа: после разговора с бородатым Вовой я сразу помчалась в читалку и кое-что успела полистать. Работы Крамера, Алеева, Першина, сборник статей по демпфирующим покрытиям.
Несоответствие между скоростью дельфинов и мощностью их мускульной системы — вот в чем состоит парадокс Грея. Дельфины развивают до шестидесяти километров в час. Их мускулатура должна быть раз в десять сильнее, чем она есть на самом деле.
Одно время считали, что Крамеру удалось разгадать парадокс. Твердый корпус корабля плавно обтекается водой только при небольших скоростях. С увеличением скорости поток воды срывается, в нем образуются вихри, и сопротивление резко возрастает. Так вот, Крамер предположил, что кожа дельфинов, изгибаясь, как бы приспосабливается к потоку воды, предотвращая возникновение вихрей. Были испытаны пружинящие, демпфирующие оболочки; в какой-то мере они действительно препятствовали вихреобразованию. Однако парадокс Грея остался: демпфирование объясняет его лишь частично. Должны существовать другие, более эффективные способы уменьшения сопротивления.
— Подумай, о чем ты говоришь! — возмущалась Настя. — Как можно браться за парадокс Грея, не имея ни оборудования для опытов, ни самих дельфинов?!
Я возражала:
— Но ведь именно в этом изюминка. Представляешь, как здорово: разгадать тайну дельфинов, не имея ни одного дельфина…
Убеждать пришлось долго. Это был первый случай, когда Настя не хотела даже попытаться решить задачу. По ее мнению, затея была совершенно несерьезная: смешно браться за изучение дельфинов, когда нет никакой возможности получить хотя бы завалящего дельфина. Я убедила Настю чисто случайно.
— Подумай логически, — сказала я. Когда нет доводов, всегда приходится призывать логику, хотя логика тут как раз ни при чем. — Подумай логически. Ведь у других исследователей были дельфины, но ничего не получилось. А у тебя дельфинов нет. Следовательно, у тебя получится.
— Ну, знаешь!.. — возмутилась Настя. — Это такая чушь, что…
Она вдруг замолчала и уставилась на меня. Она смотрела на меня глазами цвета грозового неба, и я поняла, что дело идет на лад.
— Ты считаешь, изучать дельфинов надо без дельфинов? — совсем другим тоном спросила Настя.
Что мне оставалось делать? Я чувствовала, что говорю чепуху, но все-таки повторила:
— Если рассуждать логически, виноваты именно дельфины. У других исследователей были дельфины, но парадокс остался неразгаданным. У тебя нет дельфинов, следовательно, ты разгадаешь парадокс.
— Да, конечно, — пробормотала Настя, глядя сквозь меня.
Через полчаса она спросила:
— А как с трубами? Сегодня они прибудут на станцию, надо доставать машины и кран.
Я сказала, что все сделаю сама. Пусть она спокойно занимается дельфинами. То есть не дельфинами, а их отсутствием. Не таким отсутствием, которое просто отсутствие, а таким, которое дает больше, чем присутствие… Это был уже чистый бред, и я на всякий случай прибегла к волшебному слову “логически”.
Впрочем, Настя не слушала меня. Она рассеянно сказала: “Ага” — и пошла к морю.
Весь день я моталась как угорелая с этими трубами. А Настя лежала на досках и смотрела в море. Я принесла ей кефир и печенье — не было времени возиться с обедом.
Вообще с этого дня мне пришлось работать за двоих Я не разрешала Насте отвлекаться. Пусть думает. Я только не понимала, что она может представить себе в данном случае. Ну, вот море, а в нем плывет дельфин. Что дальше?.. Однажды мне даже приснилась эта картина. Дельфин грустно улыбался и говорил голосом Торжевского: “Не надо так на меня смотреть!”
Настя размышляла два дня. На третий день она дала мне список книг, которые ей были нужны. Список ничего не объяснял. Все книги относились к теории катализа. Катализаторы, конечно, могут увеличить скорость химической реакции, но как они связаны с увеличением скорости дельфинов?! Что делать! Я поехала в Сочи и раздобыла книги.
Затем Настя вручила мне еще один список — химикаты, лабораторная посуда, прибор для хроматографического анализа. С этим было проще: я пошла к соседям, гидрологам, и выпросила все необходимое. Мы поставили вторую палатку; теперь у Насти была своя лаборатория.
— Если дело дойдет до дельфинов, — сказала я Насте, — ты, пожалуйста, предупреди заранее. Все-таки придется снаряжать корабль.
— Дельфины? — переспросила Настя. — Нет, дельфины не нужны.
На следующий день Гроза Восьми Морей сказал мне:
— Послушай, белулино, ты бы хоть домой съездила. Тут “Метеор” ходит. Пост лаборо венас рипозо. Отдыхать, значит, надо, не только вкалывать. А у тебя сплошная лаборо и никакого рипозо. Вот и Наська отощала на твоем кефире. Одни глаза остались. Сегодня уха будет; смотри у меня — чтоб к пяти была здесь.
Я вернулась в девятом часу голодная и злая. Орал магнитофон, возле сторожки веселились бородатые гидрологи: они старательно обучали деда танцевать шейк. Ухи не было, это я сразу обнаружила. Съели мою уху, вертятся вокруг Насти, деду голову заморочили, — я их погнала со страшной силой. Ужин получился дурацкий: вино, яблоки, печенье, полуокаменевший сыр.
Голова гудела от усталости и от вина; я как-то не обратила внимания на Настины слова:
— Знаешь, завтра будем испытывать.
Мы уже забрались в свои мешки, я машинально про бормотала:
— Ладно, завтра.
И вдруг до меня дошло:
— Плавать будем завтра. Если все сойдется, мы с тобой завтра побьем мировой рекорд. Спи. Да, слушай, а этот Алеша славный парень, ты заметила? Ну, высокий, с усиками. Он из Ростова, почти земляк.
Спать мне уже не хотелось. Какой тут мог быть сон, если Наська решила задачу!
— Ладно, объясню, не кричи, — нехотя уступила Настя. — Да и объяснять-то нечего, все очень просто. Ты же сама говорила, что без дельфинов легче разобраться в этом деле. Говорила ведь? Ну, я представила себе море, представила дельфина, потом убрала этого дельфина, понимаешь?
Я ничего не понимала. Плывет дельфин — это можно представить. А что останется, если убрать дельфина?
— Море останется, — с досадой сказала Настя. — Как ты не видишь? Это же очень логично, ты сама говорила. Останется вода, следовательно, думать надо только о воде. Без всяких дельфинов. Надо представить себе воду, ясно?
Я спросила почти наугад:
— Молекулы воды?
— Нет. В том-то и дело, что не молекулы. Если бы вода состояла из молекул, она кипела бы при минус восьмидесяти градусах. Молекулы воды объединены в группы, в агрегаты. Поэтому вода жидкая. Ну, представь себе лед с его кристаллической решеткой. Громадный кристалл — как склад на товарной станции. Так вот, когда лед тает, кристалл распадается на агрегаты. Вместо склада — отдельные ящики, ясно? В ящиках, допустим, мячи. Они вообще-то подвижны, их легко растолкать, но ведь упаковка мешает! Так и с молекулами воды. Они заперты в этих агрегатах, как мячи в ящиках. От этого зависят все свойства воды. В том числе сопротивление, которое она оказывает движению. Попробуй сдвинуть с места мячи, если они в ящиках. А дальше я рассуждала так: надо раздробить агрегаты на отдельные молекулы, тогда вязкость воды резко уменьшится. Может быть, дельфины именно так и…
— Подожди, — перебила я. Дельфины меня теперь не интересовали. — А как это сделать? Как раздробить эти самые агрегаты?
Настя пренебрежительно фыркнула.
— Ты же принесла мне книги. Опять логика: кто-то где-то должен был решать подобную задачу для других целей. Вода — такое распространенное вещество… Словом, я обнаружила, что проблемой дробления агрегатов интересуются биохимики. Конечно, им и в голову не приходило, что это путь к уменьшению вязкости воды. Просто агрегатированные молекулы воды участвуют в энергетических процессах организма. При желании завтра посмотришь книги. Важно одно: когда агрегат захватывает лишний протон, он сразу разваливается на отдельные молекулы. Как карточный домик. Понимаешь? После этого мне оставалось найти вещество, которое легко отдавало бы протоны. Завтра на себе попробуешь. Я взяла за основу крем “Лунный”: все-таки мы с тобой не корабли, чтобы мазаться всякой протонной дрянью. И хватит, я спать хочу! Отстань.
— Спи, — сказала я, разозлившись. — Ты даже не представляешь, что ты сделала. И все твои рассуждения… снежный мост над пропастью незнания. Шаткий снежный мост.
— Как? — удивилась Настя. — Снежный мост над пропастью? Вот здорово! Я прямо вижу этот мост…
Она помолчала, рассматривая свой снежный мост, потом спросила:
— Слушай, Кира, это из поэзии, да?
— Нет, из прозы. Так Карл Пирсон отозвался о законе наследственности Грегора Менделя.
— Но ведь Мендель был прав! И потом, это просто красиво — снежный мост над пропастью.
Я уточнила:
— Над пропастью незнания.
— Ну и что? Главное — не упасть.
“Нет, — подумала я, — главное, решиться и вступить на снежный мост. Не ждать, пока возведут бетонные фермы, а найти узкую снежную полоску — и отважиться”.
Странно: я крепко спала в эту ночь. Утром меня разбудил невероятно вкусный запах — дед и Настя жарили помидоры. Я подумала, что день будет удачный.
После завтрака Настя дала мне баночку с зеленоватой мазью.
— Ты уж постарайся, — жалобно сказала Настя. — Ты ведь у меня за дельфина.
Дед помог отмерить вдоль берега стометровку. Секундомера у нас не было, пришлось взять мои часики.
— Ну, девки, приступаем, — объявил Гроза Восьми Морей. — Под моим руководством.
Мазь была холодная, и вода была холодная. Я стояла на скользком камне, а дед, Настя и хундо Трезоро смотрели на меня с берега. “Снежный мост, — подумала я, — только бы он выдержал…”
Я чувствовала, что плыву хорошо. Такое ощущение бывает редко: кажется, что летишь, не встречая сопротивления. И не было усталости: я всю стометровку наращивала скорость.
— Сорок восемь секунд! — крикнула с берега Настя. — Нам не страшен снежный мост, снежный мост, снежный мост…
Мировой рекорд для мужчин был пятьдесят две секунды, я это хорошо помнила. Даже если Настя на секунду или две ошиблась, все равно мировой рекорд побит!
— Возьмем русалок, — сказал дед. — Они ведь девки, а не мужики. Народная мудрость! Девки должны лучше плавать. Или вот возьмем привидения…
— Стоп, дед, — остановила его Настя. — Привидения — это из другой оперы. Давай, Кира, стометровку на спине.
Рекорд был минута и шесть секунд; я прошла дистанцию быстрее, — теперь я хорошо чувствовала скорость.
— Квиндек сеп, печки-лавочки! — восторженно произнес дед. — Пятьдесят семь секунд. Как “Метеор” шла.
В этот день были забыты все снабженческие дела. Мы плавали и записывали результаты. К двум часам дня нам принадлежали почти все олимпийские и мировые рекорды. Даже в заплыве на восемьсот метров я могла рассчитывать на серебряную медаль, а Настя — на бронзовую. У нас кончилась мазь, иначе и здесь мы вытянули бы на золотую.
Потом я, уставшая и счастливая, лежала на огненном, обжигающем песке и смотрела, как дед и Настя сооружают праздничный обед. Чуть-чуть кружилась голова, и, когда я закрывала глаза, земной шар начинал плавно раскачиваться.
— Сейчас бы холодного лимонада… — вздохнул дед. — Вы, девки, лишнюю калорию боитесь проглотить, фигуры бережете. А мне лично никакая калория не страшна. Мой организм устойчивость имеет против этих калорий.
Гроза Восьми Морей лукавит — я его насквозь вижу. Он хочет, чтобы Настя пошла к гидрологам за пивом.
— Не хитри, дед, — говорю я. — Пиво будет вечером. Сейчас нужно сохранить ясность мышления. Тут такая проблема: как назвать открытие? Чтобы коротко было и звучно. Придумай.
— Мне бы твои заботы, — ворчит дед. Он явно польщен. — Назови так: стремительное метеорное плавание имени Анастасии Сарычевой.
Что ж, это не лишено смысла. Эффект Анастасии Сарычевой. АС-эффект. Как качается земной шар! Разрушенные агрегаты очень быстро восстанавливаются, иначе вода бы за мной вскипала без всякого расхода энергии. Да, конечно, разрушение и восстановление агрегатов идет лишь в тонком слое. Ну и что? Это нисколько не помешает использовать АС-эффект (все-таки звучит: АС-эффект!) на скоростных кораблях.
— Слушай, Настя, сегодня же дадим телеграмму Гейму. И бородатому Вове.
— Нет, Гейму лучше позвонить. Он сейчас в Таганроге. А с Вовой подождем несколько дней. Мне еще не все ясно.
Настя рассказывает деду про Гейма и про артиллерийский салют из двух пушек. Нет, две пушки мало! Если у Гейма есть совесть, он устроит салют из всех пяти пушек. АС-эффект годится не только для кораблей. Вода — кровь нашей цивилизации. Она везде — в трубопроводах, гидросистемах, турбинах…
— Насчет пушек, конечно, здорово закручено, — говорит дед, — но я вам так скажу: нечего шуметь — это дело надо держать в строгом секрете. Между прочим, на эсперанто “секрет” означает “тайна”. Ясно? Чтобы ни-ни. Полный секрет. А вы прославитесь рекордами. Вас, может, по всему миру будут возить. На всякие там спартакиады и олимпиады. Портреты будут в журналах. И я с вами покатаюсь, посмотрю мир…
— А что, Кира, давай так и сделаем? — смеется Настя. — Григорий Семенович выдал гигантскую идею. Даже юридически нельзя придраться: условия соревнований не запрещают применять мазь. Представляешь, что будет!
Они еще долго веселятся, наперебой обсуждая феерические перспективы нашей спортивной карьеры. Я слышу лишь обрывки фраз, меня лихорадит от сумасшедшей мысли: а если применить АС-эффект в нашей кровеносной системе?
— До ни коменцу, — объявляет наконец Гроза Восьми Морей. — Хватит трепаться, приступаем к обеду. Эх, по такому случаю и без этого, без ботело да пиво. Пропадешь с вами!.. Смой песок, говорю, и чтоб сразу обедать. Живо!
Да, надо спешить. Я потеряла массу времени, ожидая, пока опыт с Настей даст надежные результаты. Зато теперь можно уверенно идти вперед.
Уверенно?
Новый опыт — новая пропасть. И какая!
Пусть. Я отыщу снежный мост, обязательно отыщу и не побоюсь вступить на него.
Жди меня, снежный мост!
Здесь заканчивается первый рассказ о жизни и исследованиях Киры Владимировны Сафрай.
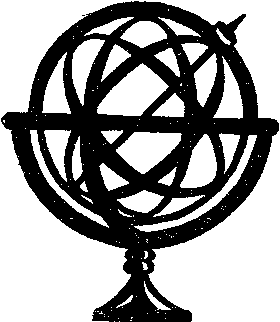 |
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
1
Я не ожидала, что позвонят из академии. Утром, получив гонорар за статью в “Вопросах психологии”, я купила венгерский журнал мод, вернулась к себе и стала решать сложную задачу — что шить.
Теоретически наиболее разумным вариантом было демисезонное пальто. Однако приближалось лето, и тошно было думать, что пальто будет лежать до конца августа. Вообще-то я давно проектировала вечернее платье. Шикарное вечернее платье, получше того черно-белого с жемчугом, которое Настя привезла из Парижа. Но если делать настоящее вечернее платье, не останется денег ни на что другое — это уж точно. А мне нужны были новые туфли.
С обложки журнала улыбалась курносая манекенщица в золотистом костюме. Она стояла около сверкающей красным лаком спортивной машины и держала на поводке беленькую мини-собачку. Из всего этого великолепия мне нравился только костюм. Легкий такой костюмчик из золотистой ткани. Неделю назад я видела на витрине одного ателье золотисто-бежевую ткань. Не столько, правда, золотистую, сколько бежевую, но это даже лучше.
Кое-что в костюме следовало изменить; я начала прикидывать и не сразу сообразила, что звонят из президиума АН и что меня приглашает К. Секретарь говорила чрезвычайно любезно (“Очень просит зайти… если вас не затруднит…”), но указала точное время, и я поняла, что опаздывать не рекомендуется. И вообще явка обязательна.
Времени оставалось не так уж много. Я помчалась е парикмахерскую, оттуда на почту, отправила домой журнал со своей статьей, забежала в Дом моделей на Кузнецком мосту (ничего путного там не оказалось) и приехала в академию точно к назначенному времени — минута в минуту. В коридоре стояла массивная тумба с часами; эта тумба торжественно пробила три раза.
В столь высоких научных сферах мне еще не приходилось бывать. Секретарь, пожилая женщина в строгом сером костюме, мельком взглянула на часы, одобрительно улыбнулась и сказала: “Пожалуйста…” Мне показалось, что она вот-вот добавит: “…деточка”.
На портретах у К. совсем другое лицо — властное, резкое, даже грубоватое. Я хорошо помню его портрет в школьном учебнике физики: К. был похож на маршала; я пририсовала ему китель, погоны и красивую маршальскую звезду. Получилось очень здорово; я начала разрисовывать другие портреты; в конце концов мне крепко влетело за эти художества. А на самом деле К. похож на музыканта — у него одухотворенное лицо. Как у Рахманинова на рисунке Пастернака. И пальцы у К. длинные, подвижные. Но глаза… глаза все-таки маршальские.
— Значит, вы на четвертом курсе? — спросил К. — А как у вас относятся к тому, что студентка работает на уровне… ну…
— …взрослого ученого? — подсказала я.
Он рассмеялся:
— Прекрасный термин. Находка для ВАКа. Кандидат, доктор, наконец, взрослый ученый…
Странная штука: никого не удивляет, что математик может сделать лучшие свои открытия в двадцать лет. Это считается вполне естественным. Как же, математические способности должны ярче всего проявляться в молодости!..
Но почему только математические? Разве нельзя стать в двадцать лет настоящим психологом? На меня все время смотрят с каким-то удивлением, даже с недоверием. Психология, видите ли, изучает человеческую душу, столь сложный объект, что… и так далее. А разве музыка или поэзия не имеют дела с человеческой душой? Привыкли же мы к тому, что бывают молодые композиторы и молодые поэты. Я занялась психологией еще в школе; надо работать, только и всего.
— Но вы не ответили: как к вам относятся в университете?
Я объяснила, что относятся хорошо. Дали отдельную комнату в общежитии. Включили мою тему в план проблемной лаборатории. Взяли статью в сборник трудов.
К. улыбнулся:
— Вы не избалованны…
Теперь, немного освоившись, я оглядела кабинет. Он мне не понравился. Какой-то у него был нежилой вид. Стол, книжные шкафы, даже портреты на стенах — все слишком новое. Вероятно, К. появлялся здесь не часто.
— Сарычева ведь тоже на четвертом курсе, — продолжал К., — а у нее своя лаборатория.
Ну! Настя сделала потрясающее открытие — как не дать ей лабораторию. Вокруг АС-эффекта в физике сейчас настоящий бум.
— Без вас Сарычева ничего бы не открыла, — настаивал К — Она мне рассказывала, как вы развивали у нее воображение. Ультрафантазию, как вы это называете. На парижском конгрессе Сарычева сделала отличное сообщение об АС-эффекте. Выступала она с блеском.
К. увлекся и стал говорить о том, что я и так уже знала. Настя раз двадцать рассказывала мне о конгрессе. Как она там выступала, как выступали другие, какие были разговоры и как в кулуарах один болван во всеуслышание заявил, что “столь юная леди” не может самостоятельно делать открытия, и предложил организовать проверку: пусть “юная леди” сделает в лаборатории “маленькое-маленькое” открытие. На что “юная леди” тут же ответила: пожалуйста, хоть сегодня, но одновременно и вы продемонстрируете, как делают хотя бы “малюсенькое-малюсенькое” открытие…
Все это я знала наизусть. Но К. рассказывал со вкусом. Я не перебивала. Меня интересовало,
По классификации Селье, академик К. бесспорно принадлежал к категории мыслителей. Но дальше классификация не срабатывала: К. совсем не соответствовал предложенной Селье типологии. Пожалуй, тут больше подходил тип “пионер” из классификации Гуо–Вудворта: инициативный человек, генератор новых идей, охотно передающий их другим, открыватель новых путей, хороший организатор и учитель, властолюбивый, работоспособный…
Все так и было, но, слушая К., я чувствовала, что в типологии упущено нечто очень важное, может быть даже главное. В любых классификациях — у Селье, Гуо–Вудворта, Аветисяна — хорошо отражены лишь распространенные типы ученых. Ведь как точно схватил Селье тип “большого босса”: этот человек мог заняться политикой, бизнесом, сделать военную карьеру, но сейчас модна наука, и он не хочет уменьшать своих шансов, добивается места руководителя, после чего основным своим делом считает “натягивать вожжи”. Или тип “джентльмена науки”: способный молодой человек, желающий сделать карьеру не в ущерб радостям жизни… Таких много, это облегчает их изучение. Да и не слишком они сложны, эти люди.
— Сарычева, конечно, молодец, — сказала я, когда К. закончил свой рассказ. — Но работать с ней пришлось шесть лет. Так уж получилось, мы вместе учились в школе. Очень кропотливое дело — развитие ультрафантазии. Сейчас у меня группа ребят, и хотя уже есть какой-то опыт, все равно потребуется три–четыре года, чтобы выработать у них ультрафантазию.
К. довольно долго молчал. Я думала: а что, если попросить у него бумагу? Сборник с моей статьей четыре месяца лежал без движения — не было бумаги.
Неожиданно К. сказал:
— Мне нужна ваша помощь.
2
— Дело не совсем обычное. Но и вы тоже необычны… Есть такой физик — Сергей Горчаков. Приходилось слышать?
О Горчакове я, конечно, слышала. Одно время он был самым молодым доктором наук. Говорили, что он очень талантлив.
— Полтора месяца назад, — продолжал К., — я подписал приказ о назначении Горчакова директором ИФП в Ингор. Новый Институт физических проблем, первоклассный научный центр. Горчаков отказался. Заявил, что намерен вообще бросить физику. Навсегда! Понимаете? Такая дурацкая история… Сережка у меня учился. Прирожденный физик. И вдруг это нелепое решение. Твердит одно и то же: надоела физика, стала неинтересной, не хочу… Я с ним не раз говорил. Да и не один я. Прорабатывали его всяко. Понимаете, нет никаких, абсолютно никаких причин, это и обескураживает.
Привет, подумала я, вот тебе и бумага. Придется спасать расстригу-физика. Возвращать его на праведный путь. Понятно, зачем К. позвал меня.
Я сказала:
— Не умею спасать заблудших физиков. Был уже такой случай — спасала Борьку-физика, стыдно теперь вспоминать…
С Борькой действительно получилась глупая история. Физиком его прозвали в школе; он кончал десятилетку на год позже меня. Способный парень, однако в МГУ он не попал. Получил тройку за сочинение. В Москве Борька оставаться не мог, а возвращаться домой, в Таганрог, не хотел. Тут я и взялась его спасать. Как же, земляк, в одной школе учились… Отыскала в библиотеке подшивку ингорской многотиражки (Ингор тогда еще был поселком), стала смотреть объявления — какие специальности там нужны. Лаборанты, строители, водолазы… Черт меня дернул остановиться на заведующем фотоателье. Мне казалось, что это гениальная идея. Борька отлично снимал; один его снимок был даже в “Огоньке”. Почти специальность. И заработок будет приличный — это тоже важно: мать у Борьки часто болела, сестренки еще ходили в школу.
Гениальная идея! Как же! Борька, не дослушав, стал скулить: “Психа ты, Кира… Там молодые ребята, которые в десять раз лучше меня щелкают своими шикарными камерами. Институтский городок, пойми! Интеллектуалы. Кто пойдет сниматься в мое казенное заведение?!” Я разозлилась: обидно, когда не понимают гениальных идей. “Ты поедешь в Ингор, несчастный троечник, — сказала я, — и станешь заведующим ателье. Ты найдешь парня, который умеет малевать, и он сделает тебе картину с дыркой, в которую вставляют лицо. Чтобы на снимке получался страшно красивый кавказский всадник на страшно красивом коне. И чтобы на всаднике была страшно красивая черная черкеска с белыми газырями и со страшно изогнутым кинжалом. Эту живопись ты выставишь на самом видном месте. Прямо на улице. Молодые ребята, кроме шикарных камер, надеюсь, имеют некоторое чувство юмора. Ты будешь выполнять план на триста процентов. Или даже на шестьсот. Если, конечно, проявишь капельку сообразительности и догадаешься обновлять картины. С учетом научной специфики. Вместо страшно красивого коня может быть страшно красивый синхрофазотрон. Важен юмор, ясно? И ты станешь своим человеком в Ингоре. У тебя будут сниматься доктора и члены-корреспонденты. Ты сможешь помогать своей маме. А следующим летом сдашь экзамены: в Ингоре филиалы трех вузов. Вот тебе книга А.Н.Лука “О чувстве юмора и остроумии” плюс пятнадцать рублей на билет без плацкарты…
Я рассказывала эту грустную историю, а К. безжалостно веселился и повторял: “Так это ваша работа…” Он даже всхлипывал от смеха. В дверь заглянула секретарша, укоризненно посмотрела на меня.
— Вы не обижайтесь, Кира Владимировна, — сказал К., вытирая платко.м глаза. — Я у этого пройдохи тоже снимался, грешен… Подождите, а экзамены он сдал?
Ничего он не сдавал. Он только получал и приобретал. Теперь у него “Волга”… и много всего, не перечислишь. Идея сработала безотказно. Борькины картины с дыркой стали достопримечательностью Ингора. Быть в Ингоре — и не сняться у Борьки…
— Знаю. Я туда Свенсона водил. И канадцев.
— Юмор, как же. Материалы Борьке приносят бесплатно, картины с дырками рисуют на общественных началах, проявляют и печатают ребята из физматшколы. Три года такой деятельности. А вы снова говорите об Ингоре, о заблудшем физике…
— Не думал, что у этого юмора коммерческая подоплека. Сегодня же позвоню в Ингор.
— Не надо. Это моя работа, я сама ее исправлю.
— Хорошо, Кира Владимировна. Но Горчаков — другой случай. Коммерцией он заниматься не будет. Он — физик, натуральный физик. Поверьте, есть смысл его спасать.
— Да, конечно, — без всякого энтузиазма сказала я. — Нужна еще одна гениальная идея…
3
Вообще-то я чуть-чуть хитрила. С того момента, как К. рассказал о Горчакове, я знала, что буду решать эту задачу. Собственно, я уже ее решала. Мы говорили о Борьке, о Горчакове, но я быстренько ворошила задачу: мне нужно было найти исходную точку анализа.
— Вы как-то прохладно к этому относитесь, — сказал К. — Напрасно. Ведь перед вами почти детективная ситуация. И вы — в роли Шерлока Холмса. Разве это не воодушевляет?
— Нисколько.
— Не верится… Вы что же, не любите Конан-Дойля?
— Я не люблю, когда человек охотится за человеком.
— Шерлок Холмс охотился за преступниками.
— За людьми, совершившими преступления.
— Гм… В конце концов, у Конан-Дойля все это условно — сыщик, преступник. Как белые и черные в шахматах. Интересна интеллектуальная сторона приключений.
Настоящие интеллектуальные приключения бывают совсем в другой области, подумала я. Но спорить не стала, это отвлекает. Я сказала:
— Горчакова могли сломить неудачи.
— Ни в коем случае, — возразил К. — Дела у него шли превосходно. Можете мне поверить. Сережа работал над математической моделью Солнца. Не пугайтесь, пожалуйста. Понять принцип совсем не трудно. Вычислительный центр в Ингоре запрограммировал на своих машинах все известные данные о Солнце. Получилась система уравнений, связывающих различные параметры- температуру, давление и так далее. После этого в уравнения стали подставлять конкретные значения этих параметров. Метод Монте-Карло: величины поступают в случайном порядке, а затем производится оценка полученных вариантов. Группа Горчакова рассмотрела миллионы таких вариантов. Достаточно изменить значение одного параметра, как меняется вся картина. Допустим, вы приняли, что температура на такой-то глубине равна семи тысячам градусов. Получается одна модель. Если принять температуру равной десяти тысячам градусов, — совершенно другая модель. А критерий — наблюдения. Мы более или менее хорошо знаем внешнюю поверхность Солнца. Если полученная модель верна в этой части, то весьма вероятно, что она правильно описывает и структуру недоступных наблюдателю солнечных глубин. В этом смысл работы. И Горчаков отлично с ней справился. Удалось отобрать четыре модели, которые не противоречат наблюдаемым данным. Скажу по секрету: работа получит премию академии. Так что никаких неудач…
— Могли быть личные неудачи.
К. досадливо поморщился.
— Нет, это исключается. Горчаков молод, здоров. Да вы его увидите. Красивый парень, мастер спорта.
— Открытия иногда не так применяются. Сциллард, например, оставил физику…
— Если бы Горчаков не хотел работать из-за этого, он бы сказал. Он всегда говорит то, что думает.
— Тогда почему не допустить самое простое? Горчаков действительно разочаровался в физике — вот и все.
К. сердито посмотрел на меня. Так маршал должен смотреть на провинившегося солдата. Нет, я правильно разрисовала картинку в школьном учебнике. Попробуйте объяснить маршалу, что командир батареи в один прекрасный день взял и бросил наскучившие ему пушки.
— Хорошо. В физике нельзя разочароваться. Забудем про самоубийство Эренфеста, забудем трагические сомнения Лоренца, забудем, как Эйнштейн…
— Глупости! — перебил меня К. — В каждом из этих случаев были свои причины. И ничего общего с разочарованием в физике они не имели, запомните это. Физик — трудная профессия. Человек может разочароваться в своей работе, может устать, утратить веру в свои силы. Это всегда возможно. Но у Горчакова что-то другое. И вот я вас спрашиваю — что?
— Вы спрашиваете меня?
— Конечно! — сказал К. Он все еще сердился. — Вы же психолог. Притом единственный психолог, который умеет формировать творческое мышление. Не возражайте! Рассуждать о творчестве могут многие, я знаю. Не только психологи — все мы любим порассуждать о творчестве, о вдохновении, интуиции и тому подобном. А работать с этим самым творчеством никто не умеет. Кроме вас. Поговорите с Горчаковым. Я хочу знать ваше мнение.
— А если Горчаков не пожелает со мной говорить?
— Пожелает. Я ему позвоню. Если не возражаете, прямо сейчас. Лучше не откладывать: он собирается уезжать.
— Куда?
— Видите ли, Сергей Александрович намерен стать… э… мореплавателем. Такому физику нетрудно переквалифицироваться на штурмана. Но требуется практика, нужно пройти сколько-то там тысяч километров. По сей причине Горчаков готовится начать свою морскую карьеру матросом.
К. порылся в ящиках стола, отыскал сигареты и коробку с конфетами. Я отказалась.
— Ну? — удивился он. — Что же вы предпочитаете? — Фруктовое мороженое.
— Ладно, буду знать…
Он достал из кармана трубку и виновато улыбнулся:
— Не разрешают курить. Привык держать в руках… Скажите, Кира Владимировна, как вы придумали эту штуку с фотографией?
— Очень просто. Она была у нас в Таганроге. Только без юмора. Нашелся странствующий фотограф, устроился возле пляжа. А потом появился фельетон в газете. Вот такой… — Я показала, какой он был большой, этот фельетон. — “Мещанин на коне”. Там было столько пафоса, столько грома и молний… Можно было подумать, что искореним мы эту фотографию — и наступит полное благополучие не только у нас в городе, но и на всей планете… Мещане сейчас ужасно любят вот так бороться с мещанством. Наговорят трескучих фраз — и довольны. Естественно, я пошла сниматься на коне. Понимаете, какая обида: вырез для лица оказался слишком велик. Фотограф из-за этого совсем расстроился. Он приехал с Северного Кавказа; там привыкли к таким картинам. Пальцы у него были желтые от проявителя: он всю жизнь снимал людей. Я его расспрашивала, пока он собирал свое нехитрое хозяйство. Потом помогла донести вещи до вокзала…
— Ясно, — сказал К. — Вот что, Кира Владимировна, у меня предложение: идите работать ко мне в институт. Главным психологом. Учредим такую должность. — Он рассмеялся. — Положим начало новой традиции… Вы молоды и сумеете органично войти в физику. Нужен синтез ваших знаний с физическим мышлением. В сорок или пятьдесят лет такой синтез уже невозможен — упущено время. Надо вырасти в атмосфере физики — вот в чем секрет. Кстати, работая с Сарычевой, вы шли как раз по этому пути. Так почему бы не продолжить?
Это было слишком неожиданно (и соблазнительно, если говорить откровенно) — я растерялась. К счастью, в этот момент зазвонил телефон; К. отвлекся. Насколько я поняла, разговор шел о каком-то хоздоговоре.
— Замечательная мысль, — насмешливо говорил К. — Савельев сделает работу за Шифрина, а Шифрин сделает работу за Савельева, и оба будут считать это дополнительным трудом, за который полагается дополнительная оплата… Нет уж, пусть каждый делает свое дело. Без этих фокусов. Передайте Савельеву, пусть занимается физикой, он был способным парнем, я помню его по семинару.
К. положил трубку и неприязненно отодвинул телефон.
— Деньги, — вздохнул К. — Интересно, как вы к ним относитесь?
— Мне их всегда не хватает, — призналась я.
К. усмехнулся:
— Мне тоже. И много вам сейчас не хватает?
— Миллиона три. У меня есть разные идеи, которые требуют…
— Ясно. Вам надо идти в мой институт главным психологом. Включим ваши идеи в план.
Следовало мягко славировать, но я прямо сказала, что физика меня не очень привлекает, поскольку существует другая — более важная — область. Конечно, К. сразу вцепился: что это за область и почему она более важная?.. Никак не научусь дипломатической амортизации, а ведь это так просто!
Пришлось объяснять. Я впервые говорила о своей Главной Идее. Получилось не слишком убедительно, я сама это чувствовала.
— Утопия, — объявил К., не дослушав. — Чистая утопия этот ваш Человек Который Умеет Все. Прогресс немыслим без разделения труда, без специализации. Во всяком случае, в ближайшие двести-триста лет.
— Начинать надо сегодня. Иначе и через двести — триста лет сохранится узкая специализация. Со всеми последствиями.
Тут я сообразила, что должна хотя бы поблагодарить К. за предложение. Это тоже вышло не очень гладко.
К. поглядывал на меня, хитро прищурив глаза.
— Никак не мог понять, почему с вами трудно разговаривать, — сказал он. — Теперь понял. У моих мальчишек — как бы это сформулировать? — коммуникабельные лица. Когда я читаю лекцию или мы что-то обсуждаем, физиономии отражают каждое движение мысли. Обратная связь: я вижу, что и как они думают. А вы все время улыбаетесь. Это очень мило, но я не знаю, когда вы говорите серьезно, а когда шутите. Да что там — нет даже уверенности, что вы меня слушаете.
Я стала доказывать, что слушаю самым внимательным образом, но К. махнул рукой.
— Ладно, вернемся к Горчакову, вам надо подготовиться к разговору. Задавайте вопросы. Я хорошо знаю Сергея Александровича: у вас будет первоначальная информация.
Прекрасно звучит, подумала я, в современном стиле: будет информация. Только зачем она мне? У меня нет ни одного вопроса о Горчакове.
— Скажите, пожалуйста, — спросила я, — у
— У меня? — грозно произнес К.
Я мило улыбнулась.
4
— Ничего похожего, — отчеканил К. — Были трудные моменты, были сомнения, но все это в непосредственной связи с конкретными причинами. О чем тут говорить! Сомнение- необходимый элемент творческой работы.
— Я имею в виду не сомнения. Меня интересует: появлялось ли у вас желание бросить науку?
— Ко всем чертям?
— Вот именно.
— Нет. Не было у меня такого желания.
— Ну, а просто мысль о возможности выбрать другой жизненный путь?
— Послушайте, Кира Владимировна, почему вы расспрашиваете меня?
— Потому что вы тоже физик.
— Женская логика! Можно подумать, что физики только и мечтают, как бы стать моряками…
— Попробуйте все-таки вспомнить.
Теперь он разозлился по-настоящему. Он разгневался — это более точное слово. Похоже, у него появилось желание погнать меня. Нельзя было упускать инициативу; я твердо сказала:
— Пожалуйста, мысленно переберите год за годом. Вдруг что-то припомнится.
Он фыркнул, натурально фыркнул, но ничего не ответил и принялся ходить по комнате. Я отошла к окну, чтобы не мешать.
Значит, женская логика. Любопытно, а какая у меня должна быть логика?!
В стекло упирались гибкие ветви ивы, и на ветвях, прямо перед моим лицом, раскачивался воробей. Крылышки у него вздрагивали, он был готов в любой момент сорваться и улететь, но он не улетал, а храбро разглядывал меня маленьким черным глазом.
Я слышала размеренные шаги. К. ходил из угла в угол и вспоминал. Он настоящий ученый и уж если взялся что-то делать, будет делать добросовестно. Сейчас он перебирает годы — их много, ох как много! Ровные спокойные шаги, и в такт им раскачивается на ветке воробей.
“Здравствуй, воробей, давай познакомимся. Меня зовут Кира. Представляешь, как было бы здорово: главный психолог Института физических проблем К.В.Сафрай! Звучит! И побоку всякие там утопии…”
Я рассматриваю свое отражение в оконном стекле. Решено: золотисто-бежевый костюм. У меня есть янтарь: он отлично подойдет к такому костюму. Можно взять яшму вместо янтаря, — так сразу не скажешь, надо посмотреть. Хорошо бы попасть в ателье сегодня, оно работает до семи. Разберут мою ткань, и останусь я с носом. Но уже четверть пятого, придется ехать к Горчакову, разговаривать — как тут успеешь… Гениально было бы не ехать. Вот Леверье открыл планету Нептун путем расчетов. Без всяких поездок и разговоров. Правда, у Леверье были исходные данные, а у меня ничего нет. Почти ничего. Кое-какие мысли и информация, которая вмещается в одну фразу: талантливый физик вдруг бросил науку.
Загадка.
Собственно, в чем она, эта загадка?
Чтобы выбить из колеи прирожденного физика, нужно нечто весьма основательное. Нечто такое, что не возникает за один день или за месяц. Я вправе предположить: икс-причина (прекрасно, уже есть термин!) появилась давно. Годами шел незаметный процесс накопления… Чего?.. Какого-то взрывчатого осадка, что ли. Как с ураном: масса должна превысить критическую величину, чтобы началась цепная реакция.
Физматшкола, университет, дипломная работа (теперь я припоминаю: за нее дали кандидатскую степень, об этом был очерк в “Комсомолке”), через три года Горчаков стал доктором. Стремительный взлет, ничего не скажешь. Примерно так получается у Саши Гейма, моего бывшего одноклассника. Победы на олимпиадах, статьи в математических журналах… В восьмом классе Саша придумал для нас, математически темных, потрясающую шпаргалку. С такой шпаргалкой можно было отвечать даже по программе десятого класса. Саша про вел настоящую исследовательскую работу, чтобы вывести сверхкомпактную формулу. Он стремился найти единое уравнение школьной математики. Конечно, никто из нас не понимал, что написано в шпаргалке. Завуч послала ее в Новосибирск, и Сашу пригласили в физматшколу.
Горчакова я не знаю, но зато прекрасно знаю Сашу Гейма и могу искать икс-причину, размышляя о Саше. В психологических уравнениях я заменяю неизвестную величину известной и… Кто сказал, что психология не точная наука?!
Существуют звезды с таким сильным полем тяготения, что свет их не может уйти в космос. Лучи изгибаются, невидимый барьер отбрасывает свет назад, он мечется в замкнутом пространстве, а барьер надвигается, и стиснутое, спрессованное излучение приобретает огромную плотность. Каждый раз, когда приходится решать сложную проблему, возникает такой же барьер, отделяющий от меня внешний мир. Свет, звук, запах, тепло, холод — все исчезает за этим барьером. Даже время Остается только движение мысли, сначала едва уловимое, но постепенно приобретающее уверенность, весомость, силу. Тут торжествует закон Эйнштейна: мысль не имеет массы покоя и лишь в движении становится физически ощутимой. В такие мгновения кажется, что можно увидеть мысль, прикоснуться к ее потоку…
Воробей подобрался совсем близко к стеклу. Он разглядывает меня черной бусинкой глаза, потом поворачивает голову и внимательно смотрит другим глазом. Правильно, птица: на людей надо смотреть в оба.
— Ничего не вспоминается, Кира Владимировна. Только один более или менее случайный эпизод Садитесь, пожалуйста.
Не хочется отходить от окна, но К. не сядет, если я буду стоять, а он, наверное, устал.
— Я работал тогда в Англии. Да-да, это тридцать четвертый год, конец лета. Дожди… В лаборатории даже днем горел электрический свет. Сильные были дожди. Знаете, я сейчас вспоминал и услышал песню водосточных труб. Старые водосточные трубы старого дома; их делал талантливый мастер — он хотел, чтобы трубы пели…
К. умолкает и смотрит мимо меня — в далекие тридцатые годы, в свою молодость. Это продолжается пять–шесть секунд, не больше. Он виновато улыбается: ему кажется, что я анализирую каждое слово. Как же, психолог! Я почти не слушаю, все это — за барьером, я продолжаю решать задачу. Сквозь барьер может пройти только то, что помогает решению. О голосах дождевых труб я вспомню потом, может быть, через несколько лет. Будет дождь в каком-нибудь далеком городе, будет журчать вода в трубах, — я вспомню все, что сейчас рассказывает К., вспомню и пойму.
— Дела у нас шли неважно. Опыты, обсуждения, снова опыты и снова обсуждения… Бывает такая полоса неудач: опыты дают совершенно нелепые результаты, обсуждения только усиливают взаимное раздражение… И вдруг солнечный день. На полную солнечную мощность. Яркие лучи стерли электрический свет, в лампах тлели тусклые желтые нити… И все сразу почувствовали, что нельзя оставаться в лаборатории ни минуты. Мы с Кокрофтом поехали на юг, к каналу. Кокрофт гнал машину как сумасшедший. Чудесное было настроение: вырвались из темных комнат, весело гудит мотор, озорно посвистывает ветер, а впереди — море. В этот день оно было ярко-синим, чистейший синий цвет без примеси зеленого и серого…
“Вырвались…”
Мне нужно было именно это слово! Я собирала логическую цепь, у меня уже были все ее звенья, но они лежали порознь, тяжелые куски мертвого металла, и вот одно слово мгновенно соединило звенья в прочную цепь. Теперь я представляю, почему Горчаков бросил физику. Задача решена. Точка. Остается самое приятное: эффектно выложить то, что я поняла. Все-таки ты молодец, Кира…
— Машину мы оставили у обрывистого холма, спустились вниз, к пляжу. Говорили о каких-то пустяках, кидали камни в воду… А потом услышали шум мотора. Вдоль берега над водой шел самолет. Вы, конечно, не знаете, что такое самолеты тридцатых годов. На снимках они неплохо выглядят… Самолет сел на пляже, пробежал метров сто и остановился рядом с нами. Промасленная фанера, залатанная обшивка. И проволока, очень много проволоки, чтобы все это не развалилось. Из кабины вылез долговязый парень; на нем был промасленный и залатанный комбинезон. “Меня зовут Жерар Котрез, — сказал он. — А это мой летательный аппарат. Там испортился… такой…” На этом его английский кончился, и, к великой радости Жерара Котреза, мы ответили ему по-французски. Так вот, в летательном аппарате перестали работать элероны. “Что мне элероны! — сказал Котрез. — Но летательный аппарат не должен распускаться…” Мы втроем исправляли повреждение: там заклинило проволочную тягу, и Котрез рассказывал о себе. Студент-юрист, бросил Сорбонну, работал грузчиком, собирал по кусочкам свой летательный аппарат, теперь отправился в кругосветное путешествие. “Что мне эти законы… Я посмотрю мир, может быть, ему нужны совсем другие законы… Послушайте, парни, летательный аппарат поднимет троих. Вы мне подходите, летим вместе!” В промасленных крыльях сверкало солнце, ветер гудел в проволочных растяжках, и я вдруг почувствовал, как это здорово — жить так, как живет Котрез. Лететь над морями, горами, лесами — неизвестно куда и неизвестно зачем, просто лететь. И если понравится какой-нибудь городок, опуститься ненадолго, пройти по узким улочкам, заглядывая в окна, посидеть на траве у реки…
— Как он сказал? Повторите, пожалуйста.
К. удивленно пожимает плечами.
— “Что мне эти законы!” Да, именно так. “Что мне эти элероны!.. Что мне эти законы!..” У него это великолепно получилось. В такой, знаете ли, лихой бержераковской манере. А дальше запомнился смысл, не ручаюсь за точность каждого слова: “Я посмотрю на мир, может быть, ему нужны другие законы…”
Так. Боже, какая я дура: осталось, мол, эффектно выложить решение… Как же! Я прошла над пропастью по снежному мосту, но путь не кончен, он только начался. Надо идти дальше. А там, в этом туманном “дальше”, еще один снежный мост, куда более трудный, и пропасть под ним в десять раз глубже…
В ателье я, конечно, не попаду: оно на другом конце города. Вообще все планы на сегодня пошли кувырком. Зато у меня появилась отличная идея.
Сумасшедшая идея. Представляю, как будет смеяться К. Ну и пусть смеется. Меня неудержимо тянет вперед…
— Вы ведь не слушаете, Кира Владимировна!
Нет, почему же, я слушаю. “Что мне эти законы!” — говорит похожий на Ива Монтана высокий парень. А рядом с ним — латаный-перелатаный самолет.
— Мы помогли ему развернуть машину. Он взлетел, сделал круг над нами, потом взял курс на север. Не знаю, куда он летел, не пришло в голову спросить. Через четыре года я прочитал в “Юманите”, что Жерар Котрез, пилот республиканской армии, погиб под Барселоной. Он вылетел на своем летательном аппарате навстречу эскадрилье “юнкерсов”.
Я с трудом восстанавливаю барьер: сейчас надо думать о задаче, я сама ее усложнила. Последний бой Жерара Котреза не имеет к задаче никакого отношения. Вечером, вернувшись к себе, я сяду у окна, включу проигрыватель и отыщу среди своих пластинок такую, которая понравилась бы Жерару Котрезу. А пока надо идти вперед. Это тоже бой, и нелегкий.
— Позвоните Горчакову, — говорю я. — Скажите, что вы еще раз просмотрели его работу. Или найдите другой повод, безразлично. Мне важно, чтобы в разговоре была фраза: жаль, что нельзя изменить гравитационную постоянную.
5
— Простите, Кира Владимировна, что это значит — изменить гравитационную постоянную?
Я объясняю:
— Изменить — значит увеличить или уменьшить. Вы же хотели позвонить Горчакову, не так ли? Вот я и прошу: позвоните и поговорите. О чем угодно. Но мимоходом должна быть брошена эта фраза: жаль, что нельзя изменить гравитационную постоянную.
— Мимоходом. Ну-ну…
К. смотрит на меня так, словно только что увидел. — А дальше?
— Дальше вы скажете, что кто-то к вам пришел, извинитесь, обещаете позвонить через полчаса. И все.
— Не понимаю, зачем нужен этот спектакль.
— Чтобы Горчаков снова занялся физикой.
— Вы это… серьезно?
— Вполне серьезно.
— И вы Думаете, что вот так — не видя Горчакова, не разговаривая с ним — вы заставите его изменить решение?
— Да.
— Ясно, — говорит К — Теперь ясно, какие приключения вам нравятся.
Тут мне следовало бы мило улыбнуться, потом я буду жалеть, что не улыбнулась. Но я не очень вежливо повторяю:
— Звоните же, время идет…
К. испытующе смотрит на меня.
— Наверное, у вас еще не было неудач?
Он поднимает телефонную трубку и медленно набирает номер, поглядывая в мою сторону. Еще не поздно отказаться. Но я молчу.
— Здравствуй, Сережа…
Ну вот, началось.
Уверенности у меня нет. Что поделаешь? Я не могу приказать: появись, уверенность, ты мне сейчас очень нужна! Я знаю только одно: в моих расчетах нет ошибки. Беда в том, что самые верные психологические расчеты не гарантируют однозначного ответа. В физике иначе. Взять хотя бы ядерные реакции. Литий, облучаемый альфа-частицами, превращается в гелий. Если условия опыта не меняются, не меняется и результат. Таковы правила игры. Представляю, как чувствовали бы себя физики, если бы при неизменных условиях опыта литий иногда превращался в гелий, иногда в соломенную шляпу, иногда в малинового медвежонка… Игра без правил, сказали бы шокированные физики. А ведь в психологии именно такая игра. Правила, конечно, есть, только они неизмеримо сложнее, переменчивее. Вот сейчас я рассчитала реакцию, но вместо гелия запросто может получиться малиновый медвежонок.
— …Нет, уговаривать не буду. Я хотел знать твое мнение о Синельникове. Ведь ты с ним работал?
Они обсуждают деловые качества Синельникова, затем К- переходит к последней работе Горчакова и очень естественно, посмеиваясь, произносит фразу, которая нужна.
Секундная заминка. Горчаков, наверное, переспрашивает.
— Жаль, говорю, нельзя изменить гравитационную постоянную… Как--что это значит? Изменить — значит увеличить или уменьшить.
К. прикрывает трубку рукой:
— Он спрашивает — зачем? Быстро!
Я подсказываю первое, что приходит на ум:
— Легче жилось бы.
— Легче жилось бы в таком мире, Сережа. Да! Еще бы… К сожалению, не мы с тобой выбирали эту постоянную.
Сейчас самый подходящий момент прервать разговор. Я показываю: надо положить трубку. Но К. не замечает моих сигналов.
— Нет, просто к слову пришлось. Как ее изменишь, проклятую…
Шепотом он передает слова Горчакова:
— “Теоретически можно изменить…”
Я подсказываю ответ:
— Что ты, ни теоретически, ни практически.
Надо было с самого начала слушать разговор. Подключить второй аппарат и слушать. Я сглупила, постеснялась.
— Да, да, понимаю, — говорит К. и пожимает плечами, показывая, что ничего не понимает. (Я ободряюще улыбаюсь — а что остается делать?) К. машинально повторяет: — Да, да… — И вдруг удивленно спрашивает: — То есть как это — изменить постоянную Планка?
Именно этого я ждала, и все-таки сердце у меня замирает. Ох и умница этот Горчаков! Схватил приманку значительно быстрее, чем я думала. Я мгновенно подсказываю:
— Чепуха, ничего не получится…
— Нет, Сережа, нет, ты что-то путаешь… Ну хорошо. Буду ждать.
К. кладет трубку и долго молчит, разглядывая меня. Надо бы мило улыбнуться, но я устала.
— Он будет через час, — говорит К. — Предлагает обсудить какую-то идею. Послушайте: как вам это удалось?
Ага, удалось!
Я улыбаюсь и отвечаю с великолепной небрежностью:
— Пустяки! Совсем просто. Меньше всего я думала о Горчакове…
6
Это была святая правда, но К. ни капельки не поверил.
— Объясните толком. Я должен знать, как теперь держаться с Горчаковым.
Секретарь принесла нам чай и вафли.
— Дважды звонил Петр Борисович, — сказала она. — Другие тоже звонят.
— Ну-ну, — сочувственно кивнул К. — Займите круговую оборону и держитесь. Сейчас мне нужен только Горчаков, он скоро подъедет.
Я посмотрела на часы: десять минут шестого.
— Говорят, вы где-то выступали со змеями. Это правда? — спросил К.
Ох уж эти змеи! Нигде я, конечно, не выступала. Вообще об этой истории знали четыре человека; я просила их никому ничего не говорить. Как же! Теперь я каждый день слышу разные легенды…
— Со змеями ничего интересного. Просто курсовая работа по зоопсихологии.
— Курсовая? Ладно, не хотите рассказывать — не надо. Но насчет Горчакова вам придется изложить все самым наиподробнейшим образом. На чем вы основывались? Может быть, это просто счастливая случайность? Пейте чай, остынет.
Он меня нарочно подзадоривал.
— Логика, только и всего, — сказала я. — Одно из двух: либо Горчаков утратил интерес к своей работе по случайным причинам, либо тут проявилось нечто более или менее закономерное. Первую возможность я сразу отбросила, она какая-то… ну, не воодушевляет.
— Убедительный аргумент! — возмутился К. — Конденсированная женская логика. Дважды два не четыре, а… стеариновая свеча. Если что-то не нравится — отбросим.
— А почему бы и нет? Случайные причины надо искать наугад, а если существуют закономерности, можно думать. Это интереснее.
Лучше бы я ничего не объясняла! Кроме логики, есть еще и интуиция, в пересказе она испаряется. А ведь началось именно с интуиции. Произошел неуловимый поворот мысли, и я увидела: нужно понять отношение физика к миру. Не Горчакова, а вообще Настоящего Физика. Такого, как Капица, Ландау или Фейнман. Тут мне припомнилось вышедшее из моды слово “естествоиспытатель”. Человек, познающий природу, мир, Вселенную.
— “Вот я, — думает естествоиспытатель, — и вот Вселенная. Безбрежная (или не безбрежная?) небесная даль, в которой разбросаны огненные шары звезд и гигантские облака туманностей. Миллиарды лет они несутся в пространстве (а что такое пространство?), разлетаясь от какой-то первоначальной точки. Что это за картина и каков ее смысл? Зачем это существует? И зачем существую я, частица этого необъятного мира? Выть может, вещество, из которого я состою (а что такое вещество?), было выброшено когда-то из недр взорвавшейся Галактики, такой же как вот та, чей взрыв я вижу сейчас… Затерянный в безбрежном (или все-таки не безбрежном?) мире, в котором миллион лет — ничто перед лицом вечности, я хочу все увидеть и все понять…”
— Романтично, — сказал К. — Но вы обрисовали свой образ мышления, Кира Владимировна, вот в чем фокус. Вам, насколько я понимаю, свойственно именно такое видение мира. А физик думает о другом. Не ладится установка, подводят какие-то паршивые прокладки. Нет сведений об опытах, которые поставил твой коллега где-то га тридевять земель, и может быть, ты идешь по чужому следу. Завтра обсуждение одной дурацкой работы, но если просто сказать, что автор дурак, потом не оберешься хлопот. Сын схватил двойку по физике. Нужно посмотреть свежий номер “Астрофизикл джорнэл”, три монографии, написать отзыв о диссертации и рецензию на статью…
Тут я взорвалась. Я сказала, что грош цена человеку, если вся эта суета мешает ему слышать, как Земля плывет сквозь мглистое небо (“Почему мглистое?” — тут же придрался К.). Грош цена человеку, если в сутолоке повседневных дел он перестал замечать удивительную картину мира и не терзается от мысли —
К. ехидно улыбался: “Детская болезнь левизны… максимализм юности…”
— Достоевщина наоборот, — сказал он. — Самокопание на галактическом уровне.
Я начала возражать (самокопание на галактическом уровне перестает быть самокопанием), но остановилась на полуслове. В утверждении К. определенно была доля истины. Да, я хочу понять себя, а для этого надо знать, что такое Вселенная и в чем ее смысл, иначе нельзя постичь смысл жизни и назначение человека.
— Наверное, вам интересно жить? — спросил К.
Он смотрел на меня с каким-то напряженным ожиданием. Я забыла, что говорю с исследователем, и кажется, сама стала объектом исследования.
— Так или иначе, — сказала я, — здесь ключ к пониманию истории с Горчаковым. Настоящий Физик начинается с детства. Год за годом он открывает для себя мир, открывает по книгам, в которых спрессованы уже добытые кем-то знания. Идет стремительный процесс: прочитал одну книгу, бери другую, пожалуйста, сколько осилишь. Настоящий Физик с детства привыкает открывать мир
Разумеется, есть много сглаживающих факторов и успокоительных рассуждений. Очередной метр дороги проложен у тебя на глазах и при твоем участии. И вообще по сравнению с прошлым веком наши дорожные машины стали в десять раз производительнее… Все правильно. Но где-то в глубине души остается вечное… самокопание: так что же такое Вселенная, что было раньше и что будет потом?
— Поразительный метод мышления, — усмехнулся К. — Громоздите одну неточность на другую, выписываете такие вензеля, — он провел трубкой в воздухе замысловатую кривую, — а в результате довольно правдоподобные выводы… Видите ли, Кира Владимировна, есть определенный коэффициент: чтобы проложить метр дороги, требуется энное количество труда. И коэффициент этот постоянно увеличивается. Так уж устроен наш мир.
— Но вот Горчаков не принял такое устройство мира.
— И ушел из науки. Разве это выход?
— Не принять существующее — это уже очень много. Не принять, не смириться… Отсюда один шаг до борьбы.
— С чем?
— Если мир слишком медленно познается, его…
— Ну?
— …его изменяют.
— Хотелось бы знать — как?
— Надо построить модель другого мира и изучать эту модель. Измените постоянную Планка — и вы получите модель совсем иного мира. Все в нем будет иное: иная физика, иная химия, иная природа, иная жизнь… Таких моделей можно построить множество; среди них обязательно окажутся миры с более выгодным коэффициентом познаваемости.
Я мило улыбнулась и добавила:
— В самом деле, зачем изучать трудный
7
Я видела по глазам К., что мои шансы стать главным психологом всемирно известного института, которым К. руководит, катастрофически стремятся к нулю. Еще бы — запросто выложила такую ересь… Впрочем, К. был Настоящим Физиком: на какую-то долю секунды он дрогнул, почувствовав в этом безумии определенную систему, и ответил почти спокойно:
— Наука, Кира Владимировна, изучает реальный мир. В этом ее ценность. Математическую модель несуществующего, но легко познаваемого мира построить можно, не спорю. Мысль сама по себе изящная. Но, изучая модель несуществующего мира, вы будете делать не существующие открытия. А зачем они нужны?.. Представим наш мир в виде плоскости. — Он провел трубкой над столом. — Теоретически мы можем построить сколько угодно других плоскостей. Они оторвутся от нашей реальной плоскости и уйдут куда-то в сторону… — Трубка описала неопределенную дугу. — Возможно, по каким-то из этих плоскостей двигаться будет очень легко. Но чем быстрее вы будете двигаться, тем дальше уйдете от реального мира.
Любовь к эффектам когда-нибудь меня погубит. Со змеями я влипла в историю именно по этой причине. И вот теперь я снова не удержалась от эффектного номера. Я попросила у К. его знаменитую трубку и провела ею от стола вверх:
— Вот так оторвется от реальности модель несуществующего мира… — Я покрутила трубкой в воздухе. — …Оторвавшись, она попетляет, а затем… — трубка решительно пошла вниз, к столу, а затем вновь пересечется с плоскостью реального мира. Где-то далеко впереди строящейся дороги. И здесь, на линии пересечения, несуществующие открытия несуществующего мира прекрасно совпадут с реальными открытиями реального мира. Мы прорвемся на сотни лет вперед. А может быть, и на тысячи. Я не знаю, какие открытия будут при этом сделаны. Они покажутся нам таким же волшебством, каким показались бы открытия двадцатого столетия античным философам. Быть может, мы сумеем сконденсировать фотонный газ и получим жидкий свет. Его можно будет зачерпнуть рукой, взять в ладони — вот так, он будет переливаться, в нем будут мерцать теплые лучистые огоньки, и рядом с этим живым светом бриллиант покажется серым булыжником… А может быть, мы откроем структуру электрона, проникнем в глубь элементарных частиц и еще дальше- в недра той неведомой пока формы материи, из которой построены электроны, протоны… Так или иначе это будут чудесные открытия, и стоит жить, чтобы делать их.
К. понял мою идею в тот момент, когда трубка пошла на сближение со столом. Я уловила этот миг: К. сразу отключился, перестал меня замечать. Наверное, через десять секунд он уже разобрался во всем глубже меня. Но я продолжала выкладывать свои мысли: слишком велико было напряжение и нужна была разрядка.
— Вот что, — сказал К. минут через пять. — Вы не очень гордитесь.
Я, конечно, начала говорить, что ни капельки не горжусь. Появится еще один метод познания мира, наука получит новую обезьянку для опытов, только и всего. Это была хорошая аналогия, я ее тут же развила.
— Вот-вот, — продолжал К. — Гипотеза о кварках построена на том, что заряд электрона может быть дробным. Так что не вы первая замахнулись на константы.
Мне бы промолчать, но я не утерпела:
— Как же… Есть и другие прецеденты. В фантастическом рассказе Беляева меняется скорость света. В математике рассматриваются пространства с числом измерений более трех… И так далее. Всякая приличная теория обязана включать предыдущие построения в качестве частных случаев.
— Ну и язычок у вас! — К. покачал головой. — А вы хоть подумали, удастся ли вообще реализовать эту затею? Когда Горчаков моделировал Солнце, из миллиона моделей годилась одна. При этом мировые постоянные не менялись. Если же вовлечь в эту игру константы, потребуются миллиарды моделей на одну годную. Разве что найдутся какие-то правила вариации констант… Кстати, Кира Владимировна, а ведь начали вы не с самого удачного варианта. Я имею в виду эту фразу об изменении гравитационной постоянной. Из всех констант вы выбрали, пожалуй, наименее удачную.
“Сейчас мне достанется, — подумала я. — Вот и придумывай после этого обезьянок…”
Я сказала, осторожно подбирая слова:
— Горчаков должен был
— Не понимаю, — сухо произнес К.
Он уже все понял. Не было смысла лавировать, я честно объяснила:
— Конечно, заманчивее варьировать постоянную Планка: она входит во все уравнения ядерной физики. И вообще… Сразу, например, меняется принцип неопределенности… С самого начала я думала о постоянной Планка. И еще о постоянной Ридберга. Но Горчакову должно казаться, что он сам все придумал. Поэтому нужна была эта фраза о гравитационной постоянной. И ответы я вам подсказывала такие… не гениальные.
К. отложил трубку. Он покраснел, и лицо у него сморщилось, как от зубной боли.
Что поделаешь, конечно, я поставила его в глупое положение. Горчаков наверняка подумал, что старик сдает: прошел мимо идеи, ничего не заметил и говорит глупости.
Отступать было некуда, я твердо сказала:
— Горчаков ни в коем случае не должен знать… ну… как это получилось. По крайней мере, в ближайшие годы. Сейчас он убежден, что сам все придумал, — это окрыляет… В конце концов, он шел в этом направлении: ему достаточно было крохотной подсказки. Я сработала за катализатор, только и всего. И еще: пожалуйста, не сердитесь — вы поставили задачу, которая по-другому не решалась.
К. как-то странно посмотрел на меня. Наверное, так смотрел кардинал Ришелье на д’Артаньяна, размышляя, отправить ли его в Бастилию или дать патент на звание лейтенанта королевских мушкетеров. Я только сейчас заметила, что К. очень устал.
Через несколько минут появится Горчаков, и ему снова придется работать.
— Мне лучше уйти, — сказала я. — Скоро приедет Горчаков. Вам предстоит его выслушать, изумиться, похвалить — это обязательно нужно сделать! — а потом… вероятно, вы будете обсуждать программу работы.
— Да, сегодня уж такой день, — улыбнулся К., и я обрадовалась, потому что улыбнулся он хорошо, открыто. — Идите, Кира Владимировна, завтра я вам позвоню. Затея с Человеком Который Умеет Все почти утопическая, но вы, кажется, не собираетесь от нее отказываться, не так ли?
…Я остановилась в подъезде. Шел мелкий-мелкий дождь. Не знаю, откуда он взялся: небо было чистое, и только где-то очень высоко светились пушистые оранжевые облака. Я смотрела на эти облака и на деревья, тянущиеся к небу, и на людей, которые шли мимо деревьев, и думала, что все это здорово устроено: постоянная Планка в нашем мире выбрана со вкусом.
Удачный день! К. сказал, что затея
К подъезду подкатила “Волга”, с ее красной крыши стекали струйки воды. Из “Волги” выскочил баскетбольного роста парень. Я сразу сообразила, что это Горчаков, — К. описал его довольно точно. Мореплавание понесло тяжелую утрату, подумала я, в морской форме Горчаков был бы великолепен. “По местам стоять, с якоря сниматься!..” Впечатляющая картина. Впрочем, так он тоже неплохо выглядел, совсем неплохо. На меня он даже не взглянул. Промчался к двери, перепрыгивая через ступеньки.
Я посмотрела на часы. Было без четверти шесть. Если ателье работает до семи, можно еще успеть…
— Такси! — отчаянно закричала я.
Машина, уже тронувшаяся, послушно притормозила. Нет, все-таки это был удачный день!..
(support [a t] reallib.org)