"Огонь над песками" - читать интересную книгу автора (Нежный Александр)
3
Большой зал Дома Свободы — со сценой, в глубине неплотно задернутой двумя сходящимися темно-красными занавесами, с тремя ступенями, из зала ведущими на сцену к трибуне, весьма напоминающей учительскую падающими из высоких и широких окон лучами низкого солнца — этот зал к семи часам вечера был полон, в проходе сидели прямо на полу, и Полторацкий, пробираясь вперед, к первому ряду, откуда махал ему рукой Колесов, ощущал то знакомое, тревожно-радостное возбуждение, которое всякий раз занималось в нем на таких вот людских сборищах. Он двигался к первому ряду, пожимал протянутые руки, всматривался, безошибочно признавая даже отдаленно знакомых… видел Агапова, Дорожкина… увидел приходившего к нему сегодня Шилова и кивнул ему… а неподалеку от Шилова, в третьем ряду у окна приметил человека, которого несомненно и даже не раз встречал, — сидел, развернув плечи, прямо, чуть вскинув голову с твердым подбородком, — но припомнить, кто это, не мог, как ни старался.
Он уселся между Колесовым и круглолицым, смуглым, кареглазым человеком средних лет, Полторацкому приветливо улыбнувшимся. Это был Султанходжа Касымходжаев, председатель Старогородского мусульманского Совета профсоюзов.
— Давно тебя не видел, Султанходжа, — пожимая жесткую его ладонь, сказал Полторацкий.
— Ты занят, я занят. Оба заняты. Ты здоров?
— А что ему сделается, — насмешливо проговорил Колесов и по недавно усвоенной привычке скрестил на груди руки. — На нем, Султанходжа, воду возить с Головачевских ключей. Ты прочел? — в упор взглянул он па Полторацкого.
— Прочел.
— И что думаешь?
— Что я думаю… Думаю, была бы у них сила, они бы нам не письмо, а пулю послали… или снаряд, чтоб вернее дошло. Но недооценивать, конечно, нельзя. Я об Асхабаде подумал, когда прочел… А ты?
— А что Асхабад? — свел брови Колосов. — Там все спокойно, я сегодня с Фроловым по прямому проводу говорил. Подтвердил установку: вырвать с корнем! — сказал он, резким движением правой руки показав, как именно должен Фролов поступить в Асхабаде.
— Там еще вот что, если помнишь… о мусульманах…
— …вы не знаете мусульман, вы далеки от них, вы боитесь их, — слово в слово сразу же повторил Колесов. — Ерунда! А твой друг Усман Бапишев? А Мирджамалов? Мирходыбаев? Ибрагимов… которого в Самарканде убили? Они что — не мусульмане, не местный кадр? А Касымходжаев?
— Что? — услышав свое имя, отозвался тот.
— Да я Полторацкому говорю, что мусульман sa Советской властью все больше идет.
Касымходжаев кивнул.
— Я еще в декабре сказал: трудящийся мусульманин и русский трудящийся обязательно будут вместе.
— Вот! — удовлетворенно воскликнул Колесов. — А еще Клевлеев развернется, дай срок!
Ничего не ответил ему на сей раз Полторацкий, и не только потому, что спорить с Колесовым вообще было крайне трудно из-за бычьего его упрямства. Надежды молодого председателя, что прибывший из Москвы по поручению Наркомнаца Клевлеев до конца сотрет черту, обособляющую и отъединяющую мусульманскую жизнь от движения революции, — эти надежды представлялись Полторацкому не вполне основательными.
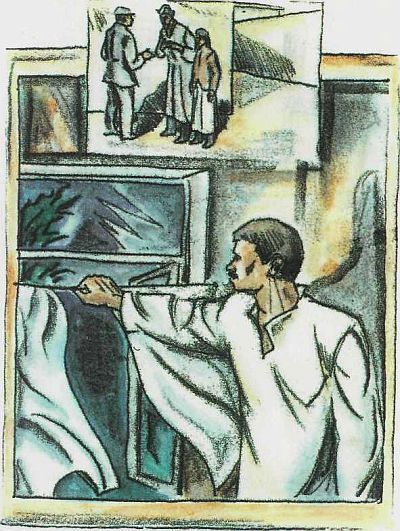 |
Мусульманина-бедняка необходимо оторвать от власти его богатых и от притяжения его духовенства, тут никаких разногласий быть не могло и тут-то и крылся едва ли не сердцевинный вопрос туркестанской революции. Но как? Неимущему горько и там, за Анхором, в Старом городе, и по иной судьбе и лучшей доле томятся и в маленьких, серо-желтых, тесно слепившихся друг с другом глинобитных кибитках, ибо всем временам и всем народам, какого бы ни исповедовали бога, было присуще, если не сознание, то подспудное, неизбывное чувство несправедливости, неверности и жестокосердости этого мира и этой жизни. Клевлеев явился в совершенной уверенности (запалил ею и Колесова), что знает вернейший и даже единственный путь… что в самые малые сроки создаст в республике мусульманскую Красную армию, покончит с эмиром и всю туземную бедноту повернет к Советской власти. Уверенность же свою объяснял до чрезвычайности любопытно, таким, примерно, образом: научно изучив Коран, говорил посланец Татаро-башкирского комитета Наркомнаца, равно как и все учение пророка, я убедился в социальной направленности его мысли. Таким образом, по его мнению, открывалась замечательная возможность использовать в благих целях выдержки из священного писания мусульман и тем самым — через религию — в необходимом направлении воздействовать на психологию и сознание массы. К примеру, в Коране ясно указано, что все богатые должны двенадцать с половиной процентов от своих доходов уделять бедным. Однако наши баи скорее умрут, чем отдадут беднякам хотя бы четверть процента своих баснословных прибылей! После молчания, по словам Клевлеева, неизменно наступающего в связи с такого рода убийственными вопросами, следовал немедленный, чисто политический вывод: богатство баев, добытое нечистым, неправомерным, хищническим путем, является незаконным и должно быть предоставлено в распоряжение бедноты, имеющей на него бесспорное право. Разумеется, признавал Клевлеев, подобные доводы с точки зрения Маркса не выдерживают никакой критики, однако они, во-первых, зажигают массу светлым чувством энтузиазма, а во-вторых, хоть и несколько иным путем, ведут все к той же притягательной цели. От него ждали многого, он ходил в именинниках, Полторацкий же, к раздражению Колесова, не скрывал сомнений. Отталкивало вот что. Революционное, чистейшее, тысячекратно кровью омытое дело должно быть безукоризненным и в средствах, любая фальшь, недомолвка, незначительная хитрость, уловка, подмена понятий, какими бы высокими побуждениями ни обосновывались, уже заключали в себе некую совершенно нетерпимую, неприемлемую червоточину, которая вполне могла безмерно опорочить само дело. Стремясь построить на правде и справедливости новое общество, никак нельзя ловчить, никак нельзя не выбирать средства, напротив, необходимо сугубо ограничивать себя, дабы дорогой ценой не платить за посеянное в сердцах сомнение. Справедливость, только она способна привлечь мусульманскую массу, как бы темна ни была она, справедливость во всем, в том числе и в таких насущных и сразу ощутимых вещах, как распределение хлеба, сахара, чая, мануфактуры… Прежняя власть с далеко идущим умыслом внушала поселившемуся в Туркестане русскому человеку чувство безусловного превосходства над мусульманином, превращала местного жителя в существо заведомо низшее, чьи стремления, надежды и помыслы совершенно не следовало принимать всерьез, а ведь ничто не впитывается с такой губительной легкостью, как ощущение собственной полпоценпости, основанное на порочном сознании неполноценности других. Вот что прежде всего надлежало вытравить, а не уповать на доводы, заимствованные из Корана, какой бы скорый успех ни сулили они. Относительно же Мухаммеда и его якобы натурального или природного коммунизма Касымходжаев, во всех правоверных тонкостях разбиравшийся не хуже муллы (медресе окончил в самой Бухаре), с явственной усмешкой шептал Полторацкому на ухо, что объявлять пророка коммунистом столь же нелепо, как, скажем, безоговорочно верить в чудесную операцию, произведенную Гавриилом над пророком, когда тому было три или четыре года, и состоявшую в том, что архангел, с великой бережностью уложив избранного мальчика на землю, без малейшей боли разъял ему грудь, вынул сердце и тщательно очистил его от всяческой скверны, удалив черные и горькие капли первородного греха, унаследованные от павшего праотца нашего Адама и даже самых достойных и лучших соблазняющие на поступки нечестия, неправды и беззакония. Если же говорить серьезно, прибавил Касымходжаев, то, во-первых, ислам означает преданность и самоотречение верующих, полностью предающих себя милости и гневу Аллаха, и, во-вторых, лишь в начале своего пути Мухаммед был одушевлен и даже одержим страстью к вечному и благочестивому; довольно скоро он становитсяпо преимуществу политиком, религиозную идею превратившим в средство государственного строительства и поддерживающим ее огнем имечом. Какой уж тут коммунизм!
— Ты это все ему втолкуй, — с усмешкой кивнул Полторацкий на Колесова и навлек на себя его негодующий взгляд. Клевлеев меж тем свое выступление закончил, Колесов захлопал ему нарочито громко и сизлишней уверенностью проговорил:
— Молодец!
Своим чередом шел митинг. Положение республики — такова была его повестка, надо сказать, довольно общая, отчего в выступлениях ощущалась изрядная мешанина. Юному студенчеству решительно предлагалось немедля откликнуться на призыв рабочих и крестьян и сдать вархив научной патологии пережитки мещанской и обывательской идеологии; шла речь о скопившихся в Туркестане огромных запасах хлопка, два миллиона пудов которого можно хоть завтра отправить в центр; поднимался на трибуну некий усталый человек н тихим голосом сообщал залу, что ничего светлого, а лишь одна тягость на душе, и под крики, что плакаться надо жене, которая утешит и приголубит, втянув голову, осторожно сходил со сцены; его сменил очень решительный, широкоплечий, в сапогах и кожаной кепке: «Те, — гремел он, с силой опуская на шаткую трибуну мощный кулак, — кто говорят, что Россия погибла, слишком плохого мнения о своем родном народе!». Затем комиссар ташкентской крепости Якименко с некоторым презрением обмолвился об учителях, назвав их «кокардами», после чего немедленно потребовал слова оказавшийся на митинге учитель и нервно проговорил:
— Я протестую против подобных инсинуаций… я работаю для демократии по восемнадцать часов в сутки… бесплатно! Разве я — не трудовой народ?! Я не один раз харкал кровью…
При этих словах зал взроптал, возмущение явно направлено было в Якименко, который в свое оправдание крикнул с места:
— Я против трудящихся учителей не пойду! Я знаю — учителя и интеллигенты когда-то впереди шли…
Была жалоба, всем залом поддержанная:
— Мелкая монета скрыта спекулянтами! Разменять крупные деньги невозможно! За размен тысячерублевки любители наживы берут огромную сумму в сто пятьдесят — двести рублей!
Колесов поднялся на сцену:
— Отвечаю! Выпуск туркестанских бон в самое близкое время будет увеличен.
— С Дутовым замиряться думаете? — крикнули из задних рядов. — Почему делегацию из мастерских к нему не послали?
— Никому не дано права заключать мир с казачеством, пока стоит на месте Советская власть! — звонко сказал Колесов. — Рабочие, которые сами же хотели твердой власти, не должны разбивать ее! Понятно, что вернувшиеся с фронта нервно-истрепанные товарищи вносят определенную смуту… но понятно и то, что рабочие намеренно вводятся в заблуждение!
— Неправда!
Полторацкий оглянулся. Сидевший рядом с Агаповым Попов, слесарь железнодорожных мастерских, коренастым телом подавшись на ходу вперед, быстро шел к сцене. Что-то говорил ему вслед Агапов, но Попов зло отмахнулся и, минуя ступеньки, вспрыгнул на сцену и, оказавшись рядом с Колесовым, повторил:
— Неправда! Никто не сбивает рабочих… Рабочие хотят знать — за что мы воюем с казачеством?!
— Не с казачеством… не с трудовым казачеством воюем мы, — крикнул в зал Колесов, — а с Дутовым, который морит нас голодом. Дутов враг, и его надо уничтожить!
— Задавим атамана! — спокойно пообещал кто-то, обладающий могучим басом, и тут же пронзительный вопль пронесся над залом:
— А кто истерзанную душу рабочего растравляет — проклятье тому!
Будто бы ветер минувшей ночи снова сорвался и прилетел в большой зал Дома Свободы, где с блестящими от пота лицами сидели в тусклом свете малочисленных ламп, в табачном сизом дыму, — такой вслед этому воплю пробежал по рядам ропот. Колесов поднял руку: ропот стих.
— Товарищи! Позвольте прочесть вам обращение к рабочим республики…
— Давай! — из зала ответили, и Колесов, достав из кармана несколько сложенных пополам листков, развернул их и торжественно начал:
— Долго гнулся рабочий, долго стонал он в душной свинцовой атмосфере и в чаду проклятья слагал свои думы, вкладывая в них весь огонь души. И вот настал месяц, памятный месяц октябрь, когда вылилась эта душа и разомкнулась творческая мысль рабочего во всей своей широте. Решительный шаг бедноты под предводительством передовых испытанных рабочих оказался победным… Теперь перед нами вопрос: быть или не быть. Вопрос, — провозгласил Колесов, — в нашей жизни и смерти. Разрешить его может борьба с гигантским международным империализмом, схватиться с которым мы должны быть готовы каждую минуту. Бой с ним будет последним, решительным боем, в котором мы или победим, или умрем! Мы должны победить! Штыки русских бойцов должны поразить истекающий кровью капитал! Наша ответственная задача здесь, в Туркестане, — организовать туземную массу, не извращенную тонкостями «европейской цивилизации», в стройные, широко развернутые могучие полки борцов за социализм. Вместе с тем, — сказал Колесов, — положение катастрофическое. С одной стороны, на выстрел приближается мировой хищник, и, с другой, идет быстрыми темпами процесс деморализации уставших рабочих масс… В зависимости от этого, — потряс сжатым кулаком председатель Совнаркома, — как скоро остановится этот процесс разложения, мы или победим или, — выразительно снизил голос Колесов, — позорно сдадим свои позиции без одного выстрела! Кадр тружеников, работающих не покладая рук, в изнеможениипадет, и рыдание, повторенное зычным эхом, разнесется по всему необъятному пространству России, жутко прозвучит в ушах пролетариата всего мира… Вопрос, товарищи, в вас — в вашей организованности, дисциплине и спайке. Не будет этой спайки — ничто не удержит от возврата к прошлому. Плоскость, на которой вы стоите, имеет слишком большую покатость и сдержать вас на ней бессильна была бы, сдается, вся семья олимпийских богов. Но мы, победители капитала, должны победить и неорганизованность! На борьбу с ней! На борьбу с мелкой буржуазией! — крикнул Колесов. — Долой изменницу!
Зал откликнулся:
— Долой!
— На борьбу с провокаторством! — продолжал председатель Совнаркома. — Гибель провокаторам, затесавшимся в рабочую семью! Во имя счастья класса — смерть им! За дело, товарищи. Вздувайте горн!
…Расходились в одиннадцатом часу. Иссиня-черная мгла опустилась на город, едва ощутимо веял жаркий ветер, приносил с собой горькие запахи высохших трав и остывающей к ночи земли. Полторацкий стоял на ступеньках Дома Свободы рядом с Касымходжаевым и, склонив голову к плечу, напряженно вслушивался в тихую, медленную его речь.
— Прежняя власть только одного хотела — быть сильной… Подчинение и покорность — вот что нужно ей было от нас! Два года назад—ты не знаешь, тебя здесь не было — тут восстание было. На тыловые работы людей стали забирать, — сначала сказали семь тысяч, потом двенадцать, а потом кто их знает, сколько бы еще. Тогда пошли на улицу Алмазар, к управлению полиции… старогородской полиции, — уточнил Касымходжаев. — Вышел Мочалов, полицмейстер… Прочь, собаки, это он нам сказал, стрелять буду! Там женщина была, Ризван Ахмеджанова. Она паранджу скинула и ему крикнула: убей, а сына не отдам! — Касымходжаев перевел дыхание и вымолвил совсем тихо: — Он в нее выстрелил…
— И что? — так же тихо спросил Полторацкий.
— Убил. Ты это не знал — так знай! И помни всегда! Мусульманин много терпел… и крови его пролилось здесь много, очень много… Да, он темный, он муллу боится, Аллаха боится, он судьбе привык покоряться, — но он от унижения устал, сильно устал… Он к новой жизни пойдет и за новую власть воевать будет — только он почувствовать должен, что он — равный. Ты понял?
— Я одно всегда твердо помню, Султанходжа, — отозвался Полторацкий. — Мозоли у всех равны — это я хорошо знаю. И еще знаю, что тому, кто этого не понимает, в революции делать нечего. А прошлое… горечь его, кровь… мы затем с тобой здесь живем и работаем, чгобы это прошлое похоронить и кол ему в могилу вбить!
Полторацкий умолк, и слышны стали обрывки разговоров покидавших Дом Спободы людей.
— Чего наплел — имперьялизм, провокаторы… Нам-то чего делать?
— Тебе, Петрович, ясно сказано, чего тебе делать — работать и воевать…
— Он прав: баррикады рано ломать…
— Мужик толковый…Молодой, правда, горячий, но толковый…
— Я вчера фильму смотрел. В «Хиву» ходил, там эту показывали, как ее…
— «Камо грядеши»?
— Во-во! Интересная!
— Гражданская война — самая страшная…
— Да, — проговорил Касымходжаев. — Ну, я пошел, Павел. Мне идти далеко.
Медленно двинулся и Полторацкий и, едва сойдя со ступенек Дома Свободы, услышал всегда как бы страдающий от нехватки воздуха голос Агапова.
— Я ушел из правительства, осознав собственное бессилие… Ушел от склоки бесконечной, от партийных разногласий, которые угнетают и давят сверх всех возможностей терпеть это…Душу опустошают.
— Ну, а дальше? — спросил человек, в котором Полторацкий, вглядевшись, тотчас признал Семена Семеновича Дорожкина и, признав, позвал:
— Семен! Погоди…
Нагнав их и с Дорожкиным поздоровавшись, сказал:
— Мужики, вы по домам? Я с вами.
— А дальше? — повторил свой вопрос Дорожкин, на что Агапов вяло ответил:
— А кто его знает… Пока в мастерских, там видно будет… Ну, помог девочке? — вдруг спросил он у Полторацкого.
— Помог… Слушай… я тебе вот что хотел сказать… и ты, Семен, послушай, тебе тоже полезно… Ты о бессилии своем права говорить не имеешь! — едва не крикнул Полторацкий. — Тут вокруг черт те что творится — а ты про бессилие ноешь. Выдохся — отступи… уйди, не мешай. А то куда-нибудь в другую сторону скатишься… Понял?
— Посмотрим, сказал слепой, — буркнул Агапов. Некоторое время молча шли в сторону Пушкинской, где — еще издали видно было — светили редкие фонари, затем Агапов, внезапно проговорив: «Мне сюда», свернул в переулок и ушел, не попрощавшись.
— Трудно ему, — сказал Дорожкин.
— Глупостей бы не наворочал, — отозвался Полторацкий. — Ослаб он, а слабого человека подловить легче легкого.
— Что есть глупость? — живо подхватил Дорожкин. — И какой мудрости дано судить нашу глупость? Я ему верю, он не собьется. А я… Отправлюсь-ка я, пожалуй, на фронт, дабы не томиться в ТуркЦИКе. Я не чувствую, что я здесь полезен… Не чувствую! — Тяжелую руку положив на плечо Полторацкого, Семен Семенович продолжил так: — Не судите, я им говорю, и не судимы будете. Ты человек изначально добрый, хоть несколько и ожесточенный жизнью, но ты сохранил способность слушать и понимать, способность в наши дни редкую, как алмаз чистой воды. И ты, я надеюсь, поймешь, если я скажу, что родила меня русская равнина, что мой первый и последний отец — родной пролетариат и что мне душно здесь, Паша! Что меня давит это черное небо… — вздохнул глубоко Семен Семенович, — …эта ночь, всегда приходящая вдруг, без вечерней зари, как удар убийцы, как смерть… Прежде я смешил людей, но сам постоянно был печален. Теперь я хочу послужить всеобщему человеческому счастью, но мне заявляют почти в лицо, что я не нужен и глуп, что я всего-навсего клоун и мое место в цирке…
Привычка Семена Семеновича Дорожкина излагать свои соображения не вполне прямо, а как бы подходя к ним сбоку, как бы прокрадываясь к своим мыслям с самых разных сторон, по пути несколько отвлекаясь и забредая иногда в совершенно иные области, была Полторацкому хорошо известна, и он Семена Семеновича научился понимать. Под ощущением собственной бесполезности, о котором с нескрываемой болью говорил Дорожкин и о котором немного странно было слышать от этого большого, сильного человека с выпуклой грудью и мощной шеей, следовало, вероятней всего, подразумевать не только довольно напряженные личные отношения бывшего артиста с иными членами ТуркЦИКа, не упускавшими случая с пренебрежительным смехом упомянуть о прошлых занятиях Семена Семеновича (как будто было в них нечто постыдное), но и настоятельную необходимость приноровляться к жизни, угадывая при этом ее повороты. Беда людей его склада состояла в избыточном нетерпении, в стремлении перескочить через многие политические, хозяйственные и даже военные меры, порожденные исключительно стремлением приспособиться к переменчивой жизни и, приспособившись, уберечь и укрепить республику. Взгляд Дорожкина был в значительной степени взглядом туманным, взглядом мечтателя, чистого и доброго человека, подавленного противоречивыми событиями нынешней жизни. Именно Семен Семенович, недавно вернувшийся из Самарканда, потрясение повествовал Полторацкому о занятных, но весьма удручающих подробностях тамошнего житья-бытья Андрея Фролова и, рассказывая, едва не рыдал от горечи и отчаяния. Полторацкий тогда его успокаивал, втолковывая, что всякого рода истории, которые — в отсутствие Фролова — понашептали Семену Семеновичу в Самарканде, при беспристрастной проверке окажутся плодом злого эсеровского вымысла; попытался успокоить и сейчас, сказав с усмешкой:
— Небо как небо, чего ты к нему привязался. Ну, темнеет быстро, ну так это же Азия! А ты, Семен Семенович, наплел, как всегда: тут тебе и убийца, тут тебе и смерть. И врешь ты, что тебе говорят, что ты не нужен и глуп. Такого быть не может, я знаю!
— Не так прямо, конечно… Но намек был, я его понял прекрасно! — горячился Дорожкни.
— Эх, Семен! — со вздохом сказал Полторацкий. — Нетерпеливый ты человек… А нетерпение страшное дело, это я тебе точно говорю. Колесов на Бухару попер — и чудом, просто чудом ведь вылез! Тяжелое ныне время, Семен, — помолчав, тихо проговорил он. — Собраться надо… в кулак надо себя зажать. А в вас с Агаповым будто маятник какой-то ходит — то туда, то сюда. То нехорошо, это плохо… Оно и будет нехорошо, если мы — как Агапов — со стороны на все глядеть примемся и только мнение свое высказывать… Само собой ничего не совершится, ко всему руку приложить надо… и голову… И решимость самую твердую! В такое-то время колеблющийся человек, может, и есть самый опасный. Ты на него положиться готов, — а он отшатнулся. Из-за неуверенных кровь льется, Семен.
Так они шли не спеша в сторону Пушкинской, на свет ее редких фонарей, почти невидимые друг другу во всеохватной ночной мгле, и лишь по слегка дрожащему, а иногда и вообще прерывающемуся голосу Дорожкина Полторацкий мог представить себе недоуменно-обиженное выражение его лица. Семену Семеновичу скорее всего мнилось, что нарком труда чересчур прям и последователен и считает это своим достоинством, тогда как в иных случаях недурно взглянуть на события со всех точек зрения, и что вообще совершенно напрасно ему, Дорожкпну, толковать о необходимости твердости и решительности. Он это понимает вполне.
Выйдя на Пушкинскую, они свернули налево, дошли до Хивинского проспекта, где Семен Семенович с Полторацким распрощался. В одиночестве двинулся Полторацкий дальше и только тут ощутил, что за сегодняшний день устал безмерно и сил у него осталось ровно настолько, чтобы добраться домой и заснуть каменным сном.
— Все дороги ведут к Николаю Евграфовичу, не так ли? — с ним рядом прозвучал уверенный голос.
Полторацкий оглянулся: тот самый, кого видел сегодня в Доме Свободы, в третьем ряду у окна… чье лицо, смуглое, с твердым подбородком показалось знакомым…
— Я замечаю, Павел Герасимович, вы затрудняетесь припомнить, где пересекались наши с вами пути. Тогда позвольте представиться: бывший подполковник, ныне служащий банка и одновременно преподаватель народногоуниверситета, ваш сосед по дому Павел Петрович Цингер.
— Да-да, — как мог сухо ответил Полторацкий, вспомнив, наконец, единственную, почти мгновенную встречу с соседом едва ли не в первый же вечер своего житья в доме у Савваитова и мысль, тогда же и промелькнувшую, — военный человек, судя по выправке… белая гвардия…
— Нам с вами вполне по пути, — заметил Павел Петрович, — а вдвоем не так опасно. Шалят, Павел Герасимович, шалят… Но прошу прощения, — вдруг какбы в растерянности перебил себя Павел Петрович. — нe спросясь, набился вам в спутники… Я, Павел Герасимович, исключительно потому, что нам по пути. Соображения безопасности, и потом, не скрою, давно хотел познакомиться с вами. Вы ведь, помимо того, что нарком, еще и редактор «Советского Туркестана», не правда ли? А я, вы знаете, по природе своей неисправимый сочинитель, — простосердечно признался Цингер, и Полторацкий ощутил нечто вроде расположения к бывшему подполковнику и нынешнему соседу. В конце концов, нечего их всех на один аршин мерять, — так рассудил он, но спросил тем не менее не без усмешки:
— Что это вы… Военный человек… подполковник… а всяких шалопаев боитесь?
Цингер охотно засмеялся:
— Боюсь, Павел Герасимович… Жизни, знаете ли, жаль. Есть еще надежды, проекты, замыслы… И вообще, — вдруг воскликнул он, — она сама по себе прекрасна! Вы только взгляните… эта ночь… небо, темней агата…а звезды! горят, воистину горят! Жаль, я не поэт…все мои сочинения, Павел Герасимович, презренная проза в самом прямом смысле: статейки о нашем житье-бытье, ну еще кое-что по научной части… Да… Но вот когда в Галиции, раненный, валялся между окопами… нашими и австрийскими, когда не чаял, останусь ли в живых и только самого господа бога мог об этом молить… вот тогда понял, что есть жизнь и как надлежит ею дорожить. С тех пор у меня каждый день вроде праздника, — слышно было по голосу Павла Петровича, что он улыбнулся.
Чей-то крик сдавленный прозвучал вдалеке, потом негромко хлопнуло, еще и еще… Вслед за этими тремя хлопками прогремел винтовочный выстрел — с такой бесповоротной определенностью, что сразу все смолкло, и прежняя жаркая плотная тишина заполнила темные улицы.
— Вот вам… — произнес Цингер и после некоторой паузы с неприязнью добавил, — и шалопаи… Управы нет, вот и своевольничают, а, Павел Герасимович, — теперь уже совсем бодро сказал он.
Однако же откровенность Павла Петровича, вызванная, должно быть, тем чувством внезапной близости, какую запоздавший путник испытывает к случайному своему товарищу, разделяющему с ним ночь, одиночество и все превратности пешего хода в погруженном в беспокойный сон городе, вместо ответного, пусть даже минутного доверия постепенно порождала в Полторацком некую настороженность. Уже стала ему казаться неискренней речь бывшего подполковника, уже в словах Цингера улавливал он какие-то неясные намеки и уже заранее противился возможным попыткам соседа установить с ним отношения, подобные приятельским, — но внезапно, в один миг, понял, что более всего угнетает его хромота Павла Петровича, столь напоминающая его собственную: короткая, ныряющая перевалка вправо… Ощущалась она и на слух — по чуть более сильному звуку, с которым ступала на землю правая нога. Одинаковость их роста, имен, соседство по дому, одинаковая хромота, наконец, — все это выглядело так, словно они с Павлом Петровичем Цингером находятся в некотором свойстве или, по крайней мере, чем-то должны быть близки друг другу, хотя, конечно, уверен был Полторацкий, даже при самом беглом взгляде обнаружилось бы их коренное несходство. Не хватало еще, мелькнуло у него, чтобы и возраста оказались одинакового. Он только подумал, а Павел Петрович, словно угадав, спросил:
— Вам сколько лет, Павел Герасимович?
— Тридцать…
Павел Петрович хмыкнул и спросил еще: — А когда ж исполнилось?
— Восемь дней назад, — сказал Полторацкой. Цингер далее присвистнул.
— Эт-то замечательно! — тихо засмеялся он. — Мы с вами ровесники и ровесники почти абсолютные… я родился двадцать восьмого и, таким образом, старше вас на один день. Каково?! Нет, Павел Герасимович, тут что-то есть, тут не так просто и только совпадением объяснять было бы банально.
— Что же это вы хотите… что я двойник ваш, так, что ли?
— Двойники не двойники, но какая-то зеркальность в нас, согласитесь, есть. Даже увечны мы с вами на один манер. Мне на фронте ногу свернуло, — как бы мимоходом заметил Ципгер, — а вам?
— Сломал в детстве, плохо срослось…
— Ну, это не существенно — отчего. Тавро выжжено, а кто, как его нам с вами поставил — значения не имеет. И почему бы нам с вами не предположить… что, может быть, и цели-то наших жизней одни и те же, а, Павел Герасимович? Погодите, погодите, — живо схватился Павел Петрович, будто заслышав, что Полторацкий собрался ему возразить, хотя тот шел, не раскрывая рта. — Сейчасвы начнете толковать про разницу нашею с вами происхождения, классы, борьбу и прочее…
— Действительно, — словно очнувшись, перебил его Полторацкий. — Отца моего звали Герасим, мать — Матреной, в школу я ходил четыре года, а все остальное добирал в типографии… А вы, верно, дворянский сын…
— Дворянин, — с улыбкой в голосе подтвердил Цингер. — Но смею вас уверить — никаких капиталов, никаких преимуществ… Головой и кровью, Павел Герасимович, и верной службой отечеству.
— Головой и кровью, — вслед за ним повторил Полторацкий. — И верной службой Отечеству…
Но, должно быть, каким-то иным смыслом в его устах наполнились эти слова, ибо Павел Петрович тотчас спросил:
— А что?
— А то, что и голова, и кровь у нас с вами разные…
И службу Отечеству по-разному мы с вами понимаем. Да и само Отечество у вас одно, а у меня — совсем другое. У меня Отечество пота… труда подневольного… у меня Отечество человека, которого вы придавили… который только сейчас распрямился и которого вам опять согнуть бы хотелось.
— Вы это мне? — с неподдельным интересом откликнулся Павел Петрович.
— Достаточных оснований не имею… А были бы — я с вами бесед бы не вел.
— Ну, и слава богу, — засмеявшись, сказал Цингер с ощутимой, правда, двусмысленностью: то ли доволен он был, что нет еще достаточных оснований подозревать его во враждебных к новой власти намерениях, то ли давал понять, что подобных оснований ни у кого не может быть вообще ввиду сугубой его лояльности.
Шли они довольно медленно — Полторацкий устал, а Цингер, похоже, рад был случаю с ним поговорить. В выборе кратчайшего пути Павел Петрович просил положиться на него, сказав, что Ташкент знает отменно, причем не только новый, но и старый, чем могли похвалиться не многие европейцы. Выяснилось, кроме того, что и местным языком владеет Павел Петрович; знает и арабский и шесть лет назад на казенный счет выпустил в Асхабаде три тома, объединенные общим названием «Суть исламизма» и толкующие Коран и всякие мусульманские тонкости. Правда, не без усилия засмеявшись, счел нужным отметить Цингер, сей труд признанными столпами востоковедения, в частности академиком Бартольдом, встречен был весьма прохладно, однако у военного ведомства, платившего за издание, был на это свой взгляд, скорее практический или, вернее, стратегический, чем научный. (Вообще, с насмешкой промолвил спутник Полторацкого, эти ученые ревнивы, как сто венецианских мавров…) Что же касается Туркестана, то тут эти настроения панисламизма подогревались поразительной бездарностью… да, да, бездарностью и вдобавок алчностью власти! Власть должна быть грозной и честной, говаривал генерал Кауфман. Но мы управлять не умеем. Нас подводил разлад… При всей огромности нашей империи мы — народ совершенно негосударственный. Нет империи, резко сказал Полторацкий, есть республика. Пора бы запомнить. И республика докажет, что она умеет управлять. Именно этим мы сейчас занимаемся… Хотите помочь нам? Пожалуйста! Если же помешать думаете… Не советую. Так заключил Полторацкий, и Павел Петрович, воскликнув с горячностью, может быть, несколько излишней: «Мешать? Что вы, Павел Герасимович, помилуйте!» — и с явным стремлением от этой темы уйти, продолжал свое: раз власть несправедлива, то сарту нет иного выхода, как стать под зеленое знамя. Военное ведомство, после короткого молчания проговорил Цингер, потому и взяло на себя расходы по изданию моего труда, что желало распространить сведения об устремлениях возможного и очень грозного противника… о его, так сказать, идейных корнях…
Тут Павел Петрович приостановился и, тронув Полторацкого за рукав, попросил:
— Погодите…
Несколько раз глубоко вздохнув, он двинулся дальше и уже на ходу объяснил:
— Сердце… Пренеприятнейшее ощущение: ударит и замрет… будто вообще собирается остановиться… А потом словно срывается и стучит как попало, взахлеб… я в эти секунды как бы не существую… уже почти там, — и Полторацкий не столько увидел, сколько угадал движение руки Павла Петровича, указавшей в черное, мерцающее обильными звездами небо.
Лишь ненадолго отвлекли Павла Петровича перебои сердца. Как бы объяснить вам, говорил он, вполне по-свойски взяв Полторацкого под руку, что после ранения, волею судеб оказавшись в Туркестане, я очутился между Сциллой и Харибдой, причем этот невеселый жребий уготован здесь всякому порядочному россиянину. С одной стороны — отвратительное управление, с другой — глухо враждебный мусульманский мир с крепнущей идеей панисламизма… И я положил себе, торжественно объявил Цингер, служить здесь Отечеству, по мере сил способствуя совершенствованию управления и выискивая пути к успокоению мусульман. Но эти события, осторожно промолвил Цингер, революция… одна… потом вторая… Полторацкий усмехнулся: эти события, я чувствую, вам явно не по душе. Но придется смириться… придется вам принять их — особенно, если вы действительно так печетесь о России. Нет другого пути, и не будет! Вы думаете, меня снедает тоска по прошлому, заметил Цингер. Двоедушничать и лукавить не стану, но привык… да и к чему сейчас? Нашему разговору свидетель один — вечное небо над нами, а мы с вами, в конце концов, случайные попутчики, не более. Всепоглощающей тоски нет, но чего действительно жаль — так это перемен… вернее надежд, с ними связанных… В Ташкенте до последнего времени жил один инженер… Павел Петрович на секунду замялся, откашлялся и посетовал на память, которая иногда скверно с ним шутит. Инженер, чье имя никак не мог вспомнить Цингер, утверждал и доказывал, что недра Туркестана — сущий клад, от золота до нефти, и что разработка ископаемых богатств приведет край к полнейшему процветанию…
— А сейчас он где, ваш инженер? — спросил Полторацкий.
— Вот видите! — воскликнул Цингер. — Наше с вами внешнее сходство…
— Какое там сходство, бросьте, — раздраженно перебил его Полторацкий, ни на секунду не усомнившись, что фамилию инженера Павел Петрович помнит, знает, кроме того, где он сейчас, но говорить пе желает.
— …внешнее сходство, — упрямо гнул Цингер, — всего лишь мета, обозначающая возможную общность цели… И кажется мне, Павел Герасимович, такая общность у нас с вами имеется…
Даже не смысл, а какое-то тайное звучание, — будто вокруг да около бродили слова Павла Петровича, осторожно подступали и тут же с изрядной поспешностью отходили прочь, очевидно, проторивая дорожку каким-то будущим словам, более прямым и ясным. Но сам-то он, Полторацкий… он губы скривил, негодуя… с чего бы ему в таком согласии хромать бок о бок с бывшим подполковником, белой гвардией и выслушивать его рассуждения о цели, которая у них якобы общая? Он рассердился и сказал резко:
— Моя цель у всех на виду. Революция — как единственный способ перестроить жизнь. Сделать ее достойной… прежде всего для тех, кто раньше от рождения обречен был мыкаться… кто помирал, светлого дня в жизни не увидав.
Утренняя печальная девочка словно в яви перед ним мелькнула и посмотрела вопрошающе.
— А вот вашей цели, — продолжил Полторацкий, — я пока что-то не различаю. Или ее у вас нет — в чем, правда, я сомневаюсь, — или она не очень-то совпадает с моей… а, Павел Петрович? Я вот, к примеру, для моей цели хотел бы с этим вашим инженером повстречаться, а вы его прячете и на слабость памяти ссылаетесь…
У вас слабая память?! Я с вами всего полчаса знаком, но я уверен: то, что вам нужно, вы помните крепко. Да мы найдем… найдем вашего инженера, и коли он человек к народу неравнодушный, он нам непременно помогать станет. А эти недомолвки ваши… вы вроде на крупную личность метите, а в игру играете мелкую.
— Ну-у-у, Павел Герасимович, вот вы и обиделись… Напрасно! — с искренним огорчением воскликнул Цингер. — Очень вы чистый человек, Павел Герасимович, и держите сердце открытым, вот что я вам скажу. Нельзя так в этой жизни, мне поверьте, — проговорил Павел Петрович, как будто не на один день, а, по меньшей мере, лет на десять старше был Полторацкого. — А насчет переустройства, я с вами вполне согласен, необходимо России переустройство… Только не надо тешить себя мечтами о рае, который можно на земле устроить человеку. Во-первых, устроить его положительно невозможно, ибо у нас с вами есть лишь один рай — тот, что потерян, и потерян, увы, на веки вечные, а во-вторых, даже если и совершится чудо и рай этот сбудется, человек непременно его изгадит. Я с вами вполне откровенен, Павел Герасимович… Я, как дервиш, — засмеялся Цингер, — или по-нашему, по-туркестански, имам, отдаю нам душу мою. Кстати… Мусульман, Павел Герасимович, надобно знать, — сказал с мягким укором Павел Петрович. — Коран в помощь желаете привлечь, — прозрачно намекнул он на пропаганду Клевлеева, — но поневоле складывается впечатление, что от туземцев вы и ваши товарищи по кабинету весьма далеки.
Слово «кабинет» Павел Петрович произнес с насмешкой, довольно ощутимой, что само по себе вполне могло быть поводом к решительному прекращению разговора и даже знакомства. Насмешка была, правда, привычной: тоже, министры… Колесов — телеграфист, Казаков — железнодорожник, Полторацкий — печатник, ну и так далее; привычным был и ответ, отсылавший к французской революции и к провинциальному нотариусу Робеспьеру, а также к Парижской коммуне и к рабочему-печатнику Варлену. Можно было бы так и ответить бывшему подполковнику, однако мелькнуло в его словах и насторожило иное. Туземцы, от которых далека власть… Ведь это почти в точности, как в том письме: вы не знаете мусульман, вы далеки от них, вы боитесь их…
Они проходили мимо Воскресенского базара, когда Павел Петрович, схватив Полторацкого за руку, тихо и быстро ему сказал:
— Стойте. Молчите.
Полторацкий свою руку тотчас, но не без усилия освободил, отметив машинально, что пальцы у Цингера цепкие, и прислушался. Впереди и чуть сбоку, как раз в том месте, где возле забора Воскресенского базара не только поднялся высоко, но и раздался в двух-, а то и в трехобхватную ширину карагач, с вершиной, едва заметной на черпом небе с светло-серой, медленно скользящей тенью одинокого облака, — там вспыхнул вдруг красноватый огонек и чей-то голос негромкий раздался. Другой голос, тоже негромкий, тотчас ответил, — но по движению, угадавшемуся под карагачем, ясно стало, что людей собралось там больше, чем двое.
В брюках, в заднем кармане, лежал браунинг. Полторацкий, не медля, завел руку назад, нащупал маленькую теплую рукоятку.
— Не надо! — шепнул Цингер. — Я узнал… И они меня знают. Подождите минуту.
Он двинулся вперед, сухо и громко зашуршали под его ногами листья, а ему встречь — увидел Полторацкий — поплыл в темноте красноватый огонек. Затем огонек этот оказался на земле и пропал, снова послышались голоса, среди которых хорошо различим был уверенный голос Цангера. Павел Петрович говорил даже резко, но потом засмеялся, сказал; «Не дури, Алексей», — и вернулся к Полторацкому.
— Пойдемте, Павел Герасимович. И руку можете вынуть, ничего опасного. Гуляки и искатели острых ощущений, всего-навсего… Один из них у меня в батальоне ротой командовал…
Чертовщиной какой-то повеяло вдруг от Павла Петровича. Ну, в самом деле: в банке служит, в университете преподает, с жульем знаком коротко… и теперь-то уж совершенно яспо, что не случайно и совсем не для того, чтобы обезопасить себе путь по ночному городу, очутился рядом. Дальше шли молча, затем Полторацкий молвил:
— Странный вы человек, Павел Петрович…
Таких слов будто ждал от него Цингер и сразу же отозвался:
— Суть не во мне, Павел Герасимович, а в общей нашей привычке однозначно воспринимать людей. Человек вообще широк, а смотрим мы на него узко, да еще с пристрастием… да еще, простите, с недоверием, и каким! Непонятно — стало быть, и подозрительно… А в голову-то не придет, что непонятно только потому, что сам по себе, что от иных отличен, что на свою стезю выбрел и хотел бы по ней шествовать и далее… Что, может быть, себя преодолел и потому право получил подняться ступенью выше других… Что есть мысль заповедная, святая мысль, не столько в уме, сколько в сердце вызревшая, и ее ради готов и гибель принять без упрека. А, Павел Герасимович? Возможно такое?
Опять принялся сплетать и прощупывать Павел Петрович, и Полторацкий на сей раз решил отрубить, сказав определенно:
— По нынешним временам всего ценнее в человеке ясность.
— Свойство похвальное, — с сомнением сказал Цингер, однако утверждать свое и спорить не стал.
Они уже шли переулком Двенадцати тополей, ужо видели неяркий, робкий свет в одном из окон савваитовского дома, уже пора было им прощаться и расходиться, когда Павел Петрович, замешкавшись возле своей калитки, спросил неожиданно, нет ли у Полторацкого каких-либо новостей из Асхабада и все ли в том городе спокойно.
Опять понужден был он вспомнить и, вспомнив, дать волю тревоге. Но Павлу Петровичу ответил, разумеется, что все спокойно. Так оно и было на сегодняшний день, а что до тревог и сомнений, то это его, Полторацкого, печаль, и гражданину Цингеру в кителе со споротыми погонами знать о ней незачем. Выяснилось меж тем, что асхабадские дела Павла Петровича занимают по причинам сугубо личного свойства. Там жила сейчас его жена с детьми, мальчиками семи и двух лет, Цингер собирался к ним ехать, чтобы перевезти их в Ташкент. Иногда — ненадежная почта, чаще — более верная оказия приносили ему письма жены. В последнем было кое-что о Фролове… Попал в точку Павел Петрович: как ни устал Полторацкий, как ни тяготило его общество навязчивого соседа, все-таки уже из-за калитки спросил сухо: «И что?» А Павел Петрович рассказывал охотно (и эта его готовность рассказать плохое была особенно неприятна): вечером колесит по городу на автомобиле с зажженными фарами… некая особа лет двадцати постоянно ему сопутствует… а цель поездок, так сказать, инспекционная: не выбрался ли кто на улицу после десяти вечера… У жены Павла Петровича была в Асхабаде сестра, она видела…
По что именно видела сестра жены Павла Петровича, Полторацкий слушать не стал.
— Охота же вашей супруге на асхабадские сплетни бумагу переводить, — проговорил с неприязненным чувством, повернулся и по белеющей в темноте дорожке пошел к дому.
Но через собственное глухое сопротивление понимал, что неприязнь к Павлу Петровичу и его словоохотливой жене есть как бы отголосок другого чувства, которое народилось в нем нынешней ночью, заботами дня оттеснялось вглубь, давало о себе знать чуть брезжущим, но постоянным и тревожным холодком, а теперь, все прочее враз вытеснив, вдруг выросло и нещадно давило его. Он поднялся на высокое крыльцо, открыл дверь. Николай Евграфович Савваитов, хозяин, постукивая палкой, вышел навстречу.
— Что девочка наша, Николай Евграфович? — сразу спросил Полторацкий.
— Как нельзя лучше! У меня когда-то был ученик, Юсуф Усмансуфиев… он живет в Старом городе и сейчас сам преподает в местной школе. Замечательный человек, я вас с ним непременно познакомлю. Он взял Айшу к себе, она будет учиться… Мы к нему днями наведаемся, навестим вашу восприемницу — не правда ли, Павел Герасимович?
— Непременно. И — спасибо вам, Николай Евграфович…
— Ну, что вы! Я, правда, подумывал, не оставить ли девочку здесь — у меня, или, если хотите, у нас… Но вы человек сверх всякой меры поглощенный делами, а я — просто старый человек. Там, у Юсуфа, ей будет лучше… Вас ждут, Павел Герасимович, — оборвав себя, сказал Савваитов.
— Кто?
— Барышня вчерашняя… Я говорил, помните: Артемьева Аглаида Ермолаевна.
Полторацкий провел ладонью по лбу. Устал безмерно, барышня совершенно некстати… Но Савваитов, близко к нему наклонившись и пощекотав щеку серебряной своей бородой с неожиданными рыжими нитями в ней, прошептал:
— Дело серьезнейшее… вы уж, пожалуйста, Павел Герасимович.
А за его спиной, тихо выйдя из кухни, появилась и сама Аглаида Ермолаевна Артемьева и молча встала, прислонившись к дверному косяку и пристально, даже сурово глядя поверх плеча Савваитова Полторацкому прямо в глаза. Была она для своего невысокого роста чуть полновата, плечи ее были несколько широки, вся фигура ее как бы тяготела к земле — меж темкак в глазах, с пристальным, даже суровым вниманием обращенных к Полторацкому, ясным светом сияли чистые синие небеса. Дыхание его пресеклось, он вздрогнул и тут же, испугавшись, что все это Савваитовым и, самое главное, ею будет замечено, сказал поспешно:
— Я вас слушаю…
— Но не здесь же… не здесь, Павел Герасимович… — заговорил Савваитов, отчего-то волнуясь. Он вообще производил впечатление человека, буквально сию минуту пережившего сильнейшее душевное потрясение, что отражалось в его движениях, непривычно суетливых, в речи, теперь неотчетливой и какой-то сбивчивой, во всей повадке Николая Евграфовича, в которой угадывалась ужасная растерянность. — Не в прихожей… не подобает… Можно ко мне, если хотите…
По-прежнему молчала Аглаида Ермолаевна, и Полторацкий, совсем смешавшись, пробормотал:
— И ко мне можно… Пожалуйста…
— Конечно, конечно! — неизвестно чему обрадовался Савваитов и кинулся в кухню за лампой, на ходу приговаривая: — Свет… нужен свет…
Лампу он принес, поставил на стол, и сели втроем — Аглаида Ермолаевна оказалась как раз против портрета задумчивого юноши в черной косоворотке — сына Николая Евграфовпча.
— Может быть, чаю, Павел Герасимович? — уже оперся на палку, готовясь подняться и услужить, Савваитов. — Мы с Аглаидой Ермолаевной, вас поджидая, пили… И, знаете, я суп сегодня варил! Как только вы ушли… мне из Старого города доставили баранину… превосходную баранину!
— Потом, Николай Евграфович…
— Да, да… вы правы… — растерянно сказал Савваитов и, вопросительно взглянув на Аглаиду Ермолаевну, проговорил: — Дело вот какого рода…
— Спасибо, Николай Евграфович, я расскажу все сама, — вдруг вспыхпув, сказала она. — Мой брат… — тут голос ее задрожал и осекся, слезы стали быстро скапливаться в углах глаз, и одна уже готова была скатиться, но Агланда Ермолаевна успела приложить к лицу платок, опустила голову и замолчала.
Савваитов, страдальчески сморщившись, сказал:
— Ну, голубушка… ну, будет вам… будет…
— Простите, — вскинув голову и прямо взглядывая па Полторацкого глазами, мягко блестящими от непролитых слез, проговорила она. — Но я… но мы с мамой уже надежду потеряли всякую… Мы всю войну… три года его ждали… молились, чтобы он жив остался, и вымолили! А теперь его убьют, непременно убьют, если только вы не поможете! Я прошу вас, — прижав руки к груди, низким голосом вдруг сказала она, — все, что хотите! Но помогите… Ради Христа — помогите!
Савваитов мягко тронул ее за плечо.
— Голубушка, Аглаида Ермолаевна, да вы расскажите Павлу Герасимовичу, в чем у вас к нему дело… Эдак ведь и понять ничего нельзя.
— Да, — послушно кивнула она. — Мой брат, Михаил Артемьев, пять дней назад приговорен к расстрелу…
Теперь она говорила даже чересчур сжато, очевидно опуская многие подробности, и Савваитов, успевший узнать историю ее брата, Аглаиду Ермолаевну порывался дополнить, для чего несколько раз откашливался, готовился вступить, но в итоге сникал и лишь тихонько пристукивал палкой об пол. Выходило же по ее словам вот что. Брат Аглаиды (так, про себя, опуская отчество, называл ее Полторацкий и прислушивался и дивился строгому имени), Михаил Артемьев, в апреле семнадцатого года осколком немецкого снаряда ранен был в голову, попал в госпиталь, где и пролежал три с лишним месяца. С великими трудностями удалось врачам вернуть ему речь, но и по сей день говорит он плохо, с длинными паузами, и заикается. Мы думали, что это и есть самое большое его несчастье, быстро сказала Аглаида, что это помешает ему жить… Однако мы ошибались.
С возвращением брата жизнь Артемьевых (кстати говоря, почти соседей Савваитова, занимавших неподалеку, на Чимкентской, собственный дом) поначалу несколько переменилась, напряжение появилось в ней, как это и бывает обыкновенно из-за присутствия не вполне здорового человека. Первое время, привыкая к тишине отчего дома, Михаил Артемьев был неспокоен, угрюмо-задумчив, во сне часто и страшно вскрикивал, и Александра Апдреевпа, мать и глава семейства, всю войну усердно молившаяся богородице о спасении сына, теперь просила ее о здравии… К материнской ли молитве снизошли небеса, либо отогрели родные, все помнящие стены, по постепенно утих, успокоился он, и глаза его утратили выражение напряженного ожидания, с каким прежде всматривались в мир. Насущные нужды стали занимать его, и прежде всего — как жить? Как существовать при нынешних сумасшедших ценах и почти ничего не стоящем рубле? Тут Аглаида, вспомнив, вероятно, что рассказывает не кому-нибудь, а комиссару нового правительства, чуть призапнулась, но Полторацкий не повел и бровью, и она продолжала… Тем более, что с некоторых пор доходы Артемьевых заключались по сути лишь в пенсии, которую получала мать за отца, штабс-капитана, тринадцать лет назад мартовской ночью заколотого японским лазутчиком под Мукденом; Аглаида преподавала английский, но гимназию, где она работала, в начале года закрыли, теперь приходится ей перебиваться случайными уроками; есть еще сестра, Людмила, младшая… три месяца назад вышла за инженера Саркисова и жила на квартире мужа… Словом, история самая заурядная. Тут даже истории, собственно, никакой нет, а так просто: жизнь. И никогда бы не стала Аглаида посвящать в нее постороннего чоловека, не рискнула бы в столь поздний час у него, усталого («Я вижу, что у вас уже и сил нет, но бога ради, потерпите немного!» — сказала она, и мягким жаром повеяло вдруг в груди у него), отнимать время, если бы не трагический ее исход… Пока еще не вполне исход, поспешно поправилась она, пока еще надежда теплится… Но ведь это ужасно… ведь это ни на что не похоже — расстреливать человека только за то, что он продал свой револьвер! Он это и не таил нисколько, он сам признался, остальные же обвинения совершенно не доказаны! Да: брат Агланды, как ни скрывали от него семейные нужды, все понял, исчезповение некоторых вещей из дома навело его на мысль, что Александра Андреевна и Аглаида не в силах свести концы с концами. Он принялся устраиваться на службу. Но кому он был нужен, о господи! Ходил и в Александровский парк, на биржу — а там на тысячу с лишним ищущих всего десяток-полтора мест. В Александровском парке и встретил он человека, который ни за что взял и погубил его… Да, Да — ни за что! — так воскликнула Аглаида, и глаза ее приобрели предгрозовой темно-серый оттенок. Ее брат с этим человеком учился в Оренбурге, в кадетском корпусе… Его фамилия Калягин, он тоже арестован и приговорен за нападение на артиллерийский склад, во время которого смертельно ранен был часовой, за скупку и перепродажу оружия, но всего лишь к пяти годам заключения… Он вывернулся, он спас себя и оболгал, погубил брата Аглаиды, приписав тому главенствующую роль во всем этом деле! Он убийцей представил Мишу, и ему поверили… Короткое рыдание вырвалось при этих словах у Аглаиды, губы ее задрожали, и совершенно по-детски, горестно наморщился подбородок. А ведь весь грех Михаила лишь в том и состоял, что он доверился Калягину… некоторое время был с ним… продал ему привезенный с фронта маузер с тремя запасными обоймами… Никогда не приносил в дом денег брат Аглаиды, а тут принес, и сразу семьсот рублей! Он ведь страдал ужасно от того, что он, мужчина, ничем не может помочь матери и сестре. Эти семьсот рублей словно бы камень с его души отвалили, правда!
— Вы мне не верите, — сказала Аглаида. — Клянусь вам… У нас и свидетели есть… Оскоцкий, он социалист, республиканец, он хорошо знает брата и вам скажет, что на дурное дело Миша не способен… Оскоцкий в тот вечер его видел. Иваньшин Александр Александрович, он вместе с Мишей воевал, сейчас служит на железной дороге… Он показания дал, что Миша допоздна у него был…
— С Оскоцким я немного знаком, — решился и вставил все-таки Савваитов. — Он пропагандист этого глупого языка… эсперанто, но в остальном человек вполне порядочный.
Николай Евграфович хотел сказать что-то еще, но, взглянув сначала на Аглаиду, а затем и на Полторацкого, замолчал и застыл в излюбленной своей позе — со склоненной головой и сомкнутыми на набалдашнике палки руками.
— Вам кто посоветовал ко мне обратиться? — после затянувшегося молчания спросил Полторацкий.
Совсем, впрочем, не имело значения, кто именно указал на него Аглаиде. Но в их молчании стало ощущаться уже нечто тягостное — как бы от предчувствия, что Аглаида просила напрасно и ее брат обречен. Подробностей дела Полторацкий не зная, но суть помнил отчетливо. Там выяснились связи и намерения для республики самые опасные… Из Ташкента в сундуках с двойным дном, между пружин каких-нибудь клоповых кушеток, в телегах с весьма хитрыми тайниками везли гранаты, винтовки… даже пулеметы везли, за которые «Кокандская автономия» и Иргаш платили по двадцать тысяч. Дело серьезнейшее! Убили часового, пожилого человека… осиротили детей, их у него четверо осталось… Калягин, она говорит, вывернулся, свалил на ее брата, но в конце концов Калягин ли (маленький, с очень быстрыми, юркими глазами и пухлым, несколько женским лицом), брат ли Аглаиды, — убили и пытались вывезти оружие они. Он глянул на Аглаиду с неприязнью: когда они часового жизни лишали, о детях его не думали… Вдова со всеми четырьмя приходила к нему, просила о пенсии. Мальчику самому маленькому три года, его малярия трясла, он плачем захлебывался у матери на руках…
Внимательно, будто в первый раз, но уже без всякого смущения, напротив, даже с излишней пристальностью посмотрел он на Аглаиду. Теперь она смешалась под его взглядом и быстро, все комкая, объяснила, что есть у нее знакомая… Ксения Тарасова… служит в комиссариате труда… она-то и дала ей добрый совет искать помощи у Полторацкого.
— Она о вас говорила очень хорошо, — прибавила, робко улыбнувшись, Аглаида. — Говорила, что вы все поймете и непременно поможете.
Саввантов кивнул одобрительно.
— Разумеется! — произнес он даже с гордостью, словно иначе и быть не могло, и другой, менее достойный человек в его доме никогда бы не поселился.
Они теперь, про себя невесело усмехнувшись, подумал Полторацкий, ждут от него твердого обещания непременно заняться и Михаила Артемьева от расстрела спасти. Он ей брат, у нее сердце разрывается, а Николай Евграфович по доброте своей ей сострадает. Но сразу же и с изумлением отметил Полторацкий, что и ему больно видеть, как дрожит и морщится ее подбородок, как наполняются слезами глаза и как приобретает умоляюще-скорбное выражение ее лицо. Вообще, была какая-то удивительная, почти пугающая странность в том, что лицо Аглаиды, в едва заметной россыпи веснушек, особенно глаза ее с их ясным светом доброты, строгости и печали, казались ему несомненно, до жаркого стеснения в груди знакомыми, очень близко знакомыми, словно давным-давно, может быть, с самого рождепня, наделен он был знанием об этой женщине и предчувствием непременной встречи с ней. Она сама отыскала путь к нему, не вполне, правда, по собственной воле, но ведь пришла, сидит сейчас подле него, и он волен смотреть на нее, с каждым взглядом все крепче утверждаясь во внезапной своей догадке, что ее-то и ждал, что обвалы и потрясения времени не заглушили в нем тайной надежды, хотя наружно давно уже махнул он рукой: не суждено, знать! Он помрачнел. Брат ее — белая гвардия, враг, это ясно. Быть не может, чтобы похож он был на нее. Он вместе с Калягиным (их целая группа была: восемь человек) оружие поставлял туркестанской контре… Не их ли винтовочки в Асхабаде постреливали? В сей же миг опять возник перед ним Андрей Фролов и темным пристальным взором, хмуря тонкие брови, на него взглянул как бы несколько свысока, словно сказать хотел: что ты обо мне понимаешь и что ты судишь меня, в Ташкенте сидючи?
Он перевел дыхание и, прикрыв глаза ладонью, проговорил медденпо:
— Я с этим делом знаком немного… Трибунал разобрался… решил. Там все доказано. Мне ваше горе понятно, я вам сочувствую… но вмешательство мое бессмысленно. Да я и вправе себя не считаю вмешиваться…
— Павел Герасимович! — потрясенно вскрикнул Савваитов. — Тут ошибка, явная ошибка, она жизни будет стоить! Вы должны… обязаны… вы полное право имеете вметаться и поправить, пока не поздно! Как! — с неожиданной резвостью поднялся он со стула. — В ваших возможностях спасти человека, восстановить справедливость, в вы предпочитаете умыть руки… Мне старость моя не позволяет фальшивить, и я скажу, что у меня о вас иное мнение было, Павел Герасимович!
Полторацкий поморщился. Немного значило для него сейчас мнение Савваитова. Неизмеримо важнее было то, что он знал совершенно точно — эта его встреча с Аглаидой первая и последняя. А Николаю Евграфовичу ответил:
— Поменьше горячности, побольше рассудка. Тут сразу два преступления — против человека и против республики…
— Мой брат, — едва выговорила Аглаида, — не совершал преступлений… он не преступник…
Она быстро бледнела, веснушки на ее лице делались заметней.
— Я воды принесу! — шагнул было к двери Савваитов, но она остановила его, окрепшим голосом сказав:
— Не волнуйтесь, Николай Евграфович, я в обморок падать не собираюсь. Мне только стыдно… перед самой собой, перед мамой, перед братом моим стыдно, что я пусть даже на секунду самую крошечную поверить смогла, будто у этих людей есть понятия о добре, справедливости и милосердии…
— Но ведь вы, Аглаида Ермолаевна, именно ко мне… одному из этих людей… и пришли за справедливостью и добром…
Но что были ей тихие его слова!
— Да вы просто жестоки! — говорила она, глядя на него, — с похолодевшим, отчаявшимся сердцем увидел он, — не с гневом, что было бы еще не столь безнадежно, ибо гнев есть чувство непостоянное (хотя какие ожидания, какие надежды! — тут же уличил он себя в мгновенной и совершенно безосновательной мечте), а с презрением, которое как бы впитывается в кровь и оттого сохраняется надолго. — Для вас жизнь человеческая ничего не значит… Господи! Недаром… недаром я идти сюда не хотела… Только через великую силу пошла! Просить… унижаться… Перед кем?! Брат, если б узнал, мне не простил бы…
Тут запылало и в нем.
— Это… как… же… — хрипло вымолвил он, с немалым трудом выталкивая слова из пересохшего горла. — Может, тогда и часового при складе не ваш братец с компанией своей на тот свет отправил? Милосердия и справедливости! А у того часового детишек четверо осталось, — вы что ли кормить их будете? Доброты, значит, желаете, Так отчего ж только от нас? Отчего у брата у вашего даже и мысль не пробилась, что, может, не стоит Калягину оружие продавать? Ведь не на стенку же вешать покупал у него маузер Калягин! Он стрелять… он убивать собрался, и брат ваш ему первым помощником стал! Вот как, Аглаида Ермолаевна, получается… Поаккуратней бы вам следовало поэтому с добротой и милосердием…! Я вам даже больше скажу, — продолжал он с внезапным мучительным восторгом и как бы на веки вечные, окончательно и бесповоротно, свергая себя в прежнюю свою; жизнь, где не было и никогда уже не будет женщины с ясными глазами Аглаиды, — скажу, чтобы вы поняли… Революция должиа уметь за себя постоять, ей иначе не выжить. Вы мне на это ответите, что невинные гибнут. Нет, Аглаида Ермолаевна! Вполне невинные не гибнут даже сейчас, хотя времена наши смутные… тяжелые времена… Гибнут враги… или те, кто назавтра врагом станет. Уж лучше тут ошибиться… — со слабой улыбкой вымолвил он, — лучше тут, как ни страшно это, — упрямо повторил он, — чем допустить, чтоб революцию умертвили.
Отвращение ясно проступило на ее лице. Она встала и, ни слова не говоря, вышла из комнаты, и вслед ей, осуждающе покачивая головой, двинулся Николай Евграфович. С тихим скрипом закрылась за ним дверь.
Поднялся и Полторацкий и зачем-то, словно намереваясь их догнать и вернуть, шагнул к двери и даже за ручку взялся, но, постояв так, разжал пальцы, сразу сделавшиеся влажными, повернулся и тут же встретился взглядом с задумчивыми глазами печального юноши в черной косоворотке — сына Савваитова. «Вот так», — покивал ему Полторацкий, быстро разделся и лег, намереваясь сию же секунду заснуть мертвым сном. И в самом деле, — сознание его начало цепенеть сразу, в тот же миг, едва коснулась подушки голова; но уже из блаженной густой теплой темноты вдруг выплыла одна мысль… Он открыл глаза и несколько секунд ошеломленно глядел прямо перед собой, на стену, чуть освещенную падающим из окна светом полной луны. Это даже не мысль была, а воспоминание и поначалу довольно смутное. Звук шагов как бы послышался ему вновь— с крыльца савваитовского дома, затем по дорожке, мощенной камнем, и дальше, прерванный бряканьем щеколды и скрипом открываемой калитки, в сторону Туркестанской, по переулку… Сомнений быть не могло: к себе на Чимкентскую Аглаида отправилась одна, Савваитов ее не провожал! Да если б и пошел с ней — какой в случае чего от старика толк? Ему, Полторацкому, надлежало быть с ней рядом в ташкентской, полной всяческих опасностей ночи! Но сразу же и безнадежно откликнулось: никогда, ни за что бы не допустила… «И ладно, и хорошо», — растравляя себя, со злым чувством подумал он, однако, едва вообразив, что, может быть, сейчас, в эту вот самую минуту, останавливают ее ночные забавники, не страшащиеся покуда неокрепшей руки новой власти, — он приподнялся резко и с колотящимся сердцем вслушался. Тончайшим звоном наполнилась тотчас жаркая тьма за окном, в тишине и мире проходила ночь, без криков, выстрелов и тревожной сумятицы… Он вздохнул успокоенно, припомнив кстати, что до Чимкентской отсюда рукой подать. Домой уже пришла Аглаида… Но не любить ему никогда и любимым не быть!.. Горько стало ему, но в этой горечи оказалась вдруг и отрешенность от себя… И себе в утешение осторожно, как бы на ощупь, можно было вообще усомниться в достижимости счастья, ему тем более совершенно заказанного. В конце же концов, если верить, что всегда сопутствует счастью боль, что они нераздельны, то он, стало быть, истинно счастлив — той болью, которая охватывает все существо его при мысли об Аглаиде.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |