"Искатель. 1982. Выпуск №4" - читать интересную книгу автора
Сергей АБРАМОВ ДВА УЗЛА НА ПОЛОТЕНЦЕ
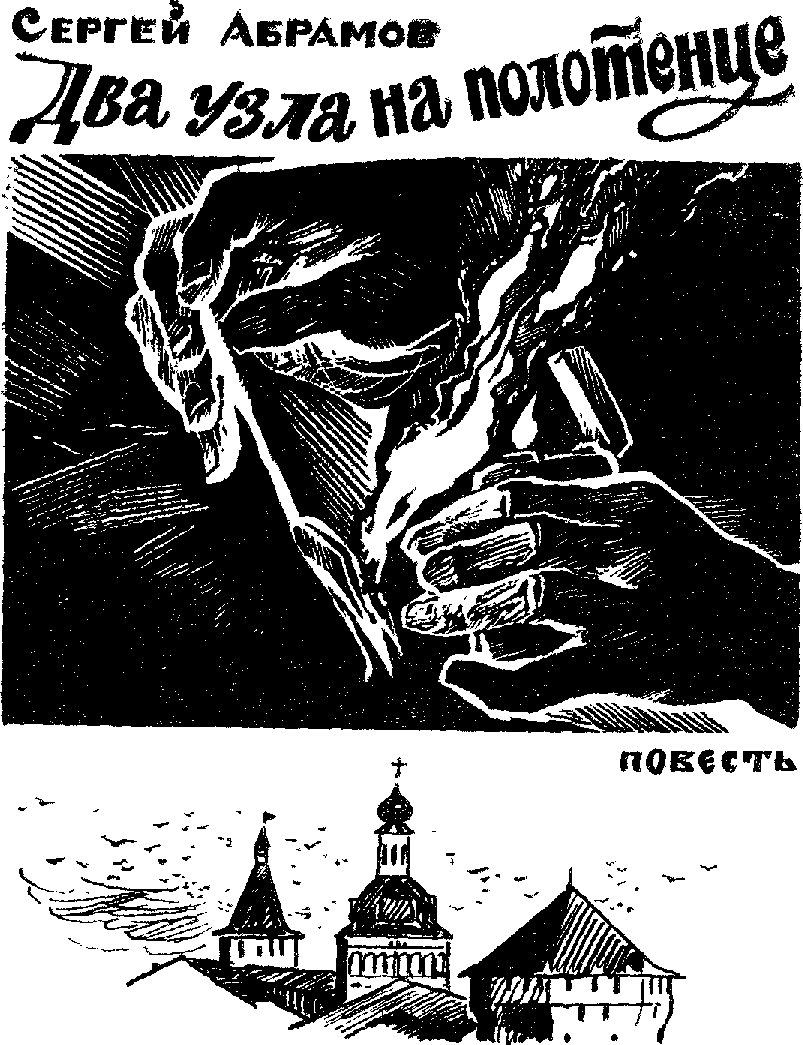 |
Дом этот действительно старый, построенный еще в начале века, одноэтажный и односемейный, стоял на выселках в Заречье, где доживали свой век заштатные соборные клирики. Сложили его давным-давно из корабельного леса шестивершковой толщины, и выглядел он старик стариком. Только несколько бревен под крышей, видимо подгнившие, были заменены так, что старик этот красовался щеголем, напялившим на лоб не по возрасту светлую шляпу.
Окна по фасаду были распахнуты, и из них доносилось на улицу негромкое жужжание электродрели.
Михеев сверлил стену, стоя на стремянке. Востоков внизу придерживал лестницу.
— Насквозь, — вздохнул Михеев, вынимая из дерева сверло. — Третью дырку буравим, и хоть бы что. Никакого следа металла.
— Можно еще раз простучать, — сказал Востоков. — Ведь бревна изнутри дубовыми досками обшиты. Так что тайник до потолка можно оборудовать.
— Сказка это твое «сокровище».
— Будем точны, Василий Иванович: легенда. А когда легенда оборачивается былью, нужен поиск. Куда эта ведьма могла клад засунуть? Сколько лет ищем — в доме нет. В земле у дома или под домом? Так она дар своего попа в землю не спрячет. Земля — для мертвых. Земля еси и в землю отыдеши. Значит, в стене, где бревна перекладывали. В таких бревнах да еще в дощатой набивке лучше всего тайник оборудовать Тем более не задаром, для церкви. Какой плотник жене протопопа откажет?
Михееву сверлить не хотелось В протопоповский клад он не верил. Уголовный розыск клады находит, а кладоискатели нет. Да и не окрутила ли их старуха? Ей что? Лишь бы Христу угодить.
— Поживем всласть, когда ценности из стены вынем, — сказал Востоков, — А что они там есть, у меня документ имеется. Читал ее письмо протопопу?
— Это не я читал, а ты вслух трубил.
— В чужие руки таких документов не дают. Слушай еще раз внимательно: «Дар бесценный твой, отец, сама Катерине отдам, когда вырастет и созреет, и коли в хорошие руки попадет, когда замуж выйдет. Только крута она нравом: в тебя пошла, отче. Девчонка она еще, а матери так и выложила, не ищи жениха мне, мать, сама найду, кто приглянется. Я смолчала, только запомнила и решила, что надо ждать. Славно все-таки, что ты о девчонке позаботился, а не о недоумке своем, что в колонии сидит. Только меня сумление берет, угоден ли дар твой господину богу нашему: очень высоко, говоришь, его оценили — большой урон для власти мирской будет. Вот я и подумала пока держать его ото всех в тайне. Спрячу наглухо в стенке. Плотник Ефимыч такой тайничок мне вырезал: ни глазу постороннему, ни лапам чужим не добраться. Сто лет проживет, если сама не выну». Ну а дальше ерунда пойдет, сплетни семейные, — заключил Востоков. — Ты, Василий, поторопись, а то теща соизволит с обедни вернуться. Время — деньги, это про нас сказано. Сверли, пока не досверлишься.
И досверлил: дрель металл нащупала…
— Останови, — сказал Востоков.
— Неужто золото?
— Может, и серебро. Я же тебе говорил, что золотая утварь тоже была. Специально хранилась для особых служений, когда, скажем, наезжий митрополит всенощную или обедню служил. Да и на сабашниковских иконах золотые ризы были.
— Это ж какие такие сабашниковские? — удивился Михеев.
— Был такой купец при Николае Втором. Так он здешнему собору иконы только в золотых ризах дарил. Отец рассказывал. А после революции было изъятие церковных ценностей. Вот я и думаю, что папахен мой, как настоятель собора, к этому золотишку руку вовремя приложил. И ценности сдал, и себя не обидел. А письма тещи твоей и моей мачехи мне на днях вернули в соборе. Золотили иконостас, а под образом в золоченом окладе тайничок с письмами. Среди них я и нашел счастливый для нас документик.
У Михеева в васильковых его глазах, из-за которых незамужние девки когда-то передраться готовы были, засветился огонек ее интереса, а страха, пожалуй. Рассказанное Востоковым его явно обеспокоило.
— Что стоит твой документик, если по всему церковному причту его назубок выучили?
— Ни-ни, — покачал головой Востоков. — И отец давно умер, и старых клириков почти не осталось. А новых не занимают сердечные дела покойников. Да и старичок реставратор, как нашел письма, так мне их и передал: увидал меня в окно, когда я проходил мимо. Все ведь знают, чей я сын и кого могут заинтересовать эти письма. К тому же лежалые, нетронутые, резиночкой перетянуты, а на запылившемся верхнем конверте крупными буквами выписано:
— Так-то оно так, — усмехнулся Михеев и почему-то подмигнул собеседнику: — А ты к чему? Чужая собака к ничьей косточке тянется. Только косточка не для нее припасена. Наследство-то Катьке оставлено.
— Было оставлено. А сейчас без меня вам делить его не удастся. Мой пай — половина. По-честному. А не согласны — государству отдам.
Тут-то и вернулись домой Марьяна с дочерью, не достояв ранней обедни в соборе. Марьяна уже не пела в хоре, давно потеряв голос, пела Екатерина, усвоив навыки матери и ритуал утренних и вечерних церковных служб. Но в этот день она подпевать не могла: сорвала голос.
Возвращение жены и тещи Михеева застало обоих врасплох. Михеев едва со стремянки не упал, даже дрель не успел спрятать. Востоков тоже смутился. Но именно с него и начала свою язвительную увертюру Марьяна.
— Что-то я не звала тебя в гости. Ты на черном ходу живешь и черным ходом к себе пройти можешь.
— Значит, по-вашему, я и к Василию зайти не могу? — с отменной вежливостью заметил Востоков. Андрей Серафимович не любил скандалов и давно знал, чем может окончиться разговор с полоумной бабой. А она не унималась:
— У Василия своя комната есть, а ты у меня гостишь, родственничек. В моей комнате. Может, оценить мои вещи пришел, товарищ оценщик? Так ваша комиссионка на них не позарится, да и я продавать не собираюсь.
— Я попозже к тебе зайду, Васёк, — сказал Востоков и, не прощаясь, вышел.
Наступило неловкое молчание. Поступь главы семьи и хозяйки дома была тяжелой.
— Что это у тебя в стене торчит? — спросила она зятя.
— Сверло застряло. Там металлическая прокладка, должно быть.
— Зачем сверлил, херувим? Спрашиваю.
От неловкости у Михеева даже лицо вспотело. Он действительно походил сейчас на потолстевшего ангела.
— Зачем же так с родней разговаривать, Марьяна Федоровна?
— Федоровна, — поправила она с ударением. — Что вы искали с Андреем, я догадываюсь. Так вот послушайте, — прибавила она с вызовом. — Эта «металлическая прокладка» останется в стене до моей кончины. А если вы изымете ее вопреки воле моей, я тут же извещу уголовный розыск. Государство сумеет о сем озаботиться.
Андрей и Василий, заранее сговорившись, встретились в кафе, где водки не подают. Для трезвого разговора «сухой закон» требуется.
— Разговор у нас длинный будет. И трудный. Его сивухой не облегчишь.
— Что ж, послушаем.
— А задумывался ли ты, Васек, как мы с тобой дальше жить станем? Ты до пенсии будешь тянуть физкультуру в школе, если мускулы к шестидесяти не ослабнут, а я оценивать мебель в комиссионке. Зарплату нам не прибавят, а выгнать могут, если проштрафимся. Деньги со сберкнижки мы распылим, новых сбережений не вложим, что ж останется? Играть в спортлото до получения сокровища после смерти твоей Кабанихи? Только она, по-моему, умирать не собирается. Может, с тещей твоей в открытую поговорить, без ругани, по-хорошему? Вдруг снизойдет?
— Не снизойдет. Катька вчера уже пробовала.
— И как?
— Никак. Дар протоиереев, мол. дар опасный, богом не освященный, государству противный. А что за дар, не говорит.
Помолчали. Подумали. Каждый по-своему, понимая, что надо искать клад умеючи, с воображением, с выдумкой.
— Вот что, Васёк… а не приходила тебе в голову мысль о том, что это препятствие можно и устранить?
— Приходила. Только риск большой. Страшновато
— А ты помозгуй. Конечно, зверь баба, вся улица знает. Только отец с его иезуитской хваткой и мог с ней совладать. И вот что может получиться: значит, поссорились. Вошла колом в горло слепая ярость. Не сдержался — и нокаут, как говорят у вас на ринге.
— Что, что?
— Конец по-латыни. Преставилась. С одного удара.
— Это с твоего-то удара?
— Почему с моего? Я боксу не обучен.
— Значит, мне — в тюрьму, а ты с кладом останешься?
— Клад в стене будет до твоего возвращения. Катерина проследит. А ты сразу с повинной. Ну, посидишь малую толику. Неосторожное убийство. Суд все учтет: и добровольное признание, и отличную характеристику с места работы. Плюс зачет срока следствия и хорошее поведение в колонии. Больше года не просидишь.
Еще помолчали. Один — нахмурясь, с опущенными глазами, другой — с настырным, обжигающим взглядом.
— С одного удара, Андрей, даже на ринге не выйдет.
— А ты зажми в кулаке что-нибудь металлическое. Хотя бы медную наковалешку с комода. Будто сгоряча схватил что под руку подвернулось. Ты с Катериной поговори предварительно. Усек?
…Михеевы спали на широкой двуспальной кровати, еле втиснутой в четырехметровой длины пенальчик, как называл Василий свою комнатку, выкроенную из большой трехоконной комнаты тещи. Но в эту ночь ему не спалось. Разговор с Бостоновым щемил сердце.
— Ты так ворочаешься, что всю простыню из-под меня вытянул, — проворчала жена.
— Задумался.
— О чем?
— Так, всякая муть в голову лезет.
— А тебе идет: строгий ты с лица в задумчивости. Не зря тебя мать херувимом зовет.
— Я ведь о ней все время и думаю. Вот она где у меня сидит. — Михеев показал на горло.
— Не канючь, — остановила его Катерина. — Я тоже с характером и тебя ей в зубы не дам.
Михеев растерянно посмотрел на жену. Говорить или не говорить? Все-таки старуха ей — мать родная. Связь кровная, а о том, чего Андрей добивается, даже вслух произнести не решишься.
— Ты о кладе поповском забыла, Катя?
Катерина вздохнула уступчиво — без надежды, даже без сожаления. Будто смирилась с необходимостью ждать.
— Клад у нее в стене замурован. Отдать его нам она не захочет. А силой возьмешь — государству выложит, как пригрозила. Вот ты в безбожниках ходишь, а я верующая. И как верующая скажу, блаженны нищие духом. Только блаженства у нас давно нет, обнищали мы духом, ни воли его, ни силы убеждения уже не осталось. А ведь отец, бывало, одним словом мать укрощал, а мы, нищие духом, только казнимся. Терпеть да ждать — вот наш удел, Василий.
Нет, думал Михеев, рассказать ей о черном замысле никак невозможно. Придется стерпеть эту муку-мученическую в одиночку, пока терпится. Что такое нокаутирующий удар — он знает. Лежишь на полу, а судья над тобой всю роковую десятку отсчитывает. Можно и совсем не встать — как ударить. Он всегда помнил об этом, когда ходил в тяжеловесах и не помышлял, что станет когда-нибудь рядовым учителем физкультуры.
А если рискнуть? С одного удара, без предварительной подготовки. Размахнись, рука, раззудись, плечо. Чистенькое неосторожное убийство. Ни одна живая душа, кроме Андрея, знать не будет, что оно спланировано. А не выйдет, так не выйдет. Пусть Андрей додумывает.
Михеев погасил ночник и закрыл глаза.
Отверстия, высверленные электродрелью в двойных стенах дома, снизу не видны и не замечены никем из присутствующих. А присутствуют многие — во главе со старшим инспектором капитаном милиции Саблиным. Они сидят здесь уже второй час, заканчивая первые протоколы допросов по делу. Те то убитой уже отправлено в морг.
По словам ее дочери, убийство произошло в одиннадцать утра, что и подтверждено медицинским экспертом во время осмотра трупа.
— Смерть, судя по ссадине на виске, — сказал врач, — последовала от удара кулаком, нанесенного убийцей с большой силой. Об этом же свидетельствуют и сбитая кожа на сустава к правой руки убийцы, и запекшаяся кровь на его пальцах. Это удар боксера-тяжеловеса, который в данном случае оказался смертельным.
— Все отпечатки пальцев в комнате принадлежат троим: убитой гражданке Вдовиной. ее дочери и обвиняемому в убийстве Михееву, — сказал эксперт-трассолог. — В комнате у черного кода — она сейчас заперта — проживает еще один член семьи убитой, Андрей Востоков, оценщик комиссионного магазина на Белой горке.
— Как свидетель Востоков пока отпадает: его не было дома во время убийства, — резюмирует Саблин. — Пригласите Михеева.
Входит Василий. Он испуган и удручен. Облизывает сбитую кожу на пальцах.
— Я же вам объяснил все.
— А мы сейчас это и запротоколируем, — откликается следователь прокуратуры. — Повторите, как все это произошло.
— Все началось со ссоры.
— Из-за чего?
— Мы тратим сто пятьдесят на стол. Я с женой вношу сотню, а она добавляла пятьдесят. Сегодня же утром вдруг отказалась больше тридцатки, говорит, не дам. Я, мол, и ем меньше, и разносолов не требую. Убеждаю ее как умею, у меня, говорю, все подсчитано, а она свое. Зверь баба.
— А дальше?
— Говорю же: зверь баба! С кулаками на меня… Ну, меня как повело, в глазах помутилось. Замахнулся с плеча, стукнул, она и упала… Сначала решил: притворяется. А Катерина к ней бросилась, кричит: убил, убил! Не смотрел я, куда ударил, а оказалось — по виску попал. — Михеев всхлипнул, растерянно осмотрел свой кулак. — Ручищи-то у меня… Забылся… — Он опять всхлипнул, что странным казалось: бугай здоровый, а чуть не плачет. — Виноват, крутом виноват, А все характер дурацкий. Катерина сколько раз твердила: сдерживай себя, дурак, сдерживай… Вот и сдержал.
Следователь прокуратуры Глебовский приглашает жену Михеева. Она сквозь слезы подтверждает все сказанное мужем.
— А не было ли у него корыстных побуждений? — спрашивает Глебовский.
— Не понимаю.
— Ведь ссора-то произошла из-за денег?
— Василий считал, что все члены семьи должны вносить на жизнь поровну.
— Может, у вашей матери были солидные сбережения?
— Ну какие же заработки от пения в церковном хоре? Да и покойный муж ей почти ничего не оставил.
— У меня больше нет вопросов, — заключил Глебовский. — Других свидетелей, видимо, тоже нет.
— Есть, — говорит Саблин и обращается к участковому. — Введите гражданку Хижняк Марию Антоновну.
Входит немолодая некрасивая женщина с большой рыночной сумкой. Глебовский берет новый бланк протокола, заполняет паспортные данные, спрашивает:
— Каким образом вы оказались свидетельницей убийства? Вас же в комнате не было.
— Я мимо на рынок шла, а окна у них были открыты. И они так кричали, что на другом конце улицы было слышно.
— О чем же они кричали?
— Ругались, как на базаре. Всячески обзывали друг друга. В три голоса орали: две бабы, один мужик. Я постояла, послушала, да разве поймешь, когда люди собачатся.
— Все-таки постояли и послушали. Что же дошло до вас?
— Брех один. Шурум-бурум семейный. Они что-то хотели от старухи, а она отругивалась. Какую-то мелочь требовали: не то десятку, не то двадцатку. А потом мужик старуху по морде как звезданет! Она сразу бряк на пол. Молодка нагнулась к ней, потрясла ее, по щекам похлопала и кричит мужу: «Ты убил ее, Васенька!» Тут я нашего участкового увидала: навстречу по улице шел. Он разобрался во всем и задержал меня как свидетельницу. Вот я и сижу здесь второй час, не обедамши.
— Ничего не добавите?
— А что добавлять, ругань? Хотя погодите: словечко одно неподходящее слышала — «сокровище». Это старуха сказала, а к чему, не помню.
Екатерина Михеева, уже уходившая и остановившаяся в дверях, немедленно откликается:
— Это мать так о Василии говорила: «Убила бобра, Катька: нашла сокровище».
Служебные совещания начальник уголовного розыска подполковник Князев любил проводить с утра, поэтому дело Михеева после его ареста обсуждали на следующее утро, когда заключения экспертов и протоколы первых допросов обвиняемого и свидетелей были уже в папке, поименованной как «Дело об убийстве гражданки Вдовиной Марины Федоровны». Да и следователь прокуратуры не торопился с расследованием: слишком уж ясным казалось ему это дело.
Подполковник не терпел опозданий, и с утра все были на месте: оба эксперта — врач и трассолог, следователь прокуратуры, два инспектора угро, Саблин и Веретенников, и секретарь-стенографистка Верочка.
— Дело я просмотрел, — начал Князев, перелистав немногочисленные его страницы. — Все проведено, по-видимому, вполне добросовестно. Я говорю о предварительном расследовании…
— Ошибки потом обнаружатся, — сказал Саблин.
— Вы думаете, они допущены?
— Бывали случаи.
— Дело поручено вести мне, — вмешался Глебовский, — и никаких ошибок я не вижу. Обыск сделали. Свидетелей и задержанного Михеева допросили. Экспертизу провели. Соседи Михеевых утверждают, что скандалы в доме и раньше бывали. И до рукоприкладства дело доходило: Михеев вообще сдержанностью не отличается… Михеева показывает: он замахнулся, а старуха отшатнулась, так что удар неожиданно в висок и пришелся. А Михеев — бывший боксер, тяжеловес. Не то что больную женщину — быка уложит. Арифметическая семейная ссора, где алгеброй и не пахнет.
Саблин рискнул поспорить со следователем:
— Любую задачу можно упростить до арифметической. Только выиграет ли от этого математика?
— У вас есть свои соображения? — заинтересовался Князев.
— Нет, спор чисто теоретический.
— Тогда слово следователю прокуратуры.
— Скажу кратко, — начал Глебовский. — Поскольку обвиняемый тут же сознался в преступлении, а рассказ его полностью подтверждают и медицинская экспертиза, и свидетели, предлагаю считать следствие законченным и дело передать в суд.
— Есть возражения, — предупредил решение подполковника Саблин.
Стало тихо, как бывает, когда на собрании кто-то вдруг выступает с поражающей неожиданностью.
— Я возражаю, — сказал Саблин, — против слишком уж поспешной передачи дела в суд. Следствие, по-моему, еще не закончено.
— Почему? — спросил Князев.
— Позвольте, я объясню это попозже. И наедине.
— Хорошо, отложим пока решение. Зайдите ко мне минут через десять. Обсудим ваши доводы.
— Явился по вашему приказанию, Матвей Георгиевич, — отрапортовал Саблин.
— Садитесь, Юрий Александрович. Что у вас?
— Меня заинтересовал допрос свидетельницы Хижняк, вернее ее слова о сокровище. По-моему, о них стоит подумать.
— Но я же читал запротоколированное замечание Михеевой. Слова эти относились к ироническому высказыванию убитой об обвиняемом: «Это мать так иронически о Василии говорила: «Убила бобра Катька, нашла сокровище».
— Екатерина Михеева умна и находчива: эти слова ее могли быть и прикрытием правды.
— В таком случае Михеева, по-вашему, сообщница? Не слишком ли? Ее мать убита… Да, но о каком сокровище могла идти речь?
Саблин задумался. Как же потолковее объяснить все это начальнику?
— Видите ли, в квартире живет еще и третий жилец, Андрей Востоков. Это пасынок убитой Марьяны Вдовиной и сводный брат Екатерины Михеевой, сын от первой жены покойного протоиерея Серафима Востокова, бывшего настоятеля городского собора. Сокровище, о котором шла речь, быть может, и существует. Из истории Советского государства мы знаем, что в период тяжелых хозяйственных трудностей, которые переживала страна, было произведено изъятие ценностей у церкви. Серафим, тогда еще молодой протопоп, не мог, конечно, избежать этого изъятия, но вполне возможно, что сохранил кое-что и для себя. Такие случаи были — и отмахиваться от них нельзя. А если допустить как раз такой случай, значит, можно допустить и наличие каких-то ценностей, по закону принадлежащих государству и посему оберегавшихся убитой.
— Но вы же производили осмотр…
— Только поверхностный и только в доме. Ни подвальных помещений, ни двора, ни сада мы не осматривали. А такие ценности, наличие которых можно предположить, надо искать не в доме. Есть и погреб, и не разбиравшиеся поленницы, и колодец, почему-то засыпанный, и бездна других возможностей спрятать похищенное. У меня есть предположение, Матвей Георгиевич. Получим санкцию — поручите обыск Веретенникову, а я думаю совершить экскурс в прошлое.
— Конкретнее. Что именно?
— Узнать, как и какие изымали ценности в нашем соборе. Познакомиться с личностью отца Серафима: его, наверное, в храме хорошо помнят. Выяснить, сохранились ли какие-нибудь документы этого времени. Поинтересоваться частной жизнью отца Серафима: ведь убитая Вдовина была его сожительницей, вторичные браки священникам запрещены церковным уставом. А в этой частной жизни было многое, что нас может заинтересовать. Прежде всего наличие сводных брата и сестры, проживающих, кстати, до сих пор в одной квартире: их взаимоотношения следствию пока неясны.
Князев долго молчал. Конечно, мысли Саблина более чем спорны, но отвергать их — нерасчетливо и даже неразумно, и в конкретных предложениях старшего инспектора многое заслуживает внимания.
— Убедили, Юрий Александрович, — наконец вымолвил он, — начнем следствие заново, а версию вашу проследим до конца.
С утра Саблин пошел к обедне.
Богослужение на страстной неделе носило особый характер, но Саблину было все равно: он шел в церковь впервые. Пришел он рано, встал у клироса, даже не зная, как называется место, где он стоит, а встал здесь потому, что рядом была площадка для хоровой капеллы, а пение и музыку он очень любил, хотя с церковными мелодиями знаком не был, вырос в семье, знавшей церкви только музейные.
Но торжественная напевность хора его увлекла, он вслушался, тем более что во время богослужения ни за какими справками обратиться к причту было нельзя. Служебное дело, которое привело его сюда, приходилось временно отложить. И Саблин стоял, с любопытством оглядываясь. Все ему было занятно: и монотонное чтение протоиереем главы из Евангелия — пудовой книжки в серебряном окладе, возложенной на высокую подставку, и парчовые ризы дьякона и священника.
Саблин шагнул на ступеньку клироса, как вдруг заметил, что ему дружелюбно улыбается дьякон.
— А ведь я узнал вас, — сказал он.
— Не имею чести, — холодно возразил Саблин.
— Забыли. Давненько виделись, — усмехнулся тот. — Вы у нас были, когда я в театре служил, в опере. Вы, тогда совсем молоденький, кражу у нас расследовали.
Саблин вспомнил.
— А как же вы из театра здесь очутились? — спросил он.
— Бас-то у меня несильный, ну и зарплата здесь малость повыше. Вот и соблазнился. Я и прежнего нашего участкового знаю.
— Я не участковый, — сказал Саблин. — Я из уголовного розыска.
— Значит, сигнал был? — заинтересовался дьякон.
— Никакого сигнала не было. Просто справки кое-какие хочу у вас получить. Кстати, меня интересует не сегодняшний день, а давнее времечко. Тогда еще протоиереем у вас был отец Серафим. Знали такого?
— Ну, как же не знать. Еще мальчишкой у него в стихаре при богослужении прислуживал. Отчасти это и повлияло на мой уход из театра в церковь. И обедню и всенощную знал назубок. А почему вы заинтересовались отцом Серафимом? Ведь он уже десять лет как богу душу отдал…
— Меня интересует более старое время, — пояснил Саблин. — В первые годы Советской власти был такой декрет об изъятии церковных ценностей. Может быть, у вас в соборе есть люди, которые это время помнят?
— Я-то не помню, конечно. В то время еще не родился. Но люди такие есть. И прежде всего протоиерей наш, отец Никодим. Вы подождите немного, он сейчас из алтаря выйдет. Тут я вас и представлю…
Саблин сидел в гостиной у отца Никодима. Познакомившись, протоиерей тотчас же пригласил его завтракать, и отказываться было неудобно, потому что протоиерей после обедни шел именно к завтраку, а старший инспектор рассчитывал на долгий и содержательный разговор.
Протоиерей был высокого роста — почти как Саблин, не сгорбленный старостью, худощавый лицом, с тщательно расчесанной седой бородой.
— У меня к вам любопытное дело, отец Никодим, — начал Саблин, — небольшой экскурс в прошлое. В первые годы Советской власти появился декрет об изъятии церковных ценностей. Вам пришлось тогда с отцом Серафимом работать?
— Пришлось. Был священником, в звании, как у вас говорят, немного пониже. Все это происходило при мне, я сдавал ценности вместе с отцом Серафимом. А что вас, собственно, интересует?
Саблин помолчал. Как объяснить отцу Никодиму свои подозрения, высказанные Князеву? В лоб нельзя; для отца Ннкодима это прозвучало бы оскорбительно. Надо было заходить со стороны, говорить о времени и его особенностях в связи с заинтересовавшим уголовный розыск делом. Так он и поступил, стараясь обойти скользкие обстоятельства.
— Мы ведем следствие по одному делу. Среди свидетелей — бывшая сожительница протоиерея Востокова Марьяна Вдовина, ее дочь от отца Серафима Екатерина Михеева и пасынок, сын от первой жены протоиерея Андрей Востоков. Дело сложное и не о нем речь. Меня интересует лишь время, когда проходило изъятие церковных ценностей, и как все это в вашем соборе было.
Отец Никодим разгладил бороду и понимающе улыбнулся.
— Давайте уж говорить прямо, не вводя друг друга в заблуждение. Город наш хоть и считается районным центром, но, по сути дела, провинция: все из ряда вон выходящее тут же становится известным каждому. Так что позвольте вас поправить: Марьяны Вдовиной уже нет в живых. Она убита в семейной ссоре зятем своим Василием Михеевым. Извините за поправку, но она, полагаю, для дальнейшей беседы необходима. Вас, как п меня, товарищ старший инспектор уголовного розыска, интересует только правдивая информация.
Густо покрасневший Саблин, однако, тут же нашелся:
— Извините меня, отец Никодим, я никак не думал, что любое уголовное событие в городе тут же становится известным даже лицам вашего звания. Я не счел нужным информировать вас о деле, вас не затрагивающем, и потому только ограничился упоминанием лиц, которых придется, может быть, вскользь коснуться в нашей беседе. Меня действительно интересует не сегодняшний день, а очень давнее время, когда меня и на свете не было.
И опять улыбнулся отец Никодим, иронически даже.
— Я стар, молодой человек, но неглуп и связать невысказанный ваш вопрос даже при очень большой натяжке с изъятием церковных ценностей, хотя прошло с тех пор более шестидесяти лет, тоже сумею. Проследить мысль изобретательного следователя не так уж трудно. Да и удовлетворить ваше любопытство тоже очень легко. Был я тогда молодым священником, помогал отцу Серафиму и полностью, что называется, в курсе дела. Кампания по изъятию ценностей у нас в соборе прошла, как говорится, без сучка и задоринки, все документы сданного можете проверить у нас в архиве, да и ценная церковная утварь, не говоря уже о ризах с икон, так велика, что их запросто и не спрячешь, тем более что изъятие проходило у нас, как и везде, внезапно, без предупреждений. Сдачей руководил отец Серафим, и ни единая ценность утрачена не была. Документы, повторяю, вы можете сегодня же проверить.
Сказано это было сухо и официально. Саблин понимал, что протоиерей отлично сознает, что имеет в виду инспектор уголовного розыска, и что разговор «о времени и его особенностях» не удался. Ответ был достаточно исчерпывающ и точен. И Саблин поспешил, не отказываясь от своих предположений, сразу же переменить тему:
— Вы не поняли меня, отец Никодим. Я отнюдь не собираюсь проверять у вас какие-то давно зарегистрированные ценности. И мысль моя была скорее мыслью не следователя, а историка, интересующегося не тем, что изъяли, а тем, что осталось. Ведь у нас не было Ренессанса, не было Рафаэля и Леонардо да Винчи, а были Рублев и Феофан Грек, историческая ценность которых едва ли ниже.
— То, что осталось, трудно счесть ценностью, — уже значительно мягче сказал соборный протоиерей. — Ни Рублева, ни Грека в соборе не было, купцы, дарившие нам иконы, интересовались дорогими окладами, а не древней живописью. Каюсь, и я по молодости лет больше соблазнялся одетым на них серебром и золотом. Да и сейчас возьмите: иконопись знаю, пожалуй, неплохо, а собирать иконы — не собираю. Художники куда дальше меня пошли: мой иконостас ценностями не блещет. Не увлекаюсь. А коли вы увлекаетесь, то я вам не завидую. По-моему, дело это не ваше. Ну, марки, монеты, значки — это я понимаю, но ведь иконы собирают в большинстве глубоко равнодушные к религии люди. А что такое икона? Прежде всего, религиозный символ, раскрытие верующего ума и сердца. Разве можно предположить, что Феофан Грек не верил в то, что создавал своей кистью? У любого, даже посредственного, иконописца были, конечно, свои модели, но гениальная живопись немыслима без вдохновляющей ее веры…
Саблин выслушал протоиерея, в свою очередь, убежденный в том, что гениальная иконопись вдохновляется не верой в бога, а талантом иконописца, но спорить не стал.
— Боюсь, что вы опять не поняли меня, отец Никодим, — сказал он, — я интересовался временем и обстоятельствами, а не изъятыми у вас соборными ценностями. А икон я тоже не собираю. Так что «будем считать, что мы друг друга не поняли, а потому позвольте откланяться и поблагодарить вас за дружескую беседу.
Саблин привык с утра взвешивать и оценивать все происшедшее накануне. Что узнал? Что сделал? Успех или неудача? Заштатный оперный бас в роли дьякона — мелочь, конечно, но знакомство все же полезное для дальнейших розысков в администрации здешней епархии. Протоиерей Никодим, несомненно, умен, сообразителен и находчив, судя по тому, что и как им сказано во вчерашней беседе. Дело было даже не в глупом промахе Саблина, не в неудачной попытке вывернуться из него, сославшись на «тягу к истории». Запомнилось другое. Настоятель собора заранее знал, зачем пришел к нему инспектор уголовного розыска, что именно интересовало его в этой встрече, и откровенно поспешил его в этом уведомить. Что же могло заинтересовать его? Само по себе убийство в доме Михеевых? Едва ли.
Из кабинета Князева вышел Веретенников, усталый и огорченный.
— Как с обыском? — заинтересовался Саблин.
— Плохо. В доме никаких следов ценностей. В подвале и погребе — аналогичная картина. Поленницу разобрали — не нашли. Весь двор вскопали. Ничего не нашли и на огороде.
— С миноискателем?
— Конечно.
— Что сказал Князев?
— Рекомендовал пошарить по всем камерам хранения. Проверить, не хранила ли что-нибудь убитая Вдовина и не сдавал ли кто-нибудь из членов семьи ящика или чемодана в ближайшие дни после преступления?
— Ну что ж, действуй. Прощупай вокзал, пристань, аэропорт.
К полковнику Саблин не пошел, решил: понадоблюсь — вызовет. А в кабинете его уже поджидал Глебовский.
— Ищем новую версию? — спросил он.
— Зачем? — сказал Саблин. — Еще старая не прослежена.
— А то есть одна. Убила, скажем, Екатерина Михеева, а муж взял вину на себя.
На нескрываемую насмешку Саблин не реагировал. Ответил сдержанно:
— Такую версию слишком легко опровергнуть. Несерьезна, Виктор Петрович.
Тут уже Глебовский взорвался:
— А ваша серьезнее? Обыск же не удался…
— Знаю. Не удался и первый визит в собор. Изъятие церковных ценностей прошло, по-видимому, без отклонений.
— Проверили лично?
— Для чего? Соборные архивы, если они сохранились, ничего не покажут. Регистрация приема и сдачи? Что она скажет? Меня интересовали условия процедуры и настроения причта. Об этом я и беседовал с протоиереем.
— Что-нибудь подтвердилось?
— Ничего. Новый настоятель собора тогда был священником. Сдавал ценности вместе с Серафимом Востоковым. Обман иди мошенничество полностью исключает.
Саблин видел, что его сообщение вполне удовлетворило следователя. Но добавил:
— Но мой экскурс в прошлое отца Серафима еще не завершен.
— Вы все еще не отказались от версии о сокровище?
— Нет. И намерен продолжать розыск.
Глебовский провел пальцем по коротко постриженным усикам, взял дело в картонной папке, пошел к двери. Уже на пороге обернулся, бросил:
— Ох, не верю я в ваше сокровище. Но коли версия возникла, проверить обязаны. Действуйте, Юрий Александрович, как говорится — бог в помощь. Подходящая терминология для «церковного» дела!
— Не очень, Виктор Петрович. Бог — помощник никакой. Проверено веками. А вот слуги божьи…
Андрей Востоков слез со стремянки, вытер испачканные замазкой пальцы.
— Теперь прочно замазал. Под цвет. И хорошо, что с миноискателем они прошлись только по полу.
— И во дворе, — добавила Екатерина. — А может, лучше вынуть из стенки? Второй раз с обыском не придут.
— Кто их знает, — замялся Андрей. — Потерпим еще месячишко. Ценности в стенке сохраннее. И нам спокойнее. А Василий к тому времени уже свой срок получит. Полтора—два года — больше не потянет. Так что носа не вешай.
— Я не вешаю.
— Странная ты баба, Екатерина. Все ж мать убита, а ты хоть бы слезу уронила…
— Мать? — Екатерина усмехнулась. — По паспорту. Много ли я от нее добра видела11 Мать… Она, кроме бога и папашки моего липового, никого не любила. Бог, бог, будь он неладен.
— Не богохульствуй, красавица. Он тебя кормит.
— Кормит, — согласилась Екатерина. — А она мне лоб расшибала, чтоб я в него верила. Знала, что не верю, потому и не любила меня.
— Ай-яй-яй, как нехорошо — о матери-то.
— Ты бы лучше помолчал, жалетель… Подумал бы, что милицейские подозревают…
— Другой версии у чих нет, Катя. А обыск они сделали для проформы. Это им тетка, стоявшая за окном, сболтнула о сокровище.
— Я же им все объяснила, Андрей.
— Правильно. Но у них ведь служба такая: проверить надо. Ну и проверили. Убийство неумышленное, мотива нет. Отцовские бумаги они у меня взяли, но ведь в них ничего нет. Марьянино письмо отцу о его «бесценном даре» у меня в бумажнике.
— Так ведь это улика, Андрей.
Востоков порылся в карманах пиджака, достал из бумажника пожелтевшее от времени письмо мачехи и, помахав им перед глазами сводной сестры, сказал с кривой усмешкой:
— Единственная улика, сестричка. А сейчас и ее не будет.
Щелкнул зажигалкой, подождал, — пока злополучное письмо не сгорит, вздохнул облегченно:
— Теперь нам уголовный розыск не страшен. Даже если они за нас возьмутся.
Саблин подошел к белому одноэтажному домику, спрятанному за узеньким палисадником. Впереди, в конце выложенной кирпичом дорожки, чинил крыльцо человек в цветной ковбойке и холщовых штанах, вправленных в резиновые сапоги, Саблин кашлянул. Человек обернулся, вгляделся и надел брошенную рядом на куст выгоревшую домашнюю рясу.
— Не обессудьте, отец дьякон, — сказал Саблин. — У меня есть и к вам разговорчик.
Длинноволосый, с постриженной бородкой соборный дьякон показал на вкопанный за кустами дощатый столик.
— Садитесь, товарищ инспектор. Почту за честь. Не узнал вас без формы.
Саблин, расстегнув пиджак, присел к столу.
— Мое дело вас не касается, отец дьякон… — начал он, не зная, как лучше повести разговор.
— Давайте по-светскому, без духовного диалекта, — остановил его дьякон. — Вас как зовут? Юрий Александрович? Не удивляйтесь, что ведаю: справился у нашего участкового. А меня — Аким Васильевич. Так что слушаю и внимаю.
— Вы слышали что-нибудь об убийстве Марьяны Вдовиной, бывшего регента вашего хора?
Дьякон понимающе усмехнулся, словно он именно этого вопроса и ожидал.
— Она хористкой была, а регентом сейчас ее дочь, Екатерина Серафимовна. Из самодеятельности к нам пришла. И про горе ее знаю, хотя, честно сказать, са-авсем не сладко ей было с покойницей. А Василия просто жаль. Тихий мужик, нескандальный. У тещи по струнке ходил. А вот довела-таки до смертоубийства.
— Вы его хорошо знаете?
— В одной школе учились. Даже дружили тогда. Он мои певческие вылазки к отцу Серафиму покрывал: в школе никто не знал, что я церковным пением болею. А то мне бы житья не было.
— Сейчас встречаетесь?
— Иногда. С Екатериной чаще. У нас много общего: петь любим.
— В квартире Вдовиной есть еще один жилец: сын вашего покойного протоиерея — Востоков. Его знаете?
Дьякон ответил не сразу, поразмыслил, и вдруг что-то мелькнуло в глазах его, как сигнал из далекого прошлого.
— Тоже в нашей школе учился. — вздохнул он, словно на этот раз принадлежность к единому школьному братству не вызвала в нем ни дружелюбия, ни симпатии. — Только на семь классов нас обогнал. Мы поступали, а он уже к концу десятилетки тянулся. Не дружили тогда: разнолетки, понятно, а знаю я о нем все, как и про всех, кто с нами на одной улице жил. Только ведь прошлое это, а вам небось настоящее подавай.
— А меня как раз прошлое занимает больше, чем настоящее, — сказал Саблин. — Хотелось бы знать, каким он рос в семье и каким вырос в людях.
— До уголовщины, полагаю, не дошел, да и работенка у него непыльная: заработать можно, государство не обкрадывая. Но уж если вы заинтересовались им, вопросов не задаю, расскажу обо всем, что спрашиваете. С характером в люди вышел парень, весь в отца — те же гены. В церковной семье вырос, а в церковь только до школы ходил, когда отца нельзя было ослушаться. В школе, говорят, сразу же директору на отца жалобу подал: не хочу, мол, ни молитвы читать, ни Евангелие. ни говеть, ни к иконам прикладываться. Ну, вмешались, конечно, и освободили парня, как вы говорите, от религиозного дурмана. А отец не простил. Невзлюбил сына. Только мать и воспитывала мальчишку, пока не умерла от инфаркта. Когда же в доме мачеха появилась — ее отец Серафим из хора в экономки взял, — Андрей добровольцем на фронт ушел.
— Раз добровольцем на фронт ушел, значит, человек порядочный, да? — полувопросительно заметил Саблин.
— Вроде бы. Действительно вроде. На фронт ушел: где-то при штабе устроился. От маршей освободился — плоскостопие С войны вернулся — под суд попал. Из колонии пришел, в Москву уехал, да, слыхал я, там чуть в грязное дело не влип, вот и пришлось домой воротиться. Теперь оценщиком в здешней комиссионке работает. Чисто, говорят, работает.
— Как же он на квартиру к мачехе попал? Отец его. что ли, так жил?
У дьякона даже глаза блестели от умиления собственным рассказом. Должно быть, любил поговорить по душам бывший служитель Мельпомены.
— Нет, — сказал он, — отец Серафим в доме при церкви жил. Там сейчас нынешний протоиерей живет. А тут бывший дьякон хозяйничал — ныне в Верее под Москвой священствует. Здесь-то самое интересное и случилось. За год до войны родила Марьяна дочку. Разговоры. Шире, дальше — скандал в епархии: экономка экономкой, можно глаза закрыть, ладно, а дите от кого? Вызывали в Хомутовку к самому архиерею. Что там было, не могу знать, но вернулся отец Серафим смурной и, говорят, даже еще более похудевший. Марьяну с дочкой сразу к дьякону выселил и ни днем к ней, ни вечером никогда не ходил, чтоб разговоров не было. Да разве рты людям заткнешь? К тому же Марьяна-склочница втихую жить не хотела, только Серафима и слушалась, а дома — черт чертом. Из-за нее, говорят, и дьякон в Верею перевелся: священником после его рукоположения мог бы и у нас в храме остаться. Ну, дьякон уехал, квартира освободилась, Катька росла, сызмальства в хоре пела, не мне чета: на педагогическом совете на своем праве на церковное пение настояла — подходящей самодеятельности, мол, для нее нигде поблизости нет. А потом и дома свой характер показала, когда против желания матери за Василия Михеева замуж вышла, и второй раз, когда сводный брат, которого она даже не помнила, из Москвы приехал, сумела прописать его.
— Значит, брат с сестричкой в добрых отношениях?
— Точно. Теперь одной семьей будут жить. А вернется из колонии Васька Михеев, втроем будут кроссворды отгадывать. Востоков, думаю, не женится, не тот возраст.
Саблин не мог знать всех последствий беседы отца Серафима с архиереем — их не знал и сам дьякон, — а ведь где-то здесь и был ключ к михеевскому сокровищу.
А было так.
Отец Серафим, как уже сказано, вернулся из Хомутовки туча тучей. Молчал. Ходил из угла в угол по комнатам. Отказался от ужина. Марьяна тоже молчала, сидя у постели годовалой дочери. Она догадывалась о многом, но не прерывала раздумий протоиерея. Ждала его слова. И услышала:
— Разъехаться нам надо с тобой, Марьяна. Будешь жить у отца дьякона, у него есть лишняя комната.
— Из-за Кати? — сдерживаясь, спросила Марьяна.
Протоиерей взорвался:
— Из-за всего! Из-за того, что ты у меня живешь! Из-за того-, что ребенок от меня! Из-за того, что прихожане шушукаются.
— Я могла бы и аборт сделать.
— Не виню я тебя. Я хотел ребенка. Я и его преосвященству так сказал Признался.
— А он? — сквозь зубы процедила Марьяна.
— Сначала он хотел перевести меня в другой приход. Да пожалел, видно. Только переехать ты должна сегодня же. Когда стемнеет. Собери белье и все носильное. Посуду с дьячком пришлю. А мебель у дьякона есть.
Марьяна молча пошла в спальню, но ее тут же остановил голос протоиерея:
— Сядь. Я еще не сказал о самом главном. Встречаться будем, но нескрытно и недолго, чтобы лишних разговоров вокруг церкви не было. Будешь приносить Катю ко мне на благословение. Нечасто. Зато часто пиши. Письма-исповеди обо всем, что бог сердцу подскажет. С дьяконицей не ссорься, она баба невредная.
— Безбожница! Смущает людей живых.
— У нее муж — лицо духовное. Его и забота. А ты характер свой сдерживай, смиряйся, если понадобится. Ты верующая, вот и терпи, уповая на господню волю. Мне ох как нелегко было на архиерейском подворье. И не смотри так пронзительно, я не проповедую, а по-отечески наставляю: жить ведь придется по-разному, по отдельности друг от друга, за советами не побежишь. Ну а о достатке не беспокойся — сребреники будут. А для Кати на будущее, когда в жизнь войдет, я подарок приберегу. До гроба ее обеспечит. Не думай, что от государства утаянное, я церковные ценности по декрету все сдал. Это мое собственное, бесценный отцовский дар…
— Все? — спросил оперный дьякон.
— Нет, не все еще, Аким Савельевич. — Саблину хотелось выжать из него максимум информации. — Хорошо бы еще раз покойного протоиерея вспомнить. Вы застали его?
— Последние недели только, когда он из больницы прибыл. Он уже не совершал церковные службы. У себя и умер.
— От чего?
— Сердце.
— Какие-нибудь документы оставил?
— Тексты проповедей и письма Марьяны. Святыми он считал эти письма. Мы и нашли их в тайничке в алтаре во время ремонта. Совсем недавно нашли. Андрюшке и отдали: он в это время мимо церкви шел.
— Кто-нибудь был в квартире, когда наступила смерть? Марьяна или еще кто?
— Марьяна потом пришла. А с ним псаломщик был. Лука Лукич. Он вместо хозяйки за нам присматривал. Тоже кое-что об отце Серафиме рассказать может.
Саблин шел в управление пешком, сквозь мелкий, моросящий дождь — не такой уж он был пронизывающий, чтобы пережидать его где-нибудь под крышей, и тщательно перебирал в памяти рассказ.
«А что мне дал этот необязательный разговор? Немного. Даже просто мало. Биографию не совершавшего преступления, но вполне подходящего преступника. Если бы Вдовину убил Андрей Востоков, я бы не искал мотива: сокровище было бы уже у него. Он неглуп, предприимчив, коварен и аморален. Только он убил бы не столь примитивно: во-первых — скрытно, а во-вторых — не оставляя следов. Однако он не убивал Марьяну. У него стопроцентное алиби. Убил другой, неподходящий для роли убийцы, нечаянно убил, без мотива. А я все-таки ищу этот мотив вопреки всем экспертам и убеждению следователя прокуратуры. Смысл есть, если есть корысть. А корысть есть, если есть сокровище. Мы пока не нашли его, но я вправе задать себе вопрос: почему убийство произошло только теперь, годы спустя после смерти протоиерея? Ответ подбросил мне отец дьякон, когда упомянул о пачке писем Марьяны, врученной проходившему мимо собора Андрею Востокову. Может, именно в этих письмах он мог найти упоминание о ценностях, где-то запрятанных его мачехой? Могло так быть? Могло. Я могу себе это представить, но не могу доказать. Письма Вдовиной, вероятно, уже сожжены: Востоков не будет хранить их.
Что же делать? Продолжать поиск? А где искать, у подруг Марьяны, если они у нее были? Можно попробовать. Только вряд ли человек с ее характером будет прятать ценности у подруги. И еще несколько безответных вопросов. Кому принадлежали эти ценности, если они существуют? По утверждению отца Никодима, при изъятии церковного золота или серебра ничто не пропало. Может быть, пресловутое сокровище было личной собственностью отца Серафима? И уже от него перешло к Марьяне? Тогда почему же она не вручила его Екатерине в день ее совершеннолетия и даже ничего не сообщила ей, продержав его в не известном никому тайнике до своей нечаянной смерти? Из-за недоверия к Василию Михееву или Андрею Востокову? Из опасения, что кто-нибудь из них будет претендовать на часть серафимовского наследства? Трудно ответить однозначно — никто не сознается. А заочно не проверишь: свидетелей нет. Остается единственная надежда — псаломщик, принявший протопопово хозяйство Марьяны Вдовиной, Последние дни покойного прошли на его глазах. Может быть, протоиерей перед смертью передал что-то Марьяне или сказал что-либо о судьбе подарка…»
В кабинете Саблина поджидали Глебовский и Князев.
— Какими новостями порадуете, Юрий Александрович? — спросил подполковник.
— Нет хороших новостей, Матвей Георгиевич. Есть негативная характеристика Андрея Востокова. Можно, конечно, вызвать его для «прощупывания». Только, я думаю, ничего нам этот вызов не даст. Приклеить Востокова к убийству Вдовиной пока просто нельзя.
— Пока? — вопросительно подчеркнул Князев. — А может быть, вообще нельзя? Биография, говоришь, негативная, но сейчас он чист — Веретенников проверил. В комиссионном им довольны. Да и твои епархиальные экскурсии пока безрезультатны. Пожалуй, соглашусь с Глебовским: надо заканчивать следствие и передавать дело в суд.
— Повременим, — осторожно сказал Глебовский.
Подполковник даже не понял — так удивился он реплике следователя.
— Как повременим? Зачем?
— У Саблина еще тлеет уголек надежды. Впрочем, Юрий Александрович, объясните подполковнику все сами.
Саблин взглядом поблагодарил Глебовского.
— Когда Вдовина покинула дом отца Серафима, — начал он, — услужать ему стал псаломщик. В церковной иерархии это дьячок. Готовит церковь к утренней и вечерней службе, помогает священнику и дьякону при богослужении, поет псалмы, обходит молящихся с шапкой по кругу, иначе говоря, с тарелочкой для пожертвований — что-то вроде «шестерки» в причте. Этот псаломщик после Вдовиной ближе всех стоял к протоиерею. Тот и умер у него на руках. Так вот: сейчас он еще жив и, по словам дьякона, довольно бодр, несмотря на свои восемьдесят с лишним. Уж если он ничего не слыхал о сокровище, сдаюсь.
— А я не настаиваю на сдаче, Матвей Георгиевич, — сказал следователь. — Саблин проник в закрытый мир и от одного к другому в этом мире может что-нибудь узнать об интересующих нас ценностях. Версия его соблазнительна и не стоит отказываться от нее.
Дверь Саблину открыл высокий старик, костлявый, но годами не согнутый, заросший седыми космами, торчащими из-под черной скуфьи. Одет он был, несмотря на припекавшее летнее солнце, в вывороченный дубленый полушубок, древний, как и его владелец, насквозь вытертый и заштопанный, неопределенного грязного цвета. Открыл он дверь одноэтажной дворницкой каморки с топившейся русской печью. На Саблина пахнуло затхлым и жарким пылом.
— А ведь я к вам, отче, не знаю, как именовать вас. Послал меня отец дьякон. Поговорить надо.
— Это можно, — сказал старик. — Я с властями в мире живу.
Он вышел на улицу, указав на стоявшую под окном дворницкой такую же доживающую свой век скамью — покосившуюся, щербатую.
— Жарковато тебе будет, товарищ начальник, у меня в идо-ловом капище. Я его сейчас под баньку сотворяю.
— Я вас ненадолго задержу, отче, — извинился Саблин.
— Так и зови, — подтвердил старик. — Для отца Панкра-тия рылом не вышел: звание не то. А Панкрашкой вроде бы и неловко: все-таки дьячок. А ты хорошо говоришь, товарищ начальник. Вежливо. По-церковному.
— А почему вы меня называете «товарищ начальник»? Я же не в форме.
— Я тебя и в форме видел, когда ты в собор приходил.
— Память у вас хорошая?
— Как скажешь. Что в старину было — помню. Что вчера — могу и забыть.
— Отца Серафима помните?
— Еще бы. И службы его, и домашность. Каждый денек, с ним проведенный. Бывало, придем с обедни, он перед трапезой и мне свое слово скажет. И я от него говорить по-евангельски научился, а проповеди свои он при мне писал и мне читал их, всегда спрашивая: от ума или от души? Вот отец Никодим не спросит: у него все от ума. Жесткое слово у него, монашеское. А отец Серафим в миру жил. Бога славил, но и людей не забывал.
— Тяжело было ему с Марьяной расстаться? — спросил Саблин.
— Страдал. Что ж поделаешь, когда указ его преосвященства был таков. Наш архиерей — старых дум человек. Но человек. И быть бы отцу Серафиму в другом приходе, ежели бы владыка не сжалился.
— Хороша жалость, — усмехнулся Саблин. — С любимым человеком порвать, отца у ребенка отнять…
— Не может священник вторично жениться — не дозволяет устав. Был грех у попа? Был. Ну и пришлось отмаливать.
— А на чей счет Марьяна жила? Запевала в церковном хора — невелики доходы. А ей ребенка растить.
— Вырастила. Я каждую неделю то подарки, то деньги возил.
— Дорогие подаркн-то?
— Недешевые. Не любил дешевки покойный. Ребенку игрушки или носильное, ей подчас сережки или перстенек. А ежели часы, то с браслетом. Не жалел денег протоиерей.
— Он, говорят, и умер у вас на руках?
— Воистину так. Исповедался у отца Никодима и за Марьяной послал. А ее дома не было — где-то в очереди стояла. И Катюшка из школы еще не пришла. Ну и потопал назад, чтобы еще живым человека застать. Прихожу, а он уже кончается. Приподнял я его, поцеловал в лоб по-христиански, он и умер у меня на руках.
— А он не советовался с вами, как дочь свою обеспечить?
Псаломщик задумался, вспоминая. В старческих глазах его с большими зрачками — должно быть, болел глаукомой — отразилось радостное сочувствие.
— Был разговор, припоминаю. — сказал он. — Даже два. Один раз, когда Марьяна приходила, он при мне ей сказал: о деньгах, мол, не тревожься, я свой вклад на сберкнижке откажу на твое имя в завещании. Ну, а кроме того, подарок на будущее. Вот в Загорск съезжу…
— Почему в Загорск? — перебил Саблин.
— К профессору какому-то. Ведь духовная академия у патриарха в Загорске.
Старик рассказывал так медленно, что Саблин опять не стерпел — прервал:
— А зачем к профессору?
— Посоветоваться. О чем? Не знаю — не спросил. Неловко было в чужую душу с назойливыми вопросами лезть. А второй разговор об этом был уже в преддверии смертного часа его. Начался сердечный приступ. Я ему горчичники на грудь и на спину поставил, капли от сердца дал. Отошло. Выпил он холодного чаю с лимоном и говорит: «Есть у меня сокровище, Панкрат. — Так и сказал: сокровище. — Никому, — говорит, — не открываю — что. И тебе не открою, хоть ты и человек верный. Но Катю я на всю жизнь обеспечу». А я его все хозяйство знаю: нет у него никакого сокровища. Думал, гадал о сем — так и не догадался.
Саблин дрогнул, как от удара. Сокровище! Вот откуда попало оно в язык Михеевых, от которых услышала это слово проходившая мимо окон свидетельница. Значит, прав он, предполагая корыстный мотив преступления. Значит, сокровище все-таки существует, где-то далеко и хитроумно запрятанное. Но чтобы найти его, надо прежде всего знать или хотя бы предполагать, что это такое.
— Может, подружки Марьяны знают? — вырвалось у Саблина.
— Не было тогда у нее подружек, — погасил эту надежду старик. — Отец Серафим не любил бабьего трепа.
— А ездил протоиереи в Загорск? — словно ощупью пробивался к загадке Саблин.
— Ездил. За месяца два перед смертью. Довольный приехал. Даже веселый.
— Не рассказывал вам о своей поездке?
— Не. Даже вроде бы совсем затаился.
— И вы не расспрашивали?
— Мое дело маленькое. Я не духовник. Да и у отца Серафима, ежели он молчит, слова не выпросишь. Строг и взыскателен ко всему причту был. К тем, кто причислен.
— А я к вам за этим и пришел, отец Панкратий, — со вздохом высказал Саблин. — Чтобы побольше узнать о сокровище. Кто хранит, где хранит и что хранит?
— А ты самого протопопа спроси.
— Серафима? Нехорошо так шутить, отец Панкратий, — укоризненно сказал Саблин.
— А я не шучу. Последние месяцы перед смертью покойный начал дневник вести. Каждый денек в школьную тетрадь записывал.
— А где дневник?
— У нового протопопа спроси. У отца Никодима. По воле покойного, я тому эти тетрадки и отдал.
Протоиерей встретил Саблина сухо, даже не поднявшись с кресла. Он читал. Не улыбаясь, отложил в сторону книжку и снял очки в золотой оправе.
— Перечитываю классиков, — признался он. — В данном случае Алексея Толстого. По телевизору показывают «Хождение по мукам». Это, по сути дела, фильм о прошлом нашего государства, каким его видят авторы фильма. Вот мне и захотелось вспомнить, каким оно выглядит в первоисточнике.
— Каждый человек по-своему видит прошлое, — заметил Саблин. — Мне тоже иногда хочется на него взглянуть. Для этого я и пришел.
— Объяснитесь.
— Ваш предшественник, отец Серафим, за несколько месяцев до смерти завел дневник. Мне удалось выяснить, что сохранилось несколько школьных тетрадок и что находятся они у вас.
— Допустим.
— Я должен изъять их у вас.
— Вы из милиции?
— Из уголовного розыска.
— Протоиерей Серафим никогда не был и, к счастью, уже не будет под следствием, повысил голос протоиерей.
— А если под следствием кто-то другой, кого могут уличить или оправдать эти записки?
— Не вижу таких в его окружении. Нет о них ни слова и в его дневнике.
— Я прочту его и соглашусь с вами, если вы правы. — А если я не дам вам эту возможность?
Саблин улыбнулся.
— Вы служитель церкви, отделенной от государства, — сказал он, — но, как гражданин этого государства, вы обязаны оказывать ему всяческое содействие.
Отец Никодим, не отвечая, подошел к стенке с книжными полками и с верхней вынул втиснутые меж книгами три школьные тетрадки. Ему было явно жаль расставаться с ними.
— Не понимаю, — проговорил он недоуменно, — зачем вам понадобились записки священника? Ведь это же чужой вам мир, свои радости и печали, свои заботы и прегрешения. Я читал их, как исповедь покойного, а тайна исповеди для меня священна.
— Но у него есть еще сын и дочь.
— Они недостойны этой исповеди. Сын очень плохой человек, а дочь пустышка без сердца. Даже траур по матери не надела. Регентша нашего хора, а поет без веры в господа бога нашего и без уважения к религии.
— Обещаю вам, — сказал Саблин, — что я прочту эти записки без веры в бога, но с уважением к написанному.
Из трех школьных тетрадок отца Серафима Саблин сделал всего две странички выписок. Вот они.
ПРИМЕЧАНИЕ САБЛИНА: Выяснить, работает ли в Загорске проф. Смиренцев, и организовать встречу.
«7 мая. Житие мое одинокое: я да Панкрат. А соборный клир где-то в тумане. Сегодня Марьяна порадовала: пришла с Катенькой. Расцеловал и благословил. А сокровище мое не по сердцу греховной подруге моей: слышать не хочет о церковном подарке. Не знаю, говорит, как нажито и кем нажито — богобоязненная она. Отцово наследство, говорю, а он господу человек верный. Взять, обещает, возьму и до совершеннолетия Катерины спрячу. Так и порешили. Смиренцеву покажу, посмотрит, оценит и за будущее Катеньки у нас тревоги не подымется. Смиренцеву я и завещаю открыть ей правду о сокровище сем, когда она уже в летах к нему обратится. А сына моего, от бога ушедшего и христианскую честь свою потерявшего, я не жду у смертного ложа своего пусть ищет утех в страстях греховных».
Саблин докладывал. Слушали начальник угрозыска и следователь прокуратуры. Слушали, не перебивая, позволив тем самым старшему инспектору зачитать не только выписки из дневника отца Серафима, но и свои собственные ремарки.
— Все? — спросил Глебовский.
— Все, — был ответ.
— Признаюсь: был не прав, когда настаивал на неумышленном убийстве, — продолжал следователь. — Теперь другая версия и другая статья обвинения. Что ж, могли и мы ошибиться. А Саблин доказал, что задачку-то можно решить.
— К сожалению, пока еще не решили, — сказал Князев. — Полностью не решили. Мы знаем, что сокровище существовало и, может быть, существует поныне. Только неизвестно, где оно и что собой представляет.
Саблин откликнулся с большой долей самоуверенности. Он был убежден, что находится на верном пути.
— Многое выяснится в Загорске, Матвей Георгиевич.
— Ты сначала узнай, жив ли этот профессор Смиренцев.
— Уже узнал. Жив к по-прежнему читает лекции в духовной академии. Он значительно моложе отца Серафима и пока умирать не собирается.
— Ну что ж, тогда поезжай в Загорск. Тем более что это недалеко.
— А я тем временем допрошу Михеева, — сказал Глебовский.
Князев усомнился:
— А не спешишь, Виктор Петрович? Для этого мы еще недостаточно вооружены…
— Почему? Когда я сообщу ему об изменении статьи обвинения, шоковое состояние его почти неизбежно. В таких случаях сдаются, Матвей Георгиевич.
Молод еще, неопытен и самонадеян, думал Князев. В таких условиях, говорит, сдаются. Ну а если шокового состояния не будет, эмоции, скажем, притуплены или характером крепок — тогда что? Михеев неглуп, сообразит, что Глебовский всего не знает, только нащупывает путь к решению загадки, значит, можно, как говорится, тянуть волынку. Может, и было «сокровище», скажет, а может, и нет, что вы о нем знаете? А старый протопоп мог и рехнуться на склоне жизни. Только я о его дарственной ничего не знаю, да и жена с Андреем не ведают. Вызовите их и спросите. Вот вам, Глебовский, и шок, на который вы рассчитываете.
— Провалишь допрос, — сказал подполковник. — Твой Михеев — не перепуганная девочка. На дневнике отца Серафима его не сломишь.
— Можно и повременить, — согласился следователь. — Только очень уж я завидую Саблину. Он, как подводная лодка, сквозь океанскую толщу прошел, а я и ног не замочил. Теперь из розыска Саблина мы знаем, что Востоков добыл письма Вдовиной своему сожителю. В одном из них, вероятно, говорилось о том, где спрятан подарок протоиерея…
— Почему же она не отдала его дочери?
— Она ненавидела Михеева. Мечтала о расторжении брака.
— Дальше?
— Дальше проще простого. Справедливо полагая, что спрятанное сокровище ему одному не достанется, Востоков сговаривается с Михеевым. Установить, где спрятано, несложно. Разделить его они не смогут: живая Марьяна не позволит. Значит, надо ее устранить. Исполнителем избирается Михеев: ему это проще, чем соучастникам. Одним ударом, как мы видели, он может замертво свалить человека. Подбирается подходящая статья уголовного кодекса и соответственно ей инсценируется картина неумышленного убийства. Саблин прав.
— А вдруг сокровище уже вынуто из тайника?
— Не думаю, Матвей Георгиевич. Если и вынуто, то перепрятано. Без Михеева они делить не будут.
Саблин сошел на конечной остановке — в Загорске. Со станционного перрона он двигался в людской толчее к недалекой горе Маковец, будто осевшей под тяжестью многоцерковной, узорчатой, сверкающей золотыми куполами соборов белостенной Троице-Сергиевой лавры. Подходя ближе, он уже видел ее бойницы и башни с высоченной пятиярусной колокольней центре. Детище четырнадцатого века, этот древнерусский монастырь-крепость хранил предолгую память о многом. И славился он не только всенощными и обеднями, акафистами и молебнами — они звучат и сейчас, но и великим мужеством монахов-воинов. Ведь это из их среды вышли запечатленные в летописи герои Куликовской битвы Пересвет и Ослябя…
Саблин задержался, оглядев догоняющего его молодого монаха. Спросил, чтобы только завязать разговор:
— Это все экскурсанты небось?
— Они, — охотно ответил монах. — Каждый день народ валом валит.
— А на что смотреть-то? — с хитрецой спросил Саблин. Ему очень хотелось разговорить монаха.
— Как на что? — обиделся тот. — Одни соборы чего стоят! Успенский, Троицкий, Сошествия святого духа. Стенные башни, трапезная… А иконостасы в соборах! И музеями мирскими Загорск славен. Зри и ликуй.
— Вы всех здесь знаете?
— Не всех, конечно. Но многих. А кто вас интересует?
— Скажем, профессор Смиренцев. Духовная академия.
— Отец Макарий! — возликовал монах. — Так это же мой профессор. Он у нас курс иконописи ведет.
— Как найти его, не подскажете?
— Он сейчас, наверное, в Успенском соборе обедню стоит. Летом каждую обедню отстаивает. В академии занятий нет: каникулы. А вы кто по специальности? Искусствовед?
— Немножко, — слукавил Саблин.
Врата Успенского собора были открыты.
Монах, осторожно обходя молящихся, подошел к коленопреклоненному профессору, стал рядом с ним и что-то шепнул. Тот окинул взглядом стоявшего поодаль Саблина и указал жестом на выход.
— Простите меня, профессор, что я позволил себе нарушить вашу молитву, — почтительно сказал Саблин.
— Бог простит, когда в моей помощи человек нуждается, — ответствовал Смиренцев. — Вы откуда к нам прибыли?
— Из Подмосковья, недалекий сосед ваш.
— Вы священнослужитель?
— Никак нет. По специальности очень далек от русской православной церкви. Инспектор уголовного розыска Саблин Юрий Александрович, — представился он.
Профессор взглянул на него с видимым интересом.
— Ну что ж, поговорим дома. Дело, очевидно, важнее, чем я помыслил.
Дома профессор остался в том же аккуратном черном костюме, застегнутом на все пуговицы, в каком был в Успенском соборе, только сменил уличные туфли на сафьяновые домашние тапочки. За это время Саблин успел оглядеть гостиную, где его принимал хозяин. Ему казалось, что он попал в маленький музей, собравший редкую старинную мебель. Вольтеровские глубокие кресла, обитые темно-зеленым плюшем, овальный столик красного дерева на бронзовой скульптурной основе, цветной ковер под ногами, широкий киот с трехъярусным расположением икон древнерусского письма, реставрированных любовно и тщательно, и несколько живописных портретов духовных лиц в узорчатых позолоченных рамах. Разглядел он и самого хозяина: высокий рост, худоба, длинные седые волосы, узкое, вытянутое, как на иконах, лицо, ухоженные бородка и усы.
— Что же хочет от меня уголовный розыск?
— Ответить на три вопроса, профессор.
Саблин упорно называл Смиренцева профессором, хотя и выяснил у монаха-студента его церковное звание: протопресвитер. Однако красивое слово это ничего ему не говорило, и Смиренцев, поняв Саблина, помог:
— Давайте без званий, Юрий Александрович. Для светских я просто Макарий Никонович. И отвечу, если могу, с готовностью.
— Вы помните покойного отца Серафима, настоятеля собора Петра и Павла?
— Припоминаю. Муж честный, строгий и нелукавый. Он приезжал ко мне…
— Зачем?
— За консультацией о ценности лично ему принадлежащей древнерусской иконы.
Саблин обомлел.
— Значит это — икона? Только икона? А ведь он ее называл сокровищем.
— А она действительно сокровище, — сдержанно заметил профессор. — Иначе и не назовешь.
А Саблин продолжал недоумевать. Несведущий в иконописи, он не представлял себе даже приблизительной ценности древней иконы. Неужели из-за обладания ею можно убить человека?
— Должно быть, я ничего не понимаю, — признался он. — Сейчас многие собирают иконы, это даже модно, пожалуй. Знаю, что некоторые платят по двести, триста рублей для пополнен им коллекции. Но о больших ценностях в любительских коллекциях не слыхал. Знаю, что есть и раритеты, Рублев, например. Но ведь такие в музеях. Их даже за границу вывозить запрещено.
— Вывозят, — вздохнул профессор. — Недавно в одном американском журнале прочел, что в Нью-Йорке на аукционе икона богоматери в чисто рублевской трактовке, по свидетельству знатоков, написанная в начале пятнадцатого столетия, была продана за сто тысяч долларов. Вот вам и сокровище для ее обладателя.
— Сто тысяч долларов! — растерянно повторил Саблин.
Значит, Востоков не ошибся в оценке?
— Я бы оценил его еще выше. Протоиерей Серафим привез мне редкостный раритет высочайшей ценности. Он сказал, что завещает его своей дочери А я обещал ему найти покупателя.
— Кого?!
— Покупателем может быть и православная русская церковь и Третьяковская галерея… А где сейчас эта икона?
— Где и у кого, мы пока еще не знаем. Но полагаю, что найдем.
— Если ее украли, то не найдете. Много волков охотятся за такими сокровищами.
Саблин задумался. Разговор получался явно официальным, утратив дружеские нотки. Не очень уверенно, но подчеркнуто холодновато прозвучала профессорская реплика о том, что покупателем иконы может быть и русская православная церковь. Конечно, протопресвитер ошибался: церковь не станет вмешиваться в мирские дела. Но в его настроении явно сквозило недружелюбие. Нет, надо менять смысл и тональность дальнейшей беседы. Пусть профессор почувствует, как важен для нас его авторитет и опыт в познании византийской и древней русской иконописи.
Об этом он уважительно, с подчеркнутой надеждой на помощь и поведал Смиренцеву. Тот сразу оживился, его кажущееся недружелюбие как ветром смахнуло.
— Конечно, я с удовольствием расскажу вам все, что помню об этой иконе. Вы видели иконы, писанные, скажем, в четырнадцатом и пятнадцатом веках?
— Видел Рублева в Третьяковке. И у моей бабушки были иконы. Оклад выпуклый, повторяющий в металле тот рисунок, что на иконе. Только лики святых прорезаны.
— Ваша бабушка была состоятельной?
— Папиросницей с асмоловской фабрики.
— Значит, все ее иконы были изделиями привычного на Руси кустарного промысла. Расписанные тусклыми красками без соблюдения традиций древнерусской иконописи липовые доски в медном окладе, наверно. Но если вы видели Рублева, то, конечно, вспомните свойственную ему манеру письма.
Саблин неожиданно для себя обиделся за бабку-папиросницу:
— Почему в медном? И в серебре были. Одну из бабкиных икон мы называли «Христос на полотенце». Там как раз серебряная риза изображала собранное по углам полотенце. Посреди его в круглой прорези виднелось писанное уже на самой иконе лицо Христа. Мать говорила, что будто бы есть такая легенда. В святцах, кажется. О том, что шел Христос в Вифлеем и захотел по дороге умыться. Вытер лицо поданным ему полотенцем, а на полотенце-то оно и запечатлелось.
— В хорошей семье вы росли, Юрий Александрович, хотя и выросли атеистом. Да, есть такое предание. Только не в святцах оно описано и не в Вифлеем шел Христос. А все остальное верно. И называется эта икона «Спас нерукотворный». Сюжет ее общеизвестен. Он повторяется и в византийской иконописи эпохи Палеологов, и в древнерусской. Именно такую икону и привозил ко мне протоиерей Востоков. Только ваша икона едва ли раритет, а его — шедевр бесценный. И определить ее автора было не так-то легко. С первого взгляда — Рублев! Его манера, его краски, его тончайшее мастерство письма. А вгляделся — задумался. Рублеву ныне приписывается многое, для него характерное, но не им написанное. Вернее, не только им. Ведь и фрески, и бесценные свои иконостасы писал он не один, а с содругами. С Феофаном Греком, Прохором из Городца и с Даниилом Черным. Мы знаем и единоличные работы Рублева и Феофана Грека, а чернец Прохор и Даниил Черный, к сожалению, известны только в содружестве с Рублевым. Но оба, несомненно, писали что-то и для себя или для своих княжеских покровителей. Так кто же из них был автором иконы отца Серафима?
Смиренцев замолк на минуту, вспоминая, должно быть, то, что сказал тогда протоиерею и что должен был сейчас повторить Саблину. А тот подумал с лукавинкой: не витийствует ли профессор, будто с лекторской трибуны, потрясая своими знаниями академических слушателей?
— А может быть, Феофан Грек? — задумчиво продолжал профессор. — В этой иконе было что-то от его палитры. Та же резкость контрастов света и тени. Тот же высветленный воздух среды в подчеркнутой белизне полотенца. Та же узорчатая игра кармина и охры на обоих его концах. Та же чрезмерность чувств в трагическом лике Спасителя, доходящая почти до яростной напряженности. Словом, тот же «психазм», как называют господствовавшую тогда философскую школу в Византии. Я снова вгляделся в икону: нет, не то. Скорее еще не ощутившее себя или просто неосознанное подражание. Может быть, все-таки это Рублев, ранний Рублев, творение которого отредактировал кистью Феофан Грек? Нет, даже в годы их совместной работы у Рублева уже было свое лицо. Хотите взглянуть на него?
Профессор достал с книжных полок альбом и раскрыл его перед Саблиным.
— Вот смотрите; ранний Рублев. Называется «Спас в силах». Иконостас Успенского собора во Владимире. Написано в тысяча четыреста восьмом году. Вглядитесь же! Разве не восхищает вас эта просветленность гармонии красок? А эта только ему присущая оригинальность композиции? Облик Спасителя в ромбовидном светлом пятне вписан в контрастный затемненный овал идеально правильной формы. А в лике Христа не трагическая напряженность, а светлая печаль, как зов к состраданию. Нет, не Рублев писал икону протоиерея! Не Рублев. А кто тогда? Кроме этой четверки, летописи не называют никого из их современников. Даниил Черный? Современные исследователи колеблются определить написанное им единолично. Но я считаю, что он сотрудничал с Рублевым только в росписи фресок. А вот старец Прохор, кажется, подходит, хотя его индивидуальное творчество тоже не найдено: о нем только гадают. Ну и я погадал. Ведь Спас на иконе протоиерея больше тяготеет к Греку, чем даже ранний Рублев. Скажем точнее: к четырнадцатому столетию, когда проникали в иконопись традиции византийском школы. Значит, именно чернец Прохор из Городца, первый учитель и содруг Рублева, скорей всего мог написать эту икону. И от этого ценность ее лишь еще более повышается…
Нагруженный альбомами Феофана Грека и Андрея Рублева, которые он достал в городской библиотеке, Саблин с видом победителя вошел в кабинет к начальству. Следом за ним шагал Глебовский.
— Могу сразу же начать с ответа на итоговый ваш вопрос, — Саблин сделал паузу для эффекта. — Какое же сокровище оставил протоиерей Вдовиной? — Он повторил паузу и закончил: — Икону.
— Икону? — воскликнули одновременно Глебовский и Князев. Одновременно, но в разной тональности: один разочарованно, другой с интересом.
— Вы полагаете, Юрий Александрович, — недоверчиво спросил подполковник, — что из-за иконы можно убить человека?
— Полагаю, Матвей Георгиевич. Из-за такой можно.
— Какой такой? — присоединился к подполковнику Глебовский. — В золотом покрытии, что ли?
Саблин не отказал себе в ироническом уточнении.
— Риза на иконе зовется окладом. Оклад был, конечно. Вероятно — медный. Только продавать ее будут без оклада. Даже не реставрированную.
— В прошлом году, — не удержался, чтобы не съязвить Глебовский, — судили фарцовщика Травкина за то, что он продавал краденные у коллекционеров иконы. А продавал он их по двести-триста рублей. Ну, повысим до пятисот, пусть даже до тысячи. Михеев не мелкий воришка, чтобы рисковать из-за такой суммы.
— А если повысить ее до ста тысяч. Рискнул бы?
— Это оценка Смиренцева? — спросил Князев.
— Его. Конечно, учитывая цены раритетов на мировом рынке. Недавно на аукционе в Нью-Йорке подобная икона была продана за сто тысяч долларов. А Смиренцев считает эту цену даже заниженной.
— Не Рублев ли? — спросил Князев. — Я слышал, что именно он так высоко котируется.
— Не он один. Ведь он не раз писал свои иконостасы в содружестве с другими мастерами. Был среди них и старец Прохор из Городца. Вот его-то профессор и считает автором иконы, принадлежавшей Востокову. А почему, я вам сейчас объясню.
Саблин вынул из пакета альбомы и раскрыл их там, где лежали закладочки. То были цветные литографии: «Богоматерь» Феофана Грека и рублевский «Спас в силах».
— Обе иконы начала пятнадцатого века, — пояснил он. — Русский Ренессанс. Музейная ценность. Но к той же эпохе относится и сокровище протоиерея Востокова.
И Саблин почти слово в слово повторил лекцию патриаршего профессора. Оба слушателя не перебили его ни разу. Глебовский, не отрываясь, смотрел на иконы, а Князев сказал, словно подвел итог:
— Что ж, дело Михеева сейчас приобретает для нас особую важность. Похоже, что действительно убийство было спланировано заранее и что соучастниками его являются Андрей Востоков и Екатерина Михеева. Но, чтобы доказать это, надо найти икону. Да и ее ценность для государства к этому обязывает.
Следователь прокуратуры тут же заметил:
— Не исключено, что они могут продать икону, пока вы будете заниматься поиском.
— Не думаю, — откликнулся Князев. По его данным, оба никуда не выезжали, новых знакомств не заводили
— А не повторить ли обыск, — предложил Саблин. — Если, скажем, мы не найдем ее в доме и на участке, тогда не поискать ли икону у старых подружек Вдовиной? Все они верующие. У каждой в доме своя божница. Так почему бы не спрятать икону в такой божнице? А почему спрятать? Да потому, что не достойна дочь такого подарка: замуж за битюга пошла, родной матери не послушалась. А подружка — человек верный, на чужое добро не польстится.
— Мысль верная, капитан, — одобрительно сказал Князев, — так что и займитесь этим.
Днем Саблин и Веретенников пришли к Михеевым. Прихватили с собой в качестве понятых соседей.
— Опять с обыском! — раздраженно заметил Востоков. — Даже пообедать не даете.
— А вы обедайте, — сказал Саблин. — Мы пока и без вас управимся.
Он прошел в комнату Вдовиной. Открыл киот — треугольный шкафчик с иконами, — прощупал обитые бархатом стенки и, не торопясь, снял оклады с икон. Все это были ремесленные поделки прошлого века. Тусклые краски, померкший лак.
Веретенников прощупывал миноискателем стены. Наконец в простенке остановился.
— Есть! — радостно воскликнул он.
Саблин приставил к стене принесенную из чулана лестницу и заметил просверленные дрелью дырки в обоях. Именно здесь и просигнализировал миноискатель. Сняв метровый кусок обоев, инспектор тотчас же обнаружил выпиленный в досках, покрывающих бревенчатые стены дома, небольшой прямоугольник, забитый сверху тонким листом фанеры. Стамеской снял и фанеру.
— Вот и все, — сказал Саблин и оглянулся на стоявших у лестницы людей.
И сразу заметил: у Екатерины Михеевой даже лицо исказилось от волнения, а Востоков рванулся вперед, словно хотел свалить Саблина. Только Веретенников остановил его, схватив за плечо. Старший инспектор спокойно вынул из тайника плоский жестяной ящичек, поставит его на стол, открыл.
Плоская коробка была пуста.
— Что здесь хранилось? — растерянно спросил Саблин.
Михеева ответила также растерянно:
— Не знаю. Это мать что, — то от нас прятала.
Востоков, сжав зубы, угрюмо молчал. И Саблин, естественно, ни о чем уже не спрашивал. Понимал, что более ему ничего не скажут. А обыск заканчивали тщательно, но уже без энтузиазма. Знали, что главное сделано: тайник обнаружен, и было ясно — для чего он предназначался. Видимо, Вдовина в последний момент передумала. Доски выпилила, подходящую часть двух бревен выстругала, чтоб углубить тайник, забила его фанерой и оклеила стену обоями. Зачем? Может, испугалась, что тайник будет все-таки обнаружен. Не доверяла ни дочери, ни пасынку, если он к тому времени уже появился в квартире. Да и муж дочери был опасен. Так размышлял Саблин, уже догадываясь, что икону следует искать в другом месте. И ясно стало, что вся эта преступная троица, даже зная о тайнике, не ведала, что он пуст.
— Что ж теперь делать будем? — спросила Михеева, проводив незваных гостей.
Востоков молчал. Ярость все еще клокотала в нем.
— Может, щи подогреть? Ведь не обедали же.
— Какой тут, к черту, обед! Я в себя никак прийти не могу. Как твоя мать нас надула!
— А кто знал? Хорошо еще, что мы до милиции тайник не трогали! А если бы он был полон?
— Где ж теперь искать ценности будем? В доме их нет. Два обыска было, и ни шиша не нашли.
— Где-нибудь хранятся. Только где?
Востоков молчал. Он думал. Искал ниточку. А следователи небось тоже ищут. И найдут, если он с Катериной промажет.
— Значит, она пустую коробку спрятала, — наконец сказал он. — Нас, что ли, хотела обмануть? Или в последний момент передумала? Должно быть, так. Выходит, кому-то отдала на хранение? Мужику не отдала: пропьет. Значит, бабе. Были ведь у нее дружки-подружки?
Задумалась и Екатерина.
— С кем-то в хоре шушукалась. Васса, кажется, была — Огуревна по прозвищу. Нинка-молочница. Чувыриха-богомолка, не помню фамилии. Клавка-просвирница. Просвирки пекла и потом продавала. Я почти их не помню: в школу еще бегала. Да и не поют они уже. Какие голоса у старух?
У Востокова мысли роились быстрее.
— Вот что, сестричка, — сказал он, загибая на руке пален за пальцем. — Адреса их всех завтра же вызнай. Спешить нам надо, пока угрозыск не догадался…
— Я к Чувырихе пойду, адрес-то я ее знаю. Ей, пожалуй, мать могла довериться: десять лет назад они как друзья-неразлучники жили.
— А если не доверилась?
— Тогда по адресам пройду. У дьяконицы спрошу: где кто живет. Она все про всех знает.
— Главное — поспешить, — повторил Востоков.
Фамилия Чувырихи была Чувырина, а имя-отчество — Авдотья Тихоновна, Об этом сказала она сама — старушка годами за семьдесят, со сморщенным лицом и с жидкими, голубовато-седыми, скрученными в пучок волосами.
— А я тебя, милочка, с малых лет помню, когда ты еще в детских платьицах бегала. Давненько не виделись. А за то, что о старухе вспомнила, спасибо скажу. Слыхала и о горе твоем Жалко мать небось. Ведь ни за что, ни про что отдала богу душу.
— Мне и Василия жалко, — поставила Екатерина точку, снимая вину с Михеева.
Но старуха не согласилась.
— Убивец он, твой мужик. Яко зверь в нощи.
— Да ведь нечаянно он, — смутилась Михеева. — В сердцах был. Ну и подвела рука. Думаю, и на суде это учтут.
— Ты простила, а бог не простит. Все господь видит: и доброе, и злодейское.
Не понравилось Михеевой такое начало встречи. Захотелось снять эту накипь. Не проповеди ждала она от Чувырихи, а доброго ответа на свой главный вопрос. Не здесь ли хранятся отцовские ценности? Прямо так и спросить? Обидится. Придется исподволь, издалека…
— Что это с вами, Авдотья Тихоновна? Я что-то давно вас в церкви не видела. Вот и зашла навестить: не захворали? Или случилось что?
— Я, милочка, всегда к обедне хожу. Всенощную долго стоять приходится. А ноги не держат.
— У меня к вам просьба есть. Невеликая, но памятная.
— В поминанье, что ль, записать? За упокой души? На похоронах я ведь не была: все ногами маюсь. А тебе стыдно! В хоре поешь, за здравие пишешь, а за упокой убиенной к боп не обращаешься. А я вот Марьяну-мученицу сразу же записала. И поминаю, конечно.
— Спасибо, Авдотья Тихоновна. Другое у меня дело. Не оставила ли мать у вас отцовский дар, мне предназначенный?
Старуха сразу умолкла, поджав тонкие без кровинки губы. И молчала так, должно быть, минуты две. А Екатерина ждала: скажет или не скажет? Только зачем ей держать церковную утварь, или кресты, или панагию с каменьями? Никакой корысти у нее нет, продавать не будет: верующая и богобоязненная. Но почему молчит?
Чувыриха сомневалась. Вспомнила слова Марьяны: «Спрячь у себя в киоте. А дочери отдашь после моей смерти. Сейчас недостойна она: в соборном хоре поет, а в бога не верит». И спрашивала себя старуха: отдать или не отдать? А вслух спросила для верности:
— На страстной седмице говела?
— Из церкви не выходила.
— И причащалась?
— Я православная, бабушка И крещеная, и богомольная. И в хоре по субботам пою на всенощной
Так уклонилась Михеева от ответа. Но старуха поверила.
— Есть дар отца Серафима. Храню.
И вынула из киота икону в окладе из серебра.
Трудно описать смятение чувств, охвативших Екатерину. Была тут и горечь обманутой в своих ожиданиях женщины, и сдержанный гнев против фанатично религиозного отца и поверившей ему матери, и жалость к пошедшему на убийство Василию, и страх перед обманутым вместе с нею Андреем.
— И это… все! — прошептала она, именно прошептала: голоса своего даже сама не слыхала
— А разве этого мало? — нахмурилась Чувыриха. — Чудотворная ведь икона. Не сумлевайся? Из новгородского подворья твой дед отцу Серафиму привез.
«Черта мне в ее чудотворности!» — хотелось крикнуть Екатерине Но сдержалась. Провела рукой по выпуклой серебряной ризе Хоть бы золотая была!
А старуха все говорила и говорила, словно ворожея недуг заговаривала.
— Древняя икона, девонька. Прадеды наших прадедов ее чтили и к ней прикладывались. И отец Серафим эту икону в Загорске у патриарха показывал. Только ты оклад не сымай — грешно. И Марьяна не сымала. Так для тебя и оставила. После смерти моей, сказала, отдашь дочери. Вот, значит, ее наказ я и выполнила.
В превеликом страхе вернулась Екатерина домой, молча протяну па пакет Андрею.
— Вот и все, что отец оставил, — произнесла шепотом.
Андрей молча развернул икону. Так же молча оглядел серебряный оклад, посмотрел, как он прикреплен к доске и, осторожно вынимая ножиком гвозди, снял инкрустированную ризу с иконы. На белом полотенце, окаймленное позолоченным венчиком, виднелось только лицо Христа. На удлиненном, писанном охрой лике горели, будто совсем живые, глаза. Печаль страдальческая светилась в них, доходя почти до экстатического напора. Узлы скрученного по углам полотенца были повязаны лентами, писанными густым кармином. Краски потускнели, поблекли, но все же сохранили свою первозданную красоту.
Андрей, все еще не произнося ни слова, долго рассматривал икону, то приближая ее к лицу, то отстраняясь, наконец сказал как бы сам себе:
— А ведь отец говорил, что это — сокровище… Может быть, и действительно так.
— И ты в это веришь?
— А почему бы и нет?
— Серебро на десятки рублей считай. Больше не выручишь.
— Почему? Раритеты в любом виде искусства есть.
— Не понимаю.
— Ну, раритет. Особо ценная вещь Диковинка.
— А кому ты продашь эту диковинку? Икона — икона и есть. Протоиерей и тот не возьмет. У него полный иконостас в соборе.
— Протопоп нам не потребуется Я в Москву продавать поеду. Старые связи порастрясу. Помозгуем.
— В Москву тебе не уехать. Узнают — следить станут.
— А я без огласки. Потихоньку.
Екатерина молча взяла икону. Поразглядывала и так, и этак. Хмыкнула. Андрей с презрением взглянул на нее.
— Ты когда-нибудь о Рублеве слыхала? — опросил он. — Ему в Третьяковке целый зал отведен. Я понимать, конечно, не понимаю в этом деле, но думку имею. Протопоп сокровищем лубок называть не будет. И еще. Мы теперь вроде чисты. Для милиции. Мы с тобой. Они ж сами видели: тайник не вскрывался, а там пусто. Кто камень кинет, что из-за корысти мать прибили? Не было корысти. Сличай был, как и задумано… А икону тебе Чувыриха сама отдала — как ей мать велела. Твоя она, и государству до нее интереса нет. Что хотим, то и сделаем. Хотим — продадим. Хотим — на стенку повесим. Для интерьера…
— Так чего ж тогда скрываться, а, Андрюша? — робко спросила Екатерина. — Раз икона-то наша, законная, то мы и продать ее законно сможем…
— Кому, дура? Музею? Много ль там за нее дадут?
— Как положено…
— Как положено, — передразнил ее Востоков. — Дорого продать — вот что сейчас главное.
— А кому?
— Кому — подумаю. Для того и в Москву тронусь.
Чувыриху старший инспектор отыскал уже после того, как обошел Огуревну и Нинку-молочницу.
— Была у меня эта икона, сынок. Принесла мне ее Марьяна с благословения отца Серафима. Сохрани, сказала, ее у себя в божнице, пока живу. А после отдашь, когда я спрошу или дочь придет, если меня не будет. Вот так и случилось. И Марьяны нет, и дочь пришла за иконой.
— И вы отдали?
— Отдала. Вчера и отдала. Вечерком после всенощной.
Ничего больше Саблин не спрашивал. Да и незачем: ведь икона-то есть. И где находится сейчас, известно. Что же делать ему, Саблину? Просить санкцию на арест Востокова и Михеевой? А на каком основании? За то, что у них в руках музейная редкость? А если эта редкость, будучи собственностью отца Серафима, вполне законно, как дар, перешла в собственность Марьяны Вдовиной, а от нее к дочери, Екатерине. Тогда ты скажешь прокурору, что арестуешь их, как соучастников злоумышленного и заранее запланированного убийства Вдовиной. А есть ли у тебя, товарищ Саблин, достаточно веские доказательства такого убийства? Есть, товарищ прокурор, есть мотив заранее задуманного убийства. Из-за желания овладеть раритетом высокой, даже очень высокой ценности. Тогда мотив не в самой иконе, Саблин, а в ее рыночной стоимости. Вот и проследи пока ее путь…
С такими сомнениями и пришел Саблин к Михеевой. Ему долго не открывали, так что пришлось позвонить вторично и не отпускать кнопки звонка, пока не открылась дверь.
— А к вам и не попадешь, Екатерина Серафимовна, — сказал он, заглядывая в дверную щель. — У меня вопрос есть.
— Ну, входите, если за делом пришли, — сказала Михеева, пропуская Саблина в комнаты.
— А я к вам от Чувыриной Авдотьи Тихоновны.
— Дознались все-таки? — зло откликнулась Михеева, — Обознались, товарищ инспектор. И у Чувырихи я не была, и не то что икону, рожу ее сейчас не помню. Доверчивый вы человек, товарищ инспектор. Мало ли что Чувыриха могла вам набрехать.
— А где ваш брат сейчас, Екатерина Серафимовна? — спросил Саблин.
— В Москву уехал. Дружок на свадьбу пригласил.
У Саблина даже горло перехватило: еще одна неудача…
В кабинете начальника уголовного розыска собрались Саблин, Веретенников, Глебовский и Князев.
— Все прочли письменный доклад Саблина? — спросил подполковник.
— Все, — хором ответили.
Воцарилось настораживающее молчание. Каждый считал себя хоть частично, да виноватым: не уяснил себе, не подумал, не посоветовался, не подсказал. В результате сбежал преступник, которого даже никто из присутствующих не мог обвинить в том, что именно он был душой заговора.
Начал Князев, которому надоело это молчание.
— Осторожничаете, товарищи, боитесь правды. Я читал твою записку, товарищ капитан. Не один ты виноват — все виноваты, и я в том числе. Первая ошибка: рано поверили в порядочность Востокова и Михеевой. Во-вторых, зря провели вторичный обыск в присутствии обоих: это показало им. где был тайник. И то, что пуст он, тоже им на руку. Они начали свой поиск и преуспели в нем раньше нас. А теперь за что нам Востокова задерживать? Икона — наследство. Они на нее по закону право имеют.
— Он же ее продавать поехал! — не сдержался Саблин.
— А куда? Вдруг в Третьяковку?
— Да в какую Третьяковку! Что он — святой агнец?
— Поднабрался ты, Саблин, терминологии… — усмехнулся Князев. — Конечно, Востоков не агнец и в Третьяковку икону не понесет. Будет искать связь со спекулянтами, пустит ее «плавать», как говорится. И может она таким образом «уплыть» за границу. Придется тебе, капитан, ехать в Москву, в Министерство внутренних дел.
Подполковник соединился с Москвой и попросил к телефону генерала Стрепетова.
— Иван Палыч, это Князев приветствует… Ничего себе, помаленьку… Да нет, не для встречи, я по делу звоню. Помощь потребуется… Да, дорогое дело… У нас в нем капитан Саблин задействован… Нет, не о том речь. Похищение иконы четырнадцатого века очень высокой художественно-исторической ценности. Есть предположение, что икона в Москве и, если мы прозеваем, может уплыть за границу. Саблин сегодня же выезжает в Москву и расскажет все, что ему известно…
Подполковник положил трубку и заключил:
— Все свободны, товарищи. А ты, капитан, оформляй командировку и выезжай с первым же поездом… Генерал Стрепетов тебя примет и поможет. Поспешай!
Все произошло так, как и предполагал Князев. Генерал Стрепетов внимательно выслушал подробный рассказ инспектора о поисках редкой иконы четырнадцатого столетия, известной под названием «Спас нерукотворный». При этом Саблин добавил, что, по сведениям уголовного розыска, эта музейная редкость находится сейчас в Москве и не исключена возможность продажи ее какому-нибудь крупному спекулянту, связанному с зарубежными коллекционерами. Описал Саблин и саму икону.
— Понятно, — сказал генерал. — Князев умеет подбирать кадры: вы прямо специалист по иконописи… Подключим к поисковой группе тоже специалистов своего дела.
И подключили. Таких специалистов оказалось двое: полковник Сербии и старший лейтенант Симонов.
— Словом, четыре С: Стрепетов, Сербии, Саблин и Симонов, — пошутил генерал. — Сербии возглавляет группу в контакте с Петровкой, тридцать восемь, и железнодорожной милицией, Симонов прощупывает всех законспирированных фарцовщиков и спекулянтов, а Саблин устанавливает тождественность иконы. Для этого придется вторично связаться с преосвященным профессором из Загорска.
Совещание участников поисковой группы было недолгим.
— Убийство и все с ним связанное — это ваше домашнее дело, — резюмировал Сербии. — Сейчас же у нас с вами другая задача: найти икону и не дать ей уплыть за границу. Генерал сказал, что похититель ее вам известен. Следовательно, попадаться ему на глаза вам не годится. У вас есть его фотокарточка?
Саблин извлек из бумажника два любительских снимка.
— Ладно, сойдет, — согласился Сербии и передал снимки Симонову. — Покажешь Климовичу и Безрукову. Может быть, они опознают.
— Надо и Лысому показать. Без Лысого он на крупных фарцовщиков не выйдет, — сказал Симонов.
— Кто же этот Лысый? — заинтересовался Саблин.
Сербин улыбнулся, переглянулся с Симоновым и ответил:
— Антиквар. Собиратель ценнейших редкостей. У него есть многое, в истории отмеченное. Я, например, видел у него и скрипку, сделанную самим Амати, и медаль, выпущенную в честь польского маршала Понятовского, и жемчужное ожерелье, подаренное Людовиком Четырнадцатым одной из своих фавориток, и еще кое-что, столь же редкостное. К нему, капитан, все фарцовщики бегут, когда услышат о какой-либо исторической редкости.
— А на какие же средства он живет?
— На пенсию. Она у него достаточная для непьющего старика. Да и редкости свои продает помаленьку. Всех московских фарцовщиков поименно знает и о любой «плавающей» редкости в первую очередь узнаёт. И о твоей иконе, наверное, слышал.
К Лысому поехали в первую очередь, благо он жил неподалеку, в одном из новых домов на улице Горького. Поехали вдвоем — Саблин и Сербии, захватив с собой один из фотоснимков Андрея Востокова, — другой остался у Симонова, отправившегося на поиски Климовича. Безруков же, названный третьим в списке поименованных Сербиным лиц, как выяснилось по телефону, отдыхал где-то на черноморских курортах.
Дверь им открыл сам хозяин квартиры, может быть, и удивившийся, но сумевший сразу же скрыть удивление в радостном возгласе:
— Всегда рад вас видеть, Илья Сергеевич. Надеюсь, вы не с дурными вестями?
— А это мой коллега, капитан Саблин Юрий Александрович, — представил инспектор Сербия. — Если по костюму судить, вы не в добром здравии?
Одинцов был в черном шелковом халате, подбитом ватином и перевязанном толстым шнурком с кисточками. Высокий, худой, не старый еще. но уже постаревший человек.
— Чем обязан? — спросил Одинцов, усадив гостей.
— Не знаком ли вам этот человек? — Сербии протянул хозяину фотоснимок, на котором Востоков был снят, когда он прохаживался по улице.
Одинцов нагнулся над снимком, и Саблин увидел лысину у него на затылке. Небольшую, но круглую, как выбритая тонзура. Отсюда и прозвище, подумал он.
— Нет, не знаком, — отрицательно мотнул головой Одинцов, возвращая полковнику снимок. — Никогда не встречался с ним и, надеюсь, не встречусь.
— Не убежден. Вполне возможно, что этот человек обязательно заглянет к вам. Он привез в Москву диковинку, которая, быть может, заинтересует и вас. А сейчас ею заинтересовались мы.
— Сожалею, но помочь не могу. А что это за диковинка?
— Очень редкая икона четырнадцатого века «Спас нерукотворный», — вмешался Саблин.
— Рублев?
— Почта… Возможно, его учитель, Прохор из Городца.
— Значит, не просто редкость, а суперредкость. Кто-нибудь видел эту икону?
— Профессор иконописи духовной академии.
— И оценил, конечно. С такой иконой надо в Третьяковку идти. Или в Русский музей в Ленинграде.
— А она дорого стоит, эта диковинка? — спросил Саблин.
Ему очень хотелось, чтобы Лысый назвал ей цену, но тот почему-то увильнул от ответа. Только заметил неопределенно:
— Тряпичные фарцовщики икон не берут. Джинсы проще продать и купить. Рыночная цена известна. Десяткой больше, десяткой меньше — ни продавец, ни покупатель спорить не будут. Не разбогатеют и не разорятся. А для икон счет особый. Для коллекционеров-любителей он уже на сотни идет, а бывает, что и на тысячи, смотря какая диковинка. Только думаю, что она у вас краденая… Тогда продавец к знатоку не придет. Или рискнуть побоится, или способ найдет, чтобы ее за границу сплавить. Ну, а если ваш молодчик ко мне нагрянет, я все выясню: кто и что, куда и откуда.
Когда тема исчерпана и разговор иссякает, приходится прощаться с хозяином. Так и поступили гости, ничего не выудив у хитреца Лысого. Теперь их интересовал только Симонов, поехавший на встречу с Климовичем. Встретились ли они и опознал ли Климович Востокова? Оказывается, опознал. Но Востоков не показал икону Климовичу. Рассказал, но не показал. А тот, естественно, не захотел даже приблизительно оценить «кота в мешке».
— А кто вывел его на Климовича? — спросил Сербии.
— Какой-то дружок его, а кто именно, не сказал.
Саблин слушал в раздумье. Молчал и Сербии. Долго молчал, что-то обдумывая. А потом вдруг заговорил:
— Востокова-то мы найдем. Проверим гостиницы, поспрошаем в ресторанах: где-нибудь он же обедает. Но вот что меня беспокоит. Почему он не показал икону Климовичу? Может быть, потому, что выход был пробный: искал покупателя побогаче? Допустим. Однако можно предположить и другое. Кто-то вывел его на первого же покупателя только потому, чтобы узнали и заинтересовались тем, что в Москве «плавает» редкостная древнерусская икона. Правда, мы сами пустили этот слушок через Лысого. И я сделал это сознательно потому, что все еще не верю ему. Затаился мужик в ожидании крупной аферы. Тройная игра: нам информация, а ему комиссионные с продавца и покупателя. Проиграют только последние, а у него чистый выигрыш. Продавца посадят, зарубежного купца-антиквара вышлют, а икона у нас останется, где ей и положено быть. Ну а его комиссионных никто не взыщет. Поди докажи — свидетелей не было, а деньги уже в сберкассе лежат. Значит, товарищи, так: со всей троицы глаз не спускать…
Востоков обогнал Саблина на двое суток.
Остановился он в «Киевской» в двух шагах от вокзала. На отдельный номер рассчитывал твердо: старый приятель-портье обещал, что не подведет. И не подвел, получив четвертную за услугу. Сговорились, правда, и о другом. Востоков просил свести его с кем-нибудь понадежнее из спекулянтов-фарцовщиков, «специализирующихся» на антиквариате. И это было обещано. Так Востоков в тот же день еще ближе подошел к предпринятой им афере.
Ей предшествовал всеисчерпывающий деловой разговор за обедом. Угощал Востоков. Кабинетно. Не прижимисто, но и без купеческого размаха. К разговору приступили, как только вышел получивший заказ официант.
— Для твоей иконы годится просто коллекционер или нужен собиратель редкостей? — спросил портье.
— Кто лучше разбирается и больше заплатит.
— Потребуется экспертиза. А это гласность. Рискнешь?
— Один профессор духовной академии оценил ее как сокровище. Так называли ее и в нашей семье. Но мачеха, религиозная баба с придурью, почему-то скрывала икону от нас. Сейчас мы с сестрой ее обнаружили. Словом, древняя фамильная легенда. Долго рассказывать, да тебе и неинтересно. Требуется, в общем, знаток иконописи.
— Есть и такие, Андрей. Назвать не могу, но знаю, что есть И с деньгами Есть такие, кто за Рублева, например, целый капитал выложит. Но есть-то есть, да не про мою честь. В знатоках не хожу, и клиентура у меня преимущественно «нательная». Джинсы, дубленки, меха. Если бы ты мне сейчас норковое манто предложил, я бы в два счета нашел покупателя. С любой надбавкой. А в твоем деле, по-моему, надо бы так. пробный выход устроить Выйти на купца запросто, без товара. Но информацию о нем точную выложить, как объявление в «Вечерке». А он твое «объявленьице» как верный слушок продаст.
— Нельзя мне долго ждать, корешок Седмицу еще смогу, как бывало отец мой говаривал, а больше не вытяну.
— А я тебе больничный лист устрою. Скажем, сердечный приступ. Сойдет?
Официант уже накрывал на стол, а Востоков еще не дал ответа Подождал, когда официант снова исчез.
— Рискнем, пожалуй.
— А на Климовича я тебя все-таки выведу. Тут даже пробный визит тебе не повредит.
— Что это за птица, твой Климович?
— Синичка-невеличка, но то, что нам нужно, сделает…
Климович, тотчас же опознавший Востокова на предъявленном ем\ любитечьском снимке, рассказал инспектору уголовного розыска Симонову об этой встрече далеко не все и не так, как это происходило в действительности
А было гак.
Недовольство пробным, «бестоварным» визитом Востокова было искренне, но не столь откровенно. Внешне он держался сдержанно, даже с холодком, но предложение клиента его заинтересовало. Авантюра клиента пахла тысячами, может быть, и десятками тысяч — упускать ее явно не стоило. Тут с одних «комиссионных» богачом станешь, если провернешь это дело разумно и осторожно. Нет «товара» — понятно Значит, надо начинать с серьезного разговора. И он его тут же начал:
— А откуда у вас такое богатство? Вы не обижайтесь, но если это музейная ценность, то каким путем она стала вашей?
Востоков рассказал об иконе все, что знал, и почти без вранья. Помолчал минутку—другую и про заокеанского гостя добавил, хорошо бы, мол, такого гостя найти. И спрашивать ни о чем не будет, и настоящею цену даст. Тут и родилась у Климовича идея, о которой он Симонову не упомянул. Найдет он такого гостя. Только обождать надо
Так он и сказал Востокову. Тот поморщился.
— Время не ждет, деляги.
— Подождет, ежели не поскупимся. Не минуты считать будем и не часы. Процент будем считать. Ему один, мне два—три, коли не пожадничает.
— Если счет на рубли пойдет, я выключаюсь, — вмешался портье.
— Ну и дурак, — сказал, как отрезал, Климович. — Это с сотни рубль не деньги. А с тыщи — десятка. Ну а если с десятка тысяч, пахнет сотенной. Такая арифметика уже подходит. Верно говорю? Только о процентах пока не договариваемся. Серьезный разговор пойдет, когда покупатель появится.
На этом и порешили. А проводив гостей, Климович задумался. Не обманул ли его клиент своей сказкой о древнерусской иконе, якобы полученной им в наследство от протопопа-отца? Не украдена ли она в каком-нибудь периферийном музее? И не подделка ли это, сварганенная искусным мазилкой под византийскую старину? Экспертиза, конечно, потребуется негласная, но безошибочная, экспертиза профессионала и знатока, а такой человек у него есть…
Климович поискал в записной книжке номер телефона, еще раз продумал все уже обдуманное и позвонил.
— Лев Михайлович? — начал он, услышав ответное «алло». — Вас Климович приветствует Кли-мо-вич. Я вам сейчас напомню. Мы познакомились у Королькова за джином. Рядом с вами сидела моя жена, далее я. Припоминаете? Да, да. Совсем еще молодая брюнетка. Вы ее серьгами заинтересовались. Китайские, да. Старина-матушка, чистый антиквариат… А почему вам звоню? По делу, конечно Вы ведь знаток и ценитель редкостей. Такие байки выдавали — дух захватывало. Так вот: выплыла сейчас в Москве икона Не собираете? Знаю. Только мне ваш совет нужен. Что за икона? Старинная, древнерусская. Нет, не Рублев. Не то его учитель, не то ученик… Посмотреть можно, но собственник пока ее не показывает. Знаток требуется. Не телефонный разговор? У вас? Конечно, могу.
Все это происходило за пару дней до приезда в Москву Юрия Саблина И опознать Востокова по предъявленному ему фотоснимку Одинцов, конечно, не смог. Но о разговоре с Климовичем он своим гостям из уголовного розыска ничего не сказал.
А разговор был для них небезынтересный.
— Такая икона, если не подделка, больших денег стоит, — сказал Одинцов. — У вас таких денег нет. И покупателя тоже нет. На комиссионных работаете?
Скрыть это от Лысого Климович, конечно, не мог. И без антиквара найти даже теоретически возможного покупателя он тоже не мог. Пришлось обойтись без вранья.
Одинцов выслушал, улыбнулся и сразу же не по-дружески, а по-барски перешел на «ты».
— Тут, если собственник не вор в законе и даже не мелкий жулик, а просто фрайер, тебе и полпроцента на банкет хватит. А фрайер твой все одно на меня выйдет. Так что будь доволен тем, что я тебе еще полпроцентика отвалю. А приведешь ты его ко мне, скажем, через неделю. И не криви морду, красивей не будешь. А твой иконовладелец без меня своего покупателя не найдет, потому что на Огарева, шесть, меня знают и уважают. Я, друг ты мой, никогда и нигде ничего не украл ни у государства, ни у частника. А если и вызывают меня повесткой, то лишь для консультации: я многое знаю и многих знаю и могу государству помочь, когда оно в том нуждается. Ну, а если и грешу иногда — кто ж из нас без греча? — то грех этот закона не нарушает. О нем даже знать могут и не наказывают, поскольку даже грех мой иногда полезнее, чем круглая безгреховность. На этом и поладим, коллега, а через недельку и завершим задуманное.
Но поехал он не домой, а в гостиницу, где, как полагал, жил хозяин иконы Число участников завязавшейся вокруг нее авантюры с появлением Лысого, увеличивалось. Изменялся и характер самой авантюры. В общем, следовало бы обсудить: сумеют ли они обойтись без Лысого, который нахально обещает провернуть это дело в неделю максимум. Максимальной тогда будет и надбавка к цене иконы, а точнее — их комиссионные, которые теперь придется делить уже на троих. При этом делить будет Лысый, а они только поддакивать. Отказываться неразумно, так как Лысый берет все на себя, в том числе и риск, и хлопоты, и необходимую экспертизу.
Когда Климович добрался до гостиницы, холл был пуст. Только портье говорил по телефону. Говорил не сдерживаясь, и первые же услышанные Климовичем фразы буквально подкосили ею ноги.
— …ничем не могу вам помочь, товарищ полковник. Он прожил у нас три дня и выбыл… Куда? Не знаю. Может быть, из Москвы уехал, а может, снял где-нибудь комнату… Я понимаю, конечно, но мы таких вопросов нашим постояльцам не задаем…
Портье положил трубку и тотчас же поднял другую, от телефона внутреннего.
— Андрей, — сказал он тихо, — собери все свое барахло и дуй вниз с чемоданом. Быстренько, быстренько… Идиот! На кой черт я буду тебя разыгрывать! Звонили из МВД, какой-то мент интересовался, проживаешь ли ты у нас. Ну а я ответил, что ты уже выехал. Да уж куда-нибудь пристроим. Есть идейка. Самое главное для тебя сейчас: немедленно уехать из гостиницы.
Он огляделся вокруг: холл был по-прежнему пуст. Он мигнул Климовичу: подойди ближе.
— Ты с машиной? — опросил он шепотом. — И жена все еще на курорте?
— Все точно, — шепнул в ответ Климович. — А дальше?
— Посели его у себя пока. А там видно будет.
Уже двое суток провел, не выходя из дому, Востоков, равнодушный к метражу и наимоднейшей обстановке трехкомнатной квартиры Климовича. Прожил и сблизился с хозяином. Сближала общность интересов и судеб. Оба писали в анкетах: «высшее не закончил», и у обоих склонность к приобретательству переросла в алчность. И окончательно сблизила их схожесть работы: оба стояли за прилавком комиссионных магазинов.
Востоков лениво бродил из комнаты в комнату, тщетно подыскивая себе какое-нибудь занятие. На книжных стендах он не разбойничал: Климович собирал только старые книги, преимущественно приложения к дореволюционным журналам «Вокруг света» и «Родина», а также пятикопеечные выпуски «Ната Пинкертона» и «Пещеры Лехтвейса». Чтение, даже лубочное, не привлекало Востокова. Мучила неизвестность дальнейших судеб: и его самого, и сокровища. Страх перед тем, что затеяли Климович и портье из «Киевской», неведомая цена иконы и недоверие к новому поколению фарцовщиков. Старых он, правда, искал, еще живя в гостинице, но безуспешно: кто «завязал», кто сидит. А здешние что-то тянут, из дому не выпускают, все уголовкой пугают.
За дверью кто-то долго и пронзительно позвонил, Востоков струхнул: не за ним ли? Звонок повторился. Востоков рискнул открыть.
За дверью стоял начавший уже тучнеть человек с обвисшими, как у бульдога, щеками.
— Вы гость, — сказал он Востокову, окинув его острым всепонимающим взглядом. — А где же хозяин?
— Обещал быть в четыре дня. — Востоков отступил, впуская незнакомца.
Тот вынул из жилетного кармана старинные золотые часы с крышкой, открыл ее, сказал вполголоса:
— Сейчас без четверти четыре. Я подожду у него в кабинете.
Востоков, все еще недоумевая, пропустил его по-прежнему молча и остановился у двери.
— Разрешите представиться, — проговорил тот. — Одинцов Лев Михайлович. Антиквар по профессии и коллекционер по склонности. А вы почему не рекомендуетесь?
— Не успел еще. Я Востоков Андрей Серафимович.
Одинцов вдруг почему-то обрадовался.
— Значит, это вы икону принесли? — спросил он.
— Я, — смущенно признался Востоков. — Говорят, что у вас древние иконы высоко ценятся.
— Смотря какие. Высоко, если не подделка.
— Вы антиквар. Значит, и цену знаете. Минуточку, я сейчас покажу ее.
Он выдвинул из-под кровати чемодан, извлек икону без оклада и поставил ее на стул.
Одинцов тщательно оглядел ее, обошел кругом, легонько пощупал — не стираются ли краски — и молча шагнул к Востокову. Потом опять оглянулся, вынул из кармана большую лупу и долго-долго рассматривал стершиеся углы. Пожевал губами и крякнул.
— Тысчонок пять я бы за нее отвалил.
От неожиданности Востоков даже не мог ответить. Язык прилип к небу. А Одинцов тем же ерническим тоном спросил:
— Не слышу ответа, Андрей Серафимович. Так по рукам или нет?
— Я каждый день оцениваю принесенные мне в лавку вещи. Не мальчик. Это что же, розыгрыш по-московски?
Одинцов хохотнул.
— Не ошиблись, уважаемый. Между прочим, остроумно придумано: розыгрыш по-московски! Хотите настоящую цену? Так помножьте пять на три.
Лысый, как говорят рыболовы, бросал подкормку. Покупать для себя он и не собирался. Он пробовал клиента на твердость.
Востоков задумался. Одинцов, как ему показалось, уже не шутил. Неужели так оценивал свое сокровище и отец? Не верится. Значит, надо торговаться, как на базаре.
— Не выйдет, — сказал он мрачно. — Бросовая цена, Лев Михайлович, У нас пока еще нет инфляции.
— Биржи тоже нет, уважаемый. И рубль не падает.
— А вы знаете, сколько за Рублева государство платит? Государство! И за сколько его за границей на аукционах оценивают?
— Так ведь это не Рублев, а подделочка. Древнее подражаньице, согласен. Но все-таки подражаньице. А пятнадцать тысяч — цена немалая. «Волгу» купите.
— Вот и покупайте себе «Волгу», если у вас есть такая возможность, — отрезал Востоков н уложил в чемодан икону.
— Не сторговались? — усмехнулся стоявший у двери Климович. Он уже несколько мин\т стоял так, прислушиваясь к разговору.
— Я ему пятнадцать косых предлагал, а он морду воротит, — нашелся Одинцов.
Пятнадцать косых, подумал Климович. Для комиссионных, нам и десяти процентов мало. Значит, и ему, Климовичу, и Лысому, и корешу из гостиницы выгодней завышать рыночную цену иконы и не настаивать на бросовой. Интересно — какую цену назовет сам Востоков?
Этот же вопрос задал Лысый.
— Тысяч пятьдесят, по крайней мере, — ответил Андрей.
Переглянувшись, все вдруг замолчали. Каждый думал о том же, что и сосед. Во-первых, требуется экспертиза, чтобы гарантировать нужную сумму. Для того, кто сможет снять с текущего счета такую или большую сумму. А тот, кто может дать пятьдесят тысяч, способен раскошелиться и на все шестьдесят., Для комиссионных такой расчет всех троих вполне устраивает. Следовательно, можно согласиться с Андреем и принять его условия. Ведь они ничем не рискуют.
— Вот так, — оборвал молчанку Востоков. Любая пауза пугала и тяготила его. — Вы подумайте пока, а я пойду полежу. Устал что-то… — И улегся беззастенчиво.
Климович и Лысый вышли в другую комнату.
— Зачем ты ко мне притащился? — спросил Климович. — Полгорода на метро ехать. Ведь ты даже, не знал, что Андрей у меня живет.
— Моя удача, — отмахнулся Одинцов. — По крайней мере товар увидел и цену узнал.
— А что молчишь? Цена не нравится?
— Почему? Для комиссионных отличная.
— Если покупатель найдется.
Одинцов ответил не сразу.
— Вот я и думаю о том, что выгодно мне.
Последнее слово он подчеркнул в недружеской интонации. Перед Климовичем сидел не сообщник, а конкурент.
— Не рано ли раскрываетесь, Лев Михайлович? — сказал Климович. — Что ж получается? Свой своего за рублевку продаст.
— А если куплю я, за что вам комиссионные платить? Еще древние римляне говорили: хомо хомини люпус эст. Ты латыни не изучал, так переведу. Человек человеку волк.
— Латыни я действительно не изучал. Но по-русски тоже изреченьице есть: с волками жить — по-волчьи выть. И если двое выходят из игры, банк снимает третий. Я не личность имею в виду, а ведомство.
— Понял. Что ж, и втроем поиграть можно…
— Без экспертизы не поиграешь.
— А если найдется?
— Гайки подкручиваете. У вас таких денег нет. Ни в кармане, ни в сберкассе.
— Но эксперт имеется. И комиссионных не потребует.
Климович задумался. Кого Лысый имеет в виду? Безухова нет в Москве Жук в свалку не полезет. Может быть, Король? Но Корольков после отсидки на даче прячется Если и фарцует, то по-крупному и только наверняка. У Лысого связь с ним есть. Наверняка есть Но возьмется ли он?
— Не возьмется. Слишком запуган, — подумал он вслух.
— Ты о ком? — вздрогнул Одинцов
— О Короле. Вы только о нем и думаете.
— О ком же еще? Фирмач отменный И доскарь к тому же. Если заинтересуется, лучшего эксперта по иконописи даже искать не нужно.
— Есть только одно «но», Лысый… — Климович нарочно прибегнул к кличке, чтобы подчеркнуть их равную профессиональную ценность. II сделал паузу, чтобы проверить, как примет ее Одинцов. Но тот либо не заметил, либо сделал вид, что не слышал. Только спросил недовольно:
— Чего тянешь? Какое «но»?
— А не продаст?
— Этот своих даже за тысячу не продаст.
— А если за пять или десять?
— Надбавка в перепродаже естественна. Хоть для своего, хоть для чужого.
— Я о другом говорю. Если он в перепродаже валютой возьмет…
— Нам-то что? С нами он по-свойски рублями расплатится. И для твоего Андрея рубли у него найдутся. А сам плеть фунты или доллары копит. Не страшно.
Климович опять помолчал. Ему было страшно.
— Рисковое дело, — наконец сказал он. — В сообщники попадем. Не хочется связываться.
— Не бей в колокола раньше обедни. Эксперт по доскам нам все равно требуется.
— Вот мы и получили с вами, Слава, хороший урок от вашей жены, — сказал Сербии, только что проводивший Ирину к ожидавшей у подъезда машине.
— При чем здесь вы, — нахмурился Симонов. — Это я сболтнул…
— Вчера Востокова на Калининском видели, — начал Саблин. — Поел мороженого в кафе. Купил батарейку для карманного фонаря. По-моему, он так просто гулял. Иконы у него по было.
— Я получил указание смотреть за Лысым, — подхватил Симонов. — В три часа он поехал к Лешке Климовичу. Час, должно быть, у него просидел. Потом Востоков ушел на ту прогулку, о которой рассказывал Саблин, а я поехал за Лысым Знали бы вы, куда он помчался!
— Догадываюсь. В Ашукнискую.
— Как вы угадали, товарищ полковник?
— А много ли в Москве крупных фирмачей осталось? Безухов на пляже в Пицунде пузо греет, Корольков на собственной даче отлеживается. Ведь осудили-то его без конфискации имущества. И оба уверяют нас, что «завязали» напрочно. А и ни тому, ни другому не верю.
Саблин воспользовался наступившей паузой.
— Разрешите вопрос, товарищ полковник?
— Пожалуйста.
— Где и как будет произведена развязка операции?
— Думаю, на даче у Короля. Вместе с товаром и с деньгами.
Корольков встретил Лысого на терраске, откуда он командовал Полиной, домработницей, собиравшей ему с грядок доспевшую клубнику. Стоял он в одних тросах в позе штангиста-тяжеловеса, готового поднять рекордный вес.
— Здоровеньки булы! — приветствовал он идущего от калитки Одинцова.
— Ты один? — спросил Одинцов.
— Кроме укротительницы Полины, мы одни в джунглях.
— Есть разговор, — предупредил Одинцов.
— Что ж, отправим Полину на кухню, а сами займемся клубникой. Она ускорит работу мысли.
Он выслушал рассказ Одинцова об иконе, не перебивая и не комментируя, и только, когда тот умолк, спросил:
— Где икона?
— Пока у меня.
Воспользовавшись паузой, Одинцов рассказал о происхождении иконы, как она была пожертвована протоиереем своей сожительнице, как попала в руки Востокову…
— Значит, угрозыск в курсе?
— Там о ней знают, но никто не видал.
— Сколько он хочет?
— Пятьдесят тысяч. В советских ассигнациях.
Корольков усмехнулся, только в усмешливостн уже не было недоверчивости.
— Похоже на правду. Только ты почему-то умолчал о комиссионных… Сколько?
— Процентов двадцать.
— Почему ж так много?
— Потому что я не один.
— Сколько жуликов развелось!
— Хорошо жить всякий хочет.
Корольков внимал серьезно, говорил серьезно, ироническая ухмылочка исчезла.
— К тебе, Лысок, нет претензий. С липой или с каким-нибудь еще дерьмом ко мне не поедешь. Теперь жду с товаром. Кто еще в доле?
— Климович и один его корешок из гостиницы.
— Корешка можешь не привозить. С него и пятисотки достаточно. Климович — жук покрупнее. Его возьми. И вашего попа с иконой.
— Он не поп.
— А мне все равно: я неверующий. В общем, завтра после обеда.
Все приехали почти одновременно. Час в час. Все знали друг друга, знакомиться пришлось только Востокову. А чувствовал он себя неловко, даже страшновато, пожалуй. Апломб его как дождем смыло. Чемоданчик свой он поставил у ног и даже отойти боялся. Нашелся только хозяин. Присмотревшись к Андрею, он первым начал разговорное интермеццо.
— Ну, чаи, товарищи, распивать не будем. У меня для знакомства старое бургундское приготовлено. Импортное.
Востоков молча сел, без единой реплики отпил глоток бургундского, не глядя, подвинул ногой под стул свою «дипломатку», чтобы в любую минуту мог коснуться ее, и не сводил глаз с сидевшего рядом Королькова. Тот, конечно, заметил его маневр, но даже не улыбнулся и только мигнул Одинцову, как бы предостерегая его от грубости.
— А вашу икону поставим на диван. Недалеко и всем видно, — сказал он.
Но когда свет из двух окон охватил икону, Корольков помрачнел и щеки его еще более опустились. Он вышел из-за стола, почти бесшумно, на цыпочках обошел ее, подошел ближе, снова отошел.
— «Нерукотворный Спас», — прошептал он.
— Почему нерукотворный? — спросил Климович.
— Не сотворенный руками, а чудом запечатленный. Так, по крайней мере, утверждает легенда.
Помолчали, выжидая, что еще скажет Король. Он, все не отрываясь, смотрел на икону. Одинцов не выдержал.
— Что скажешь? — взорвался он. — Ждем твоего заключения, мастер.
— Не Рублев. Слишком резкая контрастность. И нет рублевских высветленных тонов. Больше похожа на феофановскую школу. Хотя и не подлинник… Скорее смесь Рублева и Грека. Подражание византийской палитре. На какой сумме настаиваете?
Андрей опустил глаза, заметил бургундское и выпил.
— Позавчера просил пятьдесят, — сказал он. — Но цены растут.
— На сколько же они выросли? — На двадцать пять минимум.
— Столько вам за эту мазню никто не даст.
— Наши не дадут. Но можно найти подходящего клиента.
— Иностранца? Так у нас с ними контакта нет. И вам его не рекомендую. По исправительной колонии скучаете?
— Поставлю условие: не валютой.
— Кому вы будете ставить условия? Если не возьму я, вы никого не найдете. И учтите. Вам еще придется выплатить двадцать процентов комиссионных.
— Кому?
Корольков показал на соседей.
— Вот им. Полагаю, что они не из любви к вам покупателя подыскивали.
— С какой стати я буду с ними делиться?
— Заставят.
Андрей все еще держал икону в руках, Положил на стол. Задумался.
— Хорошо, — сказал он. — Комиссионные вы сами им выплатите.
— Ладно. Мы не на рынке.
Корольков, даже не взглянув на икону, положил ее в правый ящик стола. В последний раз блеснул солнечный лик Христа. На фоне всеобщего молчания открыл ящик, полный пятидесятирублевых купюр.
— Считайте.
Андрею было неловко считать у всех на глазах банковские тысячные упаковки, А Корольков, усмешливо наблюдая за ним, добавил:
— Без ошибки. Вчера ровно пятьдесят с текущего счета снял. Ваш «атташе-кейс» не запирается? Так заприте.
Не отвечая, Востоков сложил все банковские упаковки в свою «дипломатку», застегнул ее и встал из-за стола.
— Я ваш «Москвич» возьму. Оставлю у подъезда. А вы с Климовичем доберетесь.
И ни с кем не простившись, вышел.
— Сколько ты в действительности снял с текущего счета? — спросил Одинцов у Королькова.
— Шестьдесят. Десятку для вас. Делитесь дома. И без скандалов…
— Удвоишь при перепродаже? — спросил Одинцов.
— Мое дело. В чужом кармане выручку не подсчитывай.
…На терраске их ждали три С: Сербии, Саблин, Симонов.
— К машине, граждане. Вы, Король, не забудьте икону. А Востоков отдельно поедет. В одиночестве…
— На этом и разрешите закончить, товарищ генерал, — заключил Сербии. — Все версии отработаны. Спекулянты задержаны. А икону пока возьмет Саблин. Она еще нужна ему.
— Хорошо поработал?
— Отлично.
— А не будете возражать, если мы отзовем его к нам из области?
— Буду рад.
— Одна помеха, товарищ генерал, — сказал Саблин. — Разрешите?
— Слушаю.
— Во-первых, Князев меня не отпустит, а во-вторых, мне грустно уходить от подполковника.
— Здесь у вас будет уже полковник. И если Князев вас ценит, он не будет мешать вам расти. А пока — возвращайтесь домой, доводите дело до конца. Успеха вам.
Князев вышел из-за стола. Прошелся по кабинету, обнял Саблина за плечи.
— С приездом.
— Спасибо. Как тут без меня?
— Вчера сознался Михеев,
Это была удача, которая меняла исход всего дела: теперь Востокову трудно будет устоять.
— Сопротивлялся?
— Не очень. Как узнал, что сокровище у нас, что это не золото и драгоценности, а всего-навсего иконка, так веришь ли, заплакал. Это, по-моему, и сыграло главную роль. А потом признался во всем.
— Значит, с очной ставки и начнем…
Катерина уже не плакала, просто терла сухим кулаком по воспаленным от слез и бессонницы глазам и не могла отвести их от мужа. Тот уже успокоился. Саблин внимательно следил за Востоковым. Тот сидел хмурый, безмолвный, поджав тонкие, злые губы. На что он надеется, взвешивал его судебные шансы Саблин. Даже если бы не существовало признания Михеева, приговор Востокову уже вынес бы сам Прохор из Городца. Ведь не торгуясь и не раздумывая, снял Корольков шестьдесят тысяч рублей со своего текущего счета. Он просто знал, что играет наверняка.
Что еще есть против Востокова? Слова свидетельницы, слышавшей разговор о сокровище. Показания Лысого, кому сгоряча открылся Андрей. Лысый станет топить всех: ох, как не хочет он быть замаранным в перепродаже краденых ценностей!.. Сейчас у москвичей уже лежит акт экспертизы: цены «Спасу» нет, Третьяковка подтвердила.
Нет, есть цена, думал Саблин, и высокая: увидят работу Прохора из Городца люди, займет она свое законное место в экспозиции.
Два узла на белом полотенце…
Саблин усмехнулся: два узла в деле. Один — сама икона. Другой — Востоков. Распутаны они, хотя и вязали их накрепко.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |