"Тот, кто называл себя О.Генри" - читать интересную книгу автора (Внуков Николай)
ГЛАВА О Номере 30664, бывшем ковбое, провизоре, клерке и кассире Национального банка
Прокурор Юджи Максей протянул руку и нажал рычаг сифона. Струя содовой с шипеньем ударила в стакан. Ломтик лимона подпрыгнул и завертелся в белом водовороте.
Максей поднял стакан и, скосив глаза на заключение присяжных, положенное перед ним секретарем, отпил ровно половину. Потом вытер губы синим полотняным платком и встал.
— Леди и джентльмены! — сказал он звучным, хорошо поставленным голосом. — Мы, техасский уголовный суд, по ходатайству государственного ревизора Национальных банков, рассмотрели три предложенных нам дела, под номерами тысяча сто сорок восемь, тысяча сто семьдесят четыре и семьдесят пять, и установили, что подсудимый Вильям Сидней Портер, тридцати шести лет от роду, уроженец города Гринсборо, графство Гилфорд, штат Северная Каролина, виновен в растрате или присвоении восьмисот пятидесяти четырех долларов и восьми центов, принадлежащих первому Национальному банку города Остин.
Максей сделал паузу и посмотрел на подсудимого. Невысокий плотный шатен с длинными обвисшими усами безучастно сидел за своей загородкой. Прокурору показалось, что он даже не слышал его пышного вступления, а просто дремал, прикрыв ладонью глаза.
Максей откашлялся и повысил голос на полтона:
— Я, прокурор Юджи Максей, ходатайствую перед судом о заключении вышеуказанного Вильяма Сиднея Портера в каторжную тюрьму города Колумбус, штат Огайо, сроком на пять лет.
Шатен продолжал сидеть в той же позе. Не вздрогнул, не отвел руку от лица и даже не выругался, как делали другие.
Председатель, обращаясь к присяжным, спросил:
— Может быть, господа присяжные не согласны с моим ходатайством или с формулировкой приговора?
Двенадцать пальцев поднялось над зеленым столом присяжных, и кто-то проворчал:
— Какого черта, надо скорее кончать. Подохнуть можно от духоты.
— Согласен ли подсудимый с решением суда?
Шатен отвел, наконец, руку от лица и поднялся со скамьи. У него были серые глаза.
— Я согласен, ваша честь, — сказал он, слегка заикаясь. — Только прошу объяснить, что это за сумма — восемьсот пятьдесят четыре доллара. В докладной ревизора, как я помню, дело шло о трех тысячах.
Председатель любезно кивнул. Он мог не отвечать на этот вопрос. Но почему не сделать приятное осужденному в Колумбус? Пусть он унесет в ад хорошие воспоминания о техасских судьях. В конце концов они южане и настоящие джентльмены, не то, что какие-нибудь коннектикутцы или мичиганцы.
Дело о ссуде под расписку трех тысяч долларов прекращено еще в марте. Недостача в восемьсот пятьдесят четыре доллара была обнаружена после тщательной проверки записей в кассовой книге. Таким образом, возникли три новых дела.
Ага, понимаю, — сказал осужденный.
Может быть, вы хотите передать что-нибудь семье? — еще раз любезно улыбнулся председатель.
— У меня нет семьи.
Председатель ударил деревянным молотком по столу.
— Процесс окончен, леди и джентльмены. Прошу освободить зал заседаний.
Заскрипели отодвигаемые стулья. Публика потянулась к выходу.
Секретарь расстегнул ворот рубашки и покрутил шеей.
— Даже виски сегодня не идет, — сказал он. — Проклятая погода. Цены на хлопок опять упадут.
К осужденному подошел полицейский сержант.
— Идем, приятель. Все кончилось, — сказал он. Шатен послушно поднялся со скамьи.
Остинская пересылка временно помещается в здании бывшего хлопкового склада. Длинный коридор прорубает постройку вдоль. По сторонам коридора — клетки с дверями из железных прутьев. Вильяма заперли в одну из клеток в начале коридора, а рядом, в такой же клетке, — спокойный симпатичный парень из Эль-Пасо. Мексиканец-конокрад. Он почти все время спит. Наверное, отсыпается за бурные, бесприютные дни на воле. Вильям так не может. Что-то скверное творится с нервами. Хорошо, что у мексиканца большой запас крепких сигар и стены камер не доходят до потолка, сверху решетка, через которую легко перебросить что угодно. Вильям курит мексиканские сигары и ходит по своей клетке или сидит на циновке в углу.
Сколько времени уйдет у них на подготовку документов, день, два? Почему они не отправляют в Колумбус сразу после суда? Лучше уж сразу бы, одним махом, прямо в котел. И почему они не зажигают здесь свет, ведь на дворе уже ночь. Где стражник?
Билл подошел к двери и крикнул в темную пустоту коридора:
— О-гэй!
Темнота зашевелилась и спросила хриплым спросонья голосом:
— Что нужно?
— Свет, — сказал Билл. — Ради бога, зажгите свет.
— И чего тебе, парень, не спится?
Темнота откашлялась, потом загремела каким-то железом, и, наконец, под потолком вспыхнул и зашипел газовый рожок. Тени железных прутьев расчертили камеру косыми тусклыми полосами. Стражник, почесываясь, с любопытством заглянул в клетку Билла. Совсем молодой парень, безусый мальчишка с ленивой походкой.
— За что посадили? — спросил он. — Убийство?
— Да, почти, — ответил Билл, радуясь, что тишина кончилась.
— Выпивка, потом драка, потом сгоряча ты кого-нибудь пырнул ножом, верно?
— Свое прошлое, — сказал Билл. — Я прикончил свое прошлое. Тридцать шесть лет.
Стражник почесал за ухом, соображая.
— Куда ты приговорен?
— В Колумбус.
— Поздравляю, — сказал стражник. — Там с тебя спустят лишнюю шелуху. Как с яичка.
— Что такое Колумбус?
— Увидишь, — сказал стражник. — Скучать не придется. Как с вареного яичка, понял? Скучать не придется.
Он громко зевнул и ушел. Билл прилег на циновку.
Утром принесли завтрак — кусок теплого кукурузного хлеба, кружку кофе и ломоть плохо прожаренного бифштекса.
Через несколько минут перед камерой появился сержант. В руках он держал портфель.
— Все в порядке, Портер. Собирайся. Поедем на десятичасовом.
Я готов, — сказал Билл.
Стражник отворил дверь.
Ваша честь, — сказал Билл, — разрешите один вопрос.
Говори.
Вы меня поведете в наручниках?
С чего ты это взял? Я никогда никого не вожу с браслетами. Никогда. Мне достаточно глаз и вот этой игрушки, — он хлопнул ладонью по кобуре кольта.
Благодарю вас, — сказал Билл.
Теперь он был спокоен на случай, если на улице встретится кто-нибудь из знакомых. Он благодарил судьбу за то, что газетчики не обратили внимания на процесс, ни одного " репортера не было в здании суда. Его имя появится только в отделе хроники на последней газетной полосе, а десять строчек мелкого шрифта обычно ускользают от читателя. Не заметил он знакомых лиц и среди публики в зале. Правда, в задних рядах, почти у самого выхода, сидела молодая женщина, похожая на Луизу Шотт, но издали трудно было рассмотреть лицо. Да и какое значение имеет Луиза? С прошлым покончено. От прошлого не осталось ничего. Даже Атол ушла. Была ли она счастлива с ним? Он никогда ее не спрашивал об этом. А она всегда молчала и улыбалась. И никогда не жаловалась.
В то время железнодорожная компания Гульда еще не строила специальных вагонов для перевозки арестантов. Сержант и Портер заняли отдельное купе в обычном пассажирском пульмане. Полицейский запер дверь специальным ключом, уселся возле нее на лавку, надвинул на глаза широкополую шляпу и сразу же задремал. Билл присел у окна, облокотился о столик и вытянул ноги.
Четырнадцать лет назад он ехал в точно таком же пульмане и смотрел точно в такое же окно. Экспресс вырвался за пределы штата Джорджия. Двадцатилетний Билл разглядывал новую, незнакомую страну.
Зеленые прерии медленно наступали на леса, дробили их, превращали в рощицы. Один за одним появлялись и исчезали города. Местность была непохожа на то, к чему он привык в Северной Каролине. Так непохожа, что у него появилось ощущение, что и сам он стал непохож на себя. Другое лицо, другая одежда, другие мысли и полная самостоятельность. Он может, например, на любой остановке выйти из вагона, выпить у стойки стакан виски и расплатиться. У него есть деньги. Много денег. Пятьдесят долларов. Подарок дяди Кларка.
— Возьми и не смущайся, — сказал Кларк Портер. — Они твои. Ты их заработал честным трудом. Они тебе будут нужны. Всему свое время, как говорится в Екклезиасте. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время терять и время находить. Время обнимать и время бежать от объятий. Сегодня ты уезжаешь — и этому тоже время. Старайся Увидеть и узнать все. Знай, что жить в мире и видеть мир — это разные вещи. Научиться смотреть по-настоящему очень трудно. Постарайся научиться. Мир прекрасен. Он прекраснее любой сказки. И постарайся всегда помнить, что ты — человек в этом мире. А настоящий человек не проходит бесследно. В чем-то после смерти он остается. В доме, который построил, в книге, которую написал, в капитале, который накопил. Старайся быть нужным для жизни человеком. — Дядя Кларк положил руки на плечи Билла. — И если будет плохо, Вильям, плохо и трудно, напиши несколько строчек.
Напиши все равно кому — мне, или Беллу, или Паркенстекеру. И никогда не жалей того, что прошло. Расставайся: прошлым без грусти.
Билл ехал на ранчо к сыновьям доктора Холла, врача, который заменил в Гринсборо его отца. Это было четырнадцать лет назад. Такой же пульман и такое же окно. Только вместо полицейского, дремавшего над своим портфелем, в супе находились мистер и миссис Холл, и за окном проносились остатки лесов Джорджии и Южной Каролины.
За Талулой экспресс пересек несколько широких протоков реки Ред-Ривер и остановился у водокачки городка Маршалл.
— Это уже Техас, — сказал доктор Холл.
И это в самом деле был Техас. Прямо у железнодорожного полотна два пастуха в белых парусиновых брюках сбивали отару овец. Оглушительно стреляли длинные бичи, овцы прыгали друг через друга, поднималась розовая пыль, тонкими голосами блеяли в середине стада ягнята. Когда экспресс тронулся, молодой пастух на сером тонконогом коньке догнал его и поскакал рядом с вагонами, бросив поводья, хохоча и размахивая руками. Он так хорошо держался в седле, так свободно — одними коленями — управлял скоком конька, что Билл не выдержал, высунулся в окно и закричал в упругую воздушную струю, летящую вдоль состава:
— Здорово! Браво!
Парень вздернул конька на дыбы, заставил его повернуться на задних ногах и галопом поскакал обратно к станции.
— Нравится? — спросил доктор Холл. — У моих мальчиков тоже есть несколько лошадок. Ты скоро научишься.
В Котулле, в ста милях от Сан-Антонио, они сошли с поезда и пересели в таратайку, присланную с ранчо. Мексиканец Иларио, встречавший гостей, уложил в сено чемоданы и картонки. Увидев гитару Билла, он хлопнул по струнам ладонью.
— Это ваша, сеньор? Вы играете? Поете? Наши ребята сойдут с ума от радости. Грациас, сеньор! Мы переименуем наше ранчо. Оно называлось скучным — Дэлл ранч. Теперь мы назовем его Гэй бразерс ранч!
Таратайка скрипнула, качнулась и покатилась по раздолью саванны. По бокам дороги волнами ходили высокие травы. Испанские лошадки бежали ровной рысцой. Медовый воздух ударял в голову, как неразведенное виски. Теплый ветер гнал прозрачные облака и раскачивал солнце. Дорога понемногу затерялась в траве, и тележка поплыла по зеленым степным бурунам. Билл так и не успел насмотреться на простор прерии.
— Patio, — показал кнутом мексиканец, и переезд кончился.
Дом на ранчо Дэлл был сложен из необожженного кирпича в один этаж. Веранда с земляным полом окружала его с трех сторон. У столбиков коновязи пощипывали траву цесарки. На полу веранды в одной куче лежали потники, седла, попоны и украшенная медным набором сбруя. На галерейку выбежала маленькая черноволосая, очень румяная женщина.
— О! — закричала она. — О! Миссис Холл! Мистер Холл! А я-то думала, что это кто-нибудь из мальчиков.
Она поцеловала доктора и его жену, а Биллу подала узкую, влажную ладонь.
— Я стирала, — сказала она. — Я думала, что вы приедете позже. Я — Мэйми Холл. Зовите меня просто Мэйми. Сейчас я вас буду кормить. А пока отдохните с дороги.
Она проводила Билла в комнату на восточной стороне дома и ушла.
Земляной пол был хорошо утрамбован и чисто выметен. Ветерок дергал и заворачивал пеструю занавеску на окне. Вся обстановка — два самодельных трехногих стула, складная парусиновая кровать и дощатый стол, заваленный старыми газетами, обрезками сыромятных ремней и ружейными патронами.
Билл тронул рукой стулья, потом взял со стола ружейную гильзу. Пистон был пробит, из гильзы кисловато пахло. Билл бросил ее на стол и прилег на кровать. Только сейчас он почувствовал, что устал. Впечатления толпились вокруг, сбегались со всех сторон, отталкивали друг друга и напирали. Было трудно дышать. Слегка ломило глаза.
— Я в Техасе, — сказал он и прислушался. Фраза была незнакомой, необычной и новой. — Я в Техасе, — повторил он. — Надо мной потолок. Из щелей торчит мох. За окном ковбои, много ветра и много солнца. Господи, как хорошо!
Он засмеялся и закрыл глаза.
— Двести пятьдесят, папа, ровно двести пятьдесят, — произнес за стеной незнакомый голос.
Билл вскочил, сел и протер глаза. Темнота стояла за окном плотной стеной. Проклиная себя за то, что проспал самое интересное, он пригладил волосы, вздохнул и отворил дверь в соседнюю комнату — будто нырнул в холодную воду.
Он увидел в ярком свете керосиновой лампы лица, повернутые к нему. На длинном столе — тарелки, стаканы и большие зеленые бутылки. Пахло степью, жареным мясом и потной седельной кожей.
— Это наш гость, — сказал доктор Холл. — Франк, Дик, Ли, знакомьтесь. Это Билл Портер.
Трое плотных парней в грубых суконных куртках загремели стульями, поднимаясь навстречу.
— Когда мы приедем в Колумбус? — спросил Билл полицейского.
Сержант сложил газету и зевнул.
— Завтра в одиннадцать.
— Скажите, вам часто приходится… сопровождать?
— Часто. Ты не исключение. Воруют все.
— У меня другая история.
Все истории одинаковы. Только один попадается, а другой нет. Я, парень, считаю только, что тебе многовато дали. Пятерку за восемьсот пятьдесят долларов — это многовато. Ты сам дурака сыграл. Если уж брать, то брать хорошо. Тысяч десять, двадцать, а то и все пятьдесят.
У меня совсем другое дело.
Э, брось. Все вы поете одну и ту же песню, когда засыпаетесь.
Билл отвернулся к окну. За стеклом разворачивалась бесконечная желто-зеленая степь штата Одинокой Звезды. В некоторых местах еще отцветали травы.
«А на юго-западе, наверное, уже все выгорело и фермеры начали перегонять скот на север», — подумал он, и перед глазами встало ранчо братьев Холл, такое, каким он увидел его в день приезда — небогатое, но уютное, даже красивое. Красоту он увидел позже, когда научился понимать, что это такое. Жаль, что не каждый человек способен понимать красоту природы, жизни и других людей. Конечно, не внешнюю красоту, внешняя красота — это реклама, рекламировать можно всякую дрянь, даже полову или навоз, — а другую, скромную и глубоко спрятанную красоту мира.
У Скучных Братьев было около двух тысяч акров земли, корраль для лошадей, сарай для стрижки овец и пресс для упаковки шерсти. В пристройке позади дома стояли три коровы, и всем этим заправлял средний брат — Дик Холл. Он любил землю за то, что она производит массу замечательных вещей: сахар, сигары, цветную капусту, пшеницу и хлопок, — и он сам был похож на крестьянина. Это он подал братьям идею о ферме, он соблазнял их мечтами об уютном коттедже с красной черепичной крышей и большой террасой. Он говорил, что вместе с фермой они приобретут ранние утра, росу на траве, жаркие дни, прохладные дожди и весь свод небесный с луною и звездами. Братья согласились наконец, каждый внес свою долю, и Дик поехал в юго-западный Техас подыскивать землю. Начали с небольшого дома в четыре комнаты и со стада овец. Жена Дика, Мэйми, согласилась присматривать за хозяйством.
Франк Холл — младший—увлекался лошадьми и всем, что к ним относилось: упряжью, седлами, потниками и попонами. Он, не задумываясь, мог проскакать по прерии сотню миль, если слышал, что где-то устраиваются ковбойские состязания — родео. Он мечтал о хорошем конном заводе, много читал и говорил, что никогда не женится, потому что любит свободу. Это был тихий безобидный человек, и хотя на поясе у него висел кольт сорок четвертого калибра, воинственности в его фигуре не чувствовалось.
Старший брат — Ли — помогал братьям только в самую горячую пору, в период стрижки овец. В. остальное время он бывал на ранчо наездами. Ли повидал свет и знал жизнь. Во время гражданской войны он служил связным в штабе генерала Шермана и участвовал в сражении под Аппаматоксом.
Юго-западная, узкая часть Техаса попросту называлась Ручкой и представляла собою в те времена безлюдную равнину, поросшую жестким кактусом, диким алоэ, виргинскими тополями и древовидной юккой. Покинутые хижины или просто печные трубы торчали на участках, которые когда-то пытались освоить неудачники пионеры. Здесь находили себе приют самые закоренелые преступники со всей страны. Стоило только перебраться на южный берег Рио-де-Нуэсес, и всякая погоня становилась немыслимой. Ни один шериф в штате не рискнул бы направить свою лошадь в эти джунгли. Преступники объединялись в шайки и грабили ранчо поселенцев; они угоняли скот и переправляли его через мексиканскую границу; они терроризировали Юго-Запад, останавливали государственные почтовые фургоны и делали налеты на пассажирские поезда. Одних пограничных отрядов не хватало для борьбы с многочисленными шайками. Ранчмены и жители небольших городов защищались своими силами. За счет отдельных округов были созданы отряды народной милиции, в которых устанавливалась военная дисциплина. Они выслеживали конокрадов, ловили преступников, выбивали из зарослей чапараля шайки бандитов и насаждали закон и порядок с помощью карабинов и шестизарядных револьверов. Одним из отрядов милиции командовал капитан Ли по прозвищу Красный Холл. Отряд нес патрульную службу на землях между Фрио и Пекосом.
Кроме братьев Холл, на ранчо Скучном жил еще один мужчина, ковбой Ходжес, брат Мэйми. Про Ходжеса говорили, что он вскормлен кобылой. Неповоротливый, с какой-то неуверенной, спотыкающейся походкой, он чувствовал себя на земле беспомощным до тех пор, пока не оказывался в седле. Ходжес стал первым учителем Билла.
— Эта штуковина нехитрая, — говорил он, широкими петлями набрасывая на плечо белое волосяное лассо. — Впервой оно, конечно, непривычно, не получается. Зато когда навостришься… Вот погляди, как я ее сейчас подцеплю. Тут главное — чувствовать силу, с которой бросаешь.
Он отходил немного в сторону и прищуривался на бутылку, стоящую в двадцати шагах на земле. Потом стряхивал с плеча лассо и, сделав три-четыре быстрых поворота рукой, резко, точно прыгая, подавал туловище вперед. Со змеиным шипеньем веревка нависала над бутылкой и вдруг хватала ее за горло.
— Вот и вся работа, — улыбался Ходжес. — Для этого грамоты не надо. Я однажды в Хьюстоне бился на пари. С другой стороны улицы взял бутылку рома со стойки в салуне. Через окно. И бутылка целехонькой осталась. На, попробуй.
Билл сворачивал лассо и бросал его, точно повторяя движение Ходжеса. Удавалось сбивать бутылку петлей, но накидывать ее на горлышко, да еще затягивать он так и. не «навострился». Хождес учил его плести сыромятные веревки, объяснял, как надо похлопать коня по животу ладонью, чтобы тот выпустил воздух и дал затянуть подпругу, показывал приемы стрельбы с седла на полном скаку.
Потом завязались знакомства с ковбоями на других ранчо.
Кого только не было среди жителей юго-западного Техаса! Немцы, итальянцы, французы, ирландцы, испанцы и на несколько акров земли. Прогоревшие мелкие торговцы-янки из северных штатов, мечтавшие поправить свои дела в новых местах. Люди непонятных профессий и стремлений и люди степенные и семейные. Бродяги по призванию и бродяги поневоле, искатели приключений и искатели счастья. Здесь выработался даже особый диалект, знаменитый ковбойский «гризер» — смесь испанского, английского и французского.
«Стоит послушать, как здесь говорят! — писал Билл дяде Кларку в Гринсборо. — Мне пришлось заняться испанским и его мексиканским диалектом, и, кажется, наконец у меня обнаружились кое-какие способности. На испанском, на чистейшем кастильском наречии я выучился неплохо разговаривать всего за три месяца. После этого легко пошел язык, на котором разговаривал великий Монтецума».
И другое письмо:
«Самый лучший метод обучения незнакомому языку — начинать с ругательств. Тогда быстро усваивается все остальное. Лучше всего немецкое произношение получается, если носовым платком подвязать нижнюю челюсть».
Больше всяких других работ Биллу нравилась закупка провизии для ранчо. Рано утром Он запрягал в таратайку двух низкорослых испанских лошадок, проверял карабин, надевал на голову парусиновую стэтсоновскую шляпу и, не торопясь, отправлялся в шестидесятимильное путешествие до Сан-Антонио. Волны ярких трав, огромное небо, теплый ветер в лицо, степные курочки, вылетающие из-под колес, баюкающий скрип телеги — это была жизнь, не похожая ни на что другое. Это была настоящая свобода, и, наверное, это было счастье. Когда становилось невмоготу от всей этой безграничности, он разгонял таратайку, доставал из сена карабин и, наметив какой-нибудь жирный, самодовольный кактус, стрелял в его нахальное щетинистое брюхо.
И еще были рассказы. В ненастные дни на ранчо собирались все, и тогда начиналось такое, чего нельзя было найти ни в одной книге. Надо было только слушать и слушать не отрываясь, впитывая в себя слова, выражения лиц, жесты и особенное очарование этих вечеров. Рассказывали все. Рассказывал Ходжес. Рассказывала Мэйми. Рассказывал малоразговорчивый Дик. Виртуозно врал Франк. В один из таких вечеров Ли Холл рассказал о стычке с отрядом Салдара.
Себастьяно Салдар, головорез и угонщик скота, перешел со своими людьми Рио-Гранде и сжег два ранчо. Он появлялся на Юго-Западе каждый год, и каждый раз ему каким-то чудом удавалось увернуться от встречи с пограничниками и милиционерами и благополучно убраться в Мексику. Правительство штата назначило премию в тысячу долларов за голову Салдара. Подозревали, что его шайка ограбила почтовый поезд у Дель-Рио.
— Мы гонялись за ним целую неделю, — рассказывал Красный Холл, — и все зря. Ну и кони у проклятого мексиканца! Несколько раз мы видели шайку, да куда там! Они уносились от нас словно облачко пыли. А потом они и вовсе пропали из виду.
Был в нашем отряде парень Джимми Хьюз. Родом откуда-то с Запада, не помню точно. Странный парень. За день больше десяти слов не скажет, о чем бы его ни спрашивали. «Да», «нет», «не хочу» — вот и весь разговор. Мы считали его тронутым, уж слишком любил он возиться со всякой гадостью. Поймает, бывало, лягушку и учит ее прыгать через палочку. Был у него еще ручной опоссум. Черт знает, что за человек. Но погодите, дайте по порядку.
Возвращаемся мы в свой форт. Настроение у парней сами понимаете какое. Салдар жив и здоров. Тысяча долларов спокойненько лежат в банке. Лошади наши шатаются, вот-вот упадут. Решили мы заночевать у Сухого ручья. Ребята мри разожгли костер и начали варить кофе. И вот здесь-то на нас и ударил дон Себастьяно. Их кони проскакали прямо по костру, котелки с кофе разлетелись в разные стороны, и не успели мы опомниться, как мексиканец уже удрал, и было слышно, как они гикали и свистели. Мы разобрали коней и пустились за ними, но кони только и смогли проскакать две мили. Пришлось возвратиться в лагерь. Пересчитали людей. Оказалось, что, кроме убитого Уилкокса, не хватает еще и Джимми Хьюза. Только мы начали гадать, куда он мог деться, как на юге опять началась перестрелка. Ну и ночка выдалась, скажу вам! Никогда еще так не приходилось.
Утром мы оседлали коней и подались на Игл-Пасс. Миновали заросли, выехали на луг, изрытый овражками, и сразу же натолкнулись на дона Себастьяно. Он лежал вверх лицом, весь облепленный мухами, а в стороне валялось его черное сомбреро с фиолетовым шнурком и золотым позументом. На лбу Себастьяно набухла небольшая шишка и в ней чернела дырочка. Крови почти не было. А ярдах в пятидесяти от мексиканца мы нашли Джимми Хьюза, уже холодного, закоченевшего.
Ли вынул из кармана носовой платок, завязанный в узел, и положил его на стол.
— Это доля Джимми, — сказал он. — Здесь сто долларов серебром. Хотел бы я отыскать его родственников. Уж очень замечательный парень, хотя и тронутый немного. До сих пор не пойму, как он ухитрился подстрелить Салдара ночью, да еще попасть ему прямо в лоб…
В тот вечер Билл в первый раз в жизни подумал о том, как выглядел бы рассказ Холла на бумаге.
Два года этой степной сказки начались и кончились с той быстротой, с какой обычно начинаются и кончаются сказки. Сказку убили деньги. Неожиданно резко пошли вверх цены на землю в этой части Техаса. Дик Холл не был волшебником из сказки. Он выждал момент, когда, по его расчетам, цены оказались самыми высокими, поговорил с братьями, и они решили продать свой участок и купить другой, подешевле, в округе Вильямсон. Они выигрывали в этой сделке, и они не могли отказаться от козырей, которые оказались у них на руках.
Проигрывал только Билл. Ему приходилось или возвратиться в Гринсборо, в сонное, скучное Гринсборо, в старый грязный дом, к отцу, который, судя по письмам дяди Кларка, окончательно спился, или…
Он выбрал второе.
В день, когда он получил диплом фармацевта в Северо-Каролинском фармацевтическом обществе, дядя Кларк сказал:
Ты на своих ногах, мальчик. Я спокоен. Все зависит от того, как ты будешь пользоваться жизнью. Это очень сложная штука. Ты делаешь ход, и неизвестно, какой получишь в ответ. Ты можешь поехать в Эшвилл или в Ролли и начать там. Самое главное — хорошо смотреть под ноги.
Я не споткнусь, — сказал Билл.
В то время ему только что исполнилось девятнадцать. В двадцать два он был твердо уверен, что может заметить даже самый маленький камешек на своем пути. У него был темный загар, четырнадцать долларов, белые парусиновые брюки, выгоревшая полотняная рубашка, стэтсоновская шляпа на голове и клеенчатый саквояж в руках. И еще — вера в людей. Всего этого, по его мнению, было достаточно, чтобы начать жизнь в Остине, столице штата Техас.
Колумбийская каторжная тюрьма построена на краю города, на берегу реки Сойото. Полицейский и Билл подошли к ней в полдень. Сержант остановился у ворот, сшитых из добротных сосновых брусьев, и дернул ручку звонка.
— Полюбуйся жильем, — сказал он. — Это будет твоей квартирой пять лет. Все государственное. Никаких забот.
Билл оглянулся. Сзади на него узкими окнами смотрел одинокий кирпичный дом. Между домом и тюремной стеной лежал пустырь, засыпанный щебнем, обломками бочек и осколками стекол. Будто рабочие, уложив последний камень в стену, так и не убрали за собой строительную площадку. Кривая яблоня росла у ворот. И ни единой живой души на целую милю кругом. Кроме него и полицейского, который все дергал ручку звонка.
Наконец в воротах открылось квадратное окошко.
Что надо?
Новый клиент, — сказал сержант и просунул в окошко пакет с документами.
Открылась калитка.
До свидания, парень. Ступай, — сказал полицейский. Билл оглянулся еще раз и шагнул внутрь.
Желаю удачи! — крикнул в спину ему сержант. Калитка захлопнулась.
Билл оказался перед бородачом в серой полувоенной форме. Бородач улыбался.
Томми, — отрекомендовался он. — Дежурный Томми, понятно?
Вильям. — Билл протянул было руку, но бородач отступил на шаг. Оба засмеялись.
Растратчик? — спросил Томми, разглядывая серый костюм и узконосые ботинки Билла.
А что, разве заметно? — спросил Билл.
Теперь, далеко от Хьюстона и от людей, знавших его, стало легче. Даже вернулась способность шутить. Вряд ли за этими стенами встретится хоть один знакомый.
— К нам только растратчики поступают без наручников. Спокойный народ, — сказал Томми. — Ну что же, идем, приятель.
Он повел Билла через внутренние дворы к серому тяжеловесному корпусу с красными кирпичными буквами ИНК по фасаду.
После очень коротких формальностей в тюремной канцелярии Билл оказался на вещевом складе, где его нарядили в серую арестантскую куртку и в брюки с двумя широкими черными лампасами. В углу склада на полу Билл увидел такие же куртки и штаны, но с поперечными, как у зебры, полосами.
А эти, наверное, для высоких? — спросил он кладовщика. — Чтобы казались пониже, да?
Это для низшего разряда, — ответил кладовщик мрачно. — Для тех, кто живет в ИНК. Благодари бога, парень, что ты попал в третий разряд, — И, видя, что Билл аккуратно складывает свой серый костюм, прикрикнул: —Эй, дружище, это барахло оставь здесь. Оно тебе не понадобится ровно пять лет.
Билл бросил сверток одежды на стол, и, шаркая сваливающимися с ног башмаками, побрел по коридору.
Арестант третьего разряда каторжной тюрьмы города Колумбус, штат Огайо. Номер 30664. В прошлом — кассир первого Национального банка города Остин и литературный сотрудник газеты «Хьюстон Пост». Богиня Фортуна случайно повернула свое крылатое колесо в обратную сторону. На дороге оказался камень, которого он не заметил.
Итак — каторжная тюрьма, штат Огайо. 1898 год.
Прежде всего — четыре отделения и четыре разряда, на которые делятся смертные. Рай, чистилище, ад и пекло.
Рай — корпус банкиров. Все, попадавшие в рай, были по происхождению джентльменами. И если на свободе они сидели в хорошо обставленных конторах, в удобных креслах и умели сохранять на лицах любезные улыбки, подставляя в бухгалтерский отчет какой-нибудь невинный ноль, то и в тюрьме их камеры походили на номера недорогих отелей — с зеркалами, портьерами на дверях и ковровыми дорожками на полу. Все банкиры занимали в тюрьме должности конторщиков и носили белые полотняные рубашки, которые стирались раз в неделю.
В чистилище под кирпичными буквами ИНК щеголяли зеленых рубахах из грубой саржи и жили в узких цементных щелях с крохотной бойницей под потолком вместо окна. Двери, похожие на двери звериных клеток — так были толсты железные прутья, — выходили в длинный коридор, по которому непрерывно прохаживались надзиратели. Ничто в камере не могло спрятаться от их взгляда. Арестант ходил по камере, спал, отправлял свои естественные нужды и даже сходил с ума на их глазах. Ночью каждые два часа по всем этажам гремел гонг — и начиналась перекличка. Люди вскакивали, подходили к решеткам дверей и ожидали, когда настанет их очередь выкликнуть свой номер.
В перекличке не было необходимости. Неизвестно, кому она была нужна. Из колумбийской тюрьмы было невозможно убежать. Но так предписывалось регламентом.
Третий разряд обитал в нижних, подземных помещениях, в кирпичных загонах восемь футов на четыре без окон. Гнойно-желтые отблески света и густой, воняющий мочой воздух просачивались в эти каменные мешки такими дозами, чтобы два арестанта, скрючившиеся здесь, не могли сойти с ума раньше, чем через два-три года. Сенники, брошенные на деревянные нары, никогда не выбивались, и никогда не стирались холстяные куртки и штаны с черными лампасами. Обедали в низком сводчатом подвале за столами из досок, положенных на козлы. Всякие разговоры запрещались. Только слышен был стук оловянных мисок, шарканье ног, сопенье, да там и сям поднимались руки, знаками прося хлеба у сторожей. Выловленных из похлебки червей и мух размазывали здесь же по столу. К чаю полагалось блюдце коричневой патоки на двоих. В субботние вечера всех арестантов запирали в камеры и держали там до утра понедельника. Так предписывалось регламентом.
Надзиратель привел каторжника 30664 в один из таких загонов. И здесь Биллу опять повезло.
— Та сволочь, с которой ты должен был жить, подохла позавчера, — сказал надзиратель. — Он, видите ли, этот джентльмен из Оклахомы, привык к нежному обращению.
Тюремщик хлопнул Билла по спине и захохотал.
— Занимай его место и постарайся как-нибудь заткнуть щель у параши тряпками. Она малость подтекает.
Стук двери. Металлический дребезг ключа. Уходящие шаги. И тишина.
Билл прошелся по камере. Пять шагов в длину, три в ширину. Койка, сколоченная из горбылей. Под потолком газовый рожок в прочном железном наморднике. За решеткой двери затхлость и тишина погреба.
Так вот, значит, как становятся арестантом. Пять лет в вонючем погребе, если ничего не изменится. Пять лет… Целых пять лет…
Он присел на койку и закрыл глаза. Плыл и никак не мог уплыть в сторону красный бледнеющий круг. Он вытягивался, на нем появлялись пятна, и вдруг Билл отчетливо увидел перед собой лицо женщины с влажными, яркими губами.
Он потер рукой лоб и открыл глаза. Коричневые стены, заляпанные пятнами сырости, смыкались вокруг. Черт возьми, неужели на суде была эта черноволосая красотка? Тогда на другой же день все знакомые узнают, что он каторжник. Тогда путь в Техас, в Остин, закрыт навсегда. Колумбийское клеймо хуже, чем тавро на лошадиной шкуре. Тавро можно переделать, добавить несколько новых линий — и оно изменится. Но человеческую память не переделаешь. Страшная вещь — человеческая память. И устроена она так, что в нее легко вжигается самое скверное, самое тяжелое, а все хорошее оставляет лишь легкий туманный след…
Память. Воспоминания. Теперь, здесь, только это ему и осталось…
… В Остине, в первый же день приезда, он отыскал дом Джо Харрела и передал ему письмо Дика Холла. Харрел прочитал письмо и похлопал Билла по плечу.
— Располагайся как дома, сынок. Так значит, Холлы продали ранчо и перебрались на север? Что же, хорошее дело. Сейчас там дешевые земли. Самые дешевые во всем Техасе. А ведь я знал тебя вот таким, — сказал он вдруг и показа рукой чуть выше стула. — Все, бывало, бегал по огородам. Натыкаешь в волосы индюшиных перьев и бегаешь. И твоего дядю Кларка знал. Ведь я приехал в Гринсборо в один год с твоим дедом Сиднеем. Вместе дома ставили. Ну, а меня ты помнишь? Забыл? Что ж, не беда. Всех людей никогда не упомнишь. Однако, скажу тебе, ты здорово похож на деда. Чем думаешь заниматься в Остине?
Чем он хотел заняться? Он еще сам не знал. Вот если посчастливится устроиться в какую-нибудь аптеку…
— Ну, ну, хорошее дело. Доброе дело, — сказал Джо Харрел. — А жить оставайся у меня. Места хватит.
Через неделю он нашел место клерка в большом драгсторе на Пекан-Стрит. Помог диплом Северо-Каролинского общества фармацевтов. Владелец драгстора внимательно прочитал его и сказал:
— Пятнадцать долларов в неделю. Кстати, клеркам нигде больше и не платят. Вы будете регистрировать рецепты в учетной книге, сортировать их по группам лекарств и направлять в провизорскую.
Драгстор принадлежал аптечной компании Морлей и торговал, кроме лекарств, табака, пива и виски, фруктовыми соками и мороженым. В жаркие дни сюда наведывались молоденькие продавщицы из соседних магазинов. Они звенели ложечками, поедая двойные порции ананасного мороженого, вертелись перед зеркалом, поправляли прически и щебетали. Билл сидел за стеклянной перегородкой и прислушивался. Вскоре он узнал о всех местах, где собиралась остинская молодежь, о том, что у мужчин сейчас в моде темно-серые костюмы в чуть заметную серую полоску и что лучшая опера сезона — «Девушки Богемии».
Вечерами он помогал Джо Харрелу хозяйничать в табачной лавочке, а когда удавалось — ходил на танцы, которые устраивались два раза в неделю в вестибюле одного из отелей.
Он проработал в компании Морлей семь месяцев, а потом в драгсторе появился Джон Мэддокс.
Он пришел раз и второй, а на третий Билл уже знал, что Джон — один из совладельцев фирмы по продаже домов. Потом, правда, оказалось, что это не фирма, а просто маленькая контора, в которой работало пять человек. Но название, с расчетом на будущее, было громкое:
— Переходи к нам, приятель, — неожиданно предложил ему Джон. — У Морлея ты до старости останешься клерком.
— Кем же я у вас буду? — засмеялся Билл. — Провизором?
— Нет. Младшим бухгалтером.
— Ты думаешь, я что-нибудь понимаю в этой китайской белиберде?
— У нас ты будешь получать восемнадцать долларов в неделю. Кроме того, каждый из наших сотрудников имеет право приобрести четырехкомнатный дом в рассрочку со скидкой в двадцать процентов.
— Но ведь я фармацевт. Я ничего не знаю, кроме своих рецептов.
— Два виски, — сказал Джон мальчишке, работающему за стойкой. — Неужели ты думаешь, что человек знает какое-нибудь дело прямо с пеленок?
В конторе Мэддокса он за какой-нибудь месяц научился вести бухгалтерские записи в гроссбухах и составлять годовые и трехмесячные отчеты.
В Гринсборо он иногда мечтал, с каким наслаждением в первые дни жизни в большом городе он будет тратить свои деньги. Но мечтанья так и остались мечтаньями. Денег почти всегда было в обрез. За три месяца работы у Мэддокса удалось отложить двадцать долларов на темно-серый костюм и модный черный пластрон. А ведь нужно было еще платить Харрелу за жилье и стол, покупать угощенье девушкам, с которыми он танцевал в отеле, иногда компанией ходить в ресторан.
Денег не хватало. Деньги начинали уплывать сразу же, как только попадали в руки. Он удивлялся: как много нужно человеку в большом городе. На ранчо он обходился немногим. Что нужно в степи? Стэтсон, чтобы прикрыть голову от солнца. Хлопчатая рубаха. Шейный платок. Штаны, сзади подшитые кожей для прочности.
В Остине были необходимы крахмальные рубашки. Выходные туфли из мягкого шевро. Башмаки на каждый день. Сапоги для плохой погоды. Шляпа. Пальто. Запонки. Тысячи разных мелочей для бритья, для мытья, для… бог знает, для чего!
И всего восемнадцать долларов в неделю!
Джон Мэддокс успокоил его:
— Дело расширяется. Посмотри, что делается в городе. Через два года в нем будет шестьдесят тысяч жителей. Северяне летят на новые земли, как мухи на патоку. Через два года мы будем с тобой жить в роскошных особняках. Что восемнадцать долларов! Мы будем иметь тысячи. То, что сейчас, — это начало. Подожди.
Билл ждал.
Через год «Фирма братьев Мэддокс и Андерсон» обанкротилась. Дефицит составил девять тысяч триста долларов. Компаньон Джона Мэддокса, прихватив на память кое-какие Ценные бумаги, затерялся в просторах штата Нью-Мексико. Правительственный ревизор арестовал все вклады конторы в банках. Служащим даже не выплатили жалованья за последнюю неделю. В довершение всех бед в Восточном Техасе, Арканзасе и Теннеси началась знаменитая «Большая забастовка»1.[1] Каким-то чудом ему удалось найти место чертежника в Техасской земельной конторе. Помогло то, что он немного умел рисовать.
В земельной конторе платили двадцать долларов в неделю, и даже столы с наклонными чертежными досками здесь выглядели солиднее, чем в фирме Мэддокс. Контору забастовка обошла стороной. Остин расползался вдоль реки Колорадо. Отряды землемеров работали на окраинах, прирезая к городской территории новые земли. Заказчики хотели видеть, как будут выглядеть в перспективе новые улицы, и выбрать для своих домов места получше. Контора шла им навстречу. В небольшой светлой комнате, рядом с отделом горизонтальных планировок, работали чертежники по перспективам. Их называли рисовальщиками.
Их было трое.
Лонг, всегда готовый поддержать дружескую выпивку в соседнем баре. Сдержанный и религиозный Эдмондсон, замкнутый, похожий на переодетого пастора. Симпатичный Хайлер, пронырливый и всезнающий. Они вместе приходили на работу и вместе уходили, перестреливаясь остротами, подшучивая друг над другом. У них был свой особый, интимный кружок, и то, о чем они говорили между собой, было похоже на продолжение какого-то очень давно начатого разговора.
Несколько дней они присматривались к новичку. Билл работал не отрываясь. Казалось, он не хотел завязывать никаких новых знакомств, и если он обращался к ним, то только по делу.
Однажды после обеда к столу Билла подошел Говард Лонг.
— Послушайте, мистер Портер, вы отдыхаете когда-нибудь?
— Иногда даже работаю, — ответил Билл.
— Это мне нравится, — улыбнулся Лонг. — А как насчет танцев?
— Это, кажется, делается по вторникам и субботам в отеле «Панар»?
— Я вижу, вы меня поняли.
— Это мне знакомо, — сказал Билл.
— Отлично! — воскликнул Лонг. — А мы-то думали, что вы закоренелый пуританин. Так вот, мистер Портер, уж коли вы работаете вместе с нами, то вы должны быть и членом нашего клуба. Мы называемся «Юнион Хилл-Сити», потому что по воскресным дням ходим на танцульки в верхний город.
— По воскресеньям? — удивился Билл. — Но ведь никто из южан не танцует по воскресеньям. Это против правил.
— Среди нас нет южан, мы — янки, — сказал молчавший до сих пор Хайлер.
— Мой отец по происхождению тоже янки, — сказал Билл. — И хотя я сам из черного штата…
— Кроме того, у нас есть свой проповедник, который при необходимости дает отпущение всех грехов за неделю, — добавил Лонг, показывая на Эдмондсона.
Эдмондсон привстал и чопорно поклонился.
— Итак, — продолжал Лонг, — если мистер Портер захочет обратить свое… э… снисходительное внимание на нашу скромную компанию, он сегодня придет к семи часам вечера в «Атенеум», Келлог-стрит, двадцать один.
— Принято, господа! — сказал Билл.
— Внимание! — сказал Хайлер. — Сюда направляется шеф. За работу, ребята.
… И началась жизнь, похожая на затянувшуюся вечеринку. Они собирались в «Атенеуме» и наскоро выпивали несколько стаканов пива, закусывая холодной телятиной с горошком. Потом Хайлер вел всю компанию в дансинг. Это была новинка на пуританском Юге, и новинка нетерпимая, поэтому они проходили в дымный залец через дверь, которую днем Билл ни за что не смог бы найти. Здесь в свете газовых рожков на дощатом возвышении гремел рояль. В густом воздухе топтались пары. За десять центов можно было купить девушку на один танец.
Они покупали два-три танца и ожидали, когда стемнеет. В сумерки начиналось главное. В сумерки компанией командовал Билл. Он шел впереди с гитарой. Редкие прохожие замедляли шаги и смотрели им вслед.
— Стоп! — говорил Хайлер. — Здесь Белла Гилфорд. Они останавливались под балконом, нависшим над улицей. Портер брал пробный аккорд, прислушивался, прихлопывал струны ладонью и начинал романс. Все тихо подпевали. Пели «На нашем прекрасном Юге», «Золотую звезду», «Лебединый берег». Пели до тех пор, пока Белла Гилфорд не открывала окно.
К дому Эми Роулинс шли втроем. Под окном Кэтти Гладстон их оставалось двое. А к палисаднику дома Луизы Шотт Билл подходил один. Луиза всегда открывала окно после первых аккордов. Она не ломалась, как Белла Гилфорд. Она была сговорчивой девушкой, нежная, темноглазая Луиза Шотт.
… Нет, конечно. Он просто ошибся. Луизы не было в зале суда. После того, как произошел разрыв, она, кажется, вообще уехала из Техаса.
… Почему в камере стало светлее? Он встал с нар и подошел к двери, похожей на стену клетки. Он прижался щекой к железным прутьям и постарался заглянуть подальше в коридор. А! Там где-то есть окно. И, кажется, уже утро. И кто-то идет по коридору, отстукивая шаги. Что-то звенит. Наверное, связка ключей. Сейчас тот, кто идет, откроет дверь клетки. Его, как зверя, поведут на кормежку. Господи, помоги вынести все унижения, помоги пройти через это ничто не сорвавшись! Он был всегда честным человеком и честным уйдет отсюда. Через пять лет.
Ночь кончилась, первая ночь в Колумбусе.
— Тридцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре, выходи! Дверь камеры отворилась. На пороге камеры стоял надзиратель. Не вчерашний. Другой.
— Быстрее давай! К начальнику тюрьмы.
— Который час? — спросил Билл.
— Десять. Идем.
— Кто вас поместил в этот свинарник? — спросил Реджинальд Коффин.
— Не знаю, — сказал Билл.
— Это, наверное, клерк из распределительного, — сказал Коффин. — Слепая крыса, вечно ошибается. Портер, я просмотрел ваше дело, присланное из уголовного суда. Я узнал, что между рождением и совершением растраты вы служили в аптеке вашего дяди в Гринсборо. Это так?
— Да, сэр.
— Прекрасно, Портер. Дело вот в чем. На днях у нас умер аптекарь. Это был никудышный человек. Он воровал спирт. Его наказали. Он умер. Мы решили, что должность тюремного аптекаря как раз для вас. Кроме того, в свободное от выдачи лекарств время вы будете помогать нашему доктору.
— Да, сэр.
— А сейчас отправляйтесь в пошивочную мастерскую и подберите себе костюм поприличнее. Вы будете жить в банкирском корпусе.
— Да, сэр.
Черт возьми, если бы ему так везло на воле! Почему все случается с опозданием?
Тюремный аптекарь — это уже аристократ. Это — хорошая постель, приличная пища и относительная свобода. Это — занятие, которое будет заполнять то ничто, которое — он это чувствовал — в конце концов свело бы его с ума.
Прежде всего Билл направился в пошивочную.
Портные быстро подыскали ему цивильный костюм блекло-коричневого цвета. Костюм выглядел неважно. Брюки оказались широкими в поясе, рукава пиджака, неправильно вшитые, резали под мышками, но лучшего ничего не нашлось. Билл обрадовался и этому. Он с наслаждением одернул на себе пиджак и пошел знакомиться с новым начальством.
Портные объяснили, что больница находится на втором этаже. Билл поднялся по лестнице, увидел табличку «врач» и, не постучав, дернул дверь. В кожаном кресле посреди комнаты сидел черноволосый человек с печальным опухшим лицом. Он курил. Услышав стук двери, он круто повернулся. «Я ворвался, как последний невежа», — вдруг сообразил Билл и, поклонившись, сказал:
— Извините.
Врач вынул изо рта сигару и выкрикнул:
— Что такое?
— Ничего. Я назначен новым аптекарем.
— Кто — вы? — голос врача срывался, пальцы, сжимающие сигару, дрожали.
— Меня зовут Билл Портер. Номер тридцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре. Я назначен аптекарем.
— Вы… что?
— Назначен новым аптекарем.
Врач встал и ошалело посмотрел на Билла, Глаза его были мутными, отсутствующими, как у пьяного.
— Аптекарь? — спросил он. — Вы — аптекарь? Вам приходилось видеть переломы? Вы чинили когда-нибудь людей?
— Что? — спросил Билл.
— Крови боитесь?
— Я делал перевязки.
— Ручьи крови. Руки до локтя красные. И мясо. Теплое, парное мясо. Вам приходилось?
Перед Биллом маячило лицо с тонкими, сухими губами.
— Что? — переспросил он, отступая на шаг.
— Да, да, я говорю откровенно. Кровь. Мясо. Кости. Требуха. Остатки людей. Понимаете?
Лицо врача придвинулось ближе. Билл уже не видел его. Только зрачки, черные провалы во весь глаз.
— Я видел кровь. Мне приходилось.
— Да? — спросил врач. — И вы перевязывали спокойно? У вас руки не дрожали?
— Я умею, доктор.
— Вас зовут Биллом, вы сказали?
— Да, сэр.
— Просто — да. Запомните, Портер, в этом паршивом зверинце нет джентльменов. Я — Джо. Джо Уиллард. После каждого дежурства я едва держусь на ногах. Я не джентльмен. Я пропойца. Я свинья, вонючая свинья, самая паршивая грязная сволочь, которую зовут Джо Уиллард. Вам это понятно?
— Не понимаю, — сказал Билл.
Вы здесь недавно? Второй день? Тогда я вам скажу, милый мой Бэдди Портер. Лучшее, что я мог бы сделать для пациентов в изоляторе, — это инъекция хорошей дозы цианистого калия. Каждому. В сонную артерию. Чтобы побыстрее.
— Господи… — пробормотал Билл.
— Да. Сначала им, а потом себе. Но я не делаю этого. Потому что я трус. И потому что я презираю. Понимаете вы, что такое презрение? Я презираю Реджи Коффина. Канцеляристов. Надзирателей. Стражников. Всю эту проклятую систему. Я презираю вас. Презираю свою работу. Себя. Понимаете?!
Он выкрикнул последнее слово, упал в кресло и начал зажигать сигару. Пальцы его плясали.
— Вы увидите, Бэдди. Вы все увидите. В первый раз. Как я когда-то. К черту! Зачем вы сюда пришли? Кто вас послал ко мне?
— Реджинальд Коффин, начальник тюрьмы, — сказал Билл.
— Хорошо, — сказал врач, затянулся несколько раз и произнес медленно, словно просыпаясь — Будем работать, Бэдди Портер. Будем работать.
Билл увидел это через два дня. Уиллард велел приготовить свинцовую воду для примочек, пластырь и бинты.
— Выбирайте полотняные и пошире, — сказал он.
Подвал, куда они спустились, находился как раз под больницей. Билл ожидал увидеть затхлую дыру, но вместо этого оказался в просторном, хорошо освещенном помещении с цементным полом. Здесь было довольно чисто, но в воздухе стоял какой-то странный запах, будто в мясной лавке, будто здесь только что кончили разделывать свежую тушу теленка. Нога скользнула по бурому пятну, он чуть не упал. Схватив за руку доктора Уилларда, он поднял глаза и замер.
Прямо перед ним висел человек, распятый между четырьмя столбами. Сначала Биллу показалось, что у него нет головы, но затем он увидел ее. Она свисала на обмякшей надломленной шее между вывернутыми лопатками. Голое тело в нескольких местах было рассечено до костей как будто сабельными ударами, и темная кровь, стекшая к животу, образовала, застывая, сосульки.
— О господи… — пролепетал Билл. — Что это, доктор?..
— Вор бриллиантов, — ответил Уиллард. — Они его, кажется, еще не доконали. А теперь за дело, Бэдди. Губка у вас? Там в углу есть раковина и таз. Принесите воды.
Вдвоем они отвязали тело от столбов и положили его на кусок брезента. Уиллард губкой обтер кровь вокруг страшных рубцов. Наклеил на раны полосы пластыря. Туго перебинтовал вывихнутую кисть руки. Смочил свинцовой водой кровоподтеки.
Он работал быстро и четко. Сухими, короткими словами отдавал приказания. И пальцы рук его не дрожали. Он был похож на механика, ремонтирующего сломанный велосипед.
— Спирт, Бэдди.
Билл подал ему плоский флакон.
Уиллард протер ватой лицо лежащего и влил ложку спирта ему в рот. Человек шевельнулся и вздохнул. Розовые пузырьки закипели в уголках его рта.
— В порядке, — сказал Уиллард. — Сейчас я пришлю за ним санитаров. Бэдди, что с вами, черт побери?!
Билл, опустившись рядом с ним на корточки, теперь сидел на полу, полузакрыв глаза. Лицо у него было серое.
— Бэдди, не валяйте дурака! Вы не девочка! — Уиллард тряхнул Билла за плечо.
— Да, да… — сказал Билл. — Извините. Уже прошло. Он встал и начал собирать медикаменты. Он старался не смотреть на сооружение, похожее на станок для ковки лошадей. Он сторонился пятен крови на полу. Но все же он успел заметить, что внизу между столбами стояло деревянное корыто, наполненное красными опилками.
— Надо быть смелее, Бэдди, — сказал Уиллард, когда они поднимались в больницу. — Вы, кажется, не младенец.
— Доктор, неужели можно превратить человека в…такое…
— Семьдесят пять горячих, — сказал Уиллард. — Они работают стальными прутьями. Бывает, что переламывается позвоночник. Выпейте, Бэдди. — Он налил в стакан спирт из того же плоского флакона.
После обеда Уиллард рассказал историю бриллиантового вора.
Он украл из какого-то частного сейфа бриллиантовые украшения стоимостью в сто семьдесят тысяч долларов и попался через месяц, но ни один из сыщиков округа не мог обнаружить его тайника. Ни перевод в четвертый разряд, ни жесточайшие наказания не заставили его назвать место, где спрятаны бриллианты.
Уже в тюрьме с ним подружился бывший издатель, осужденный за убийство редактора соперничавшей с ним газеты. Неизвестно, на какой почве выросла их дружба, чем бывший газетчик завоевал доверие вора. Но в один прекрасный день все газеты штата разнесли сенсационную новость: тайник открыт, драгоценности найдены.
Бриллиантовый вор отомстил издателю за неумение молчать на следующий день после сенсации. Он достал где-то склянку карболовой кислоты и при встрече с газетчиком во время прогулки во внутреннем дворе выплеснул карболку ему в лицо.
— Семьдесят пять горячих — обычная порция за такую штуку, — закончил Уиллард. — Парень этот на удивление крепкий. Недельки через три поднимется на ноги как ни в чем не бывало.
— Но те, которые бьют… Неужели они…Уиллард махнул рукой.
— Скоты. Самые подлые, низкие скоты, без признаков интеллекта. И вы тоже скоро превратитесь в такого. В грязного, поганого скота. В такого, как я, понятно вам?
Билл вздрогнул.
— Нет, невозможно… — пробормотал он. — Я этого не вынесу. Я не могу смотреть на все это…
— Что? — спросил Уиллард. — Вы хотите возвратиться в третий разряд, откуда прямой путь в этот подвал, да? Вы хотите этого, да? Вам не нравится чистая постель и возня с порошками? Тогда идите. — Уиллард отворил дверь в коридор — Идите к Реджи Коффину и выложите ему все. Может быть, он будет в хорошем настроении и назначит вас в кузницу или в слесарную мастерскую. Но, вернее всего, вы через полчаса будете болтаться над тем же самым корытом. Вас это устроит? Вам не нравятся порядки в наших каторжных тюрьмах, да? Идите и жалуйтесь. Интересно, что из этого выйдет. А как вы думаете, что они сделают с парнем, которого мы сегодня починили? Завтра же они засекут его до смерти, вот что!
… В те часы, когда удавалось остаться наедине с самим собой, он перебирал в памяти прошлое. Его мучил стыд. Он пришел к убеждению, что вел себя в жизни как слабый человек. Как щепка в потоке воды.
Кто-то однажды сказал, что песок — это игра детей, а жизнь — игра взрослых. Да, может быть, это и похоже на игру. Но она увлекательна только для тех, кто наблюдает со стороны, и невероятно сложна и страшна для тех, кто попадает в самую свалку. И самое страшное то, что большинство людей на самом деле не такие, какими они кажутся. Это игра в жуткий маскарад, где каждый носит благообразную маску.
Раньше он принимал все без сомнений. Он делал ставки и выигрывал или проигрывал — как повезет. Он скользил по жизни, подгоняемый ветерками удач и неудач. Он играл в жизнь, как в покер, ожидая, когда на руках окажется каре тузов и когда можно будет сделать беспроигрышный ход. Может быть, от этого все казалось ему несерьезным, ненастоящим. Азарт игры мешал рассмотреть за действиями людей иные цели, кроме, разве, одного — стремления каждого прожить как можно лучше, вкладывая в это как можно меньше труда. Ну что ж, он не видел в этом ничего плохого. Так жили все в их стране. Так учили жить и его: больший коэффициент при наименьшей затрате сил. Даже в газетах писали, что этот метод — одна из основ, на которых процветает нация.
Теперь он увидел другое. В действиях тех, кто его окружал, была какая-то странная закономерность. Правда, он не Мог уловить, в чем она заключалась.
Почему президент банка, управляющий, ревизор, судьи и присяжные, каждый из которых в отдельности были людьми в сущности неплохими, отзывчивыми, способными все понять, как только начинали действовать сообща, сразу же превращались в детали какой-то немыслимой, страшной машины, которая сминала людей, попавших в ее нутро, и сбрасывала их со счета, как сбросила его в этот застенок?
Казалось, все играли напрямик. И он тоже играл напрямик, открывая карту за картой. Но выходило, что это только видимость игры напрямик. Выходило, что нужно было непрерывно притворяться, что дважды два — пять, хотя наверняка знаешь, что четыре. Выходило, что нужно было склеить себе маску и носить ее повседневно, как шлем с опущенным забралом. Сумеет ли он передернуть карты, или время уже упущено?
Он разбирал прошлое по частям, отбрасывая труху и осколки условностей. И всегда неотброшенными оставались две вещи — любовь и дружба. Любовь и дружба были самыми стойкими элементами жизни. Они никогда не изменялись ни под какими воздействиями, если, конечно, были настоящими, а не маской.
Любовь и дружба. Нужно быть очень честным человеком, чтобы до конца пронести их по жизни. Нужно быть осторожным, чтобы они не превратились в привычку.
Самым близким человеком была для него сейчас мать Атол, миссис Роч, женщина с тысячью предрассудков и предубеждений, но по натуре мягкая и добрая. Он написал ей письмо. Он рассказал все, что его мучило. Даже о минутах отчаянья.
«Я никогда не думал, что жизнь человека такая дешевая вещь. Здесь на людей смотрят, как на животных. Рабочий день здесь тринадцать часов, и кто не выполнит задания, того бьют. И как бьют! С тонким знанием дела. А вынести работу может разве только Геркулес, для простого человека это верная смерть… Чахотка здесь — обычная вещь, все равно, что насморк у вас, на воле.
Я пробовал примириться с тюрьмой, но нет, не могу. Что привязывает меня к жизни? Я способен вынести какие угодно страдания на воле, но эту жизнь я больше не желаю влачить. Чем скорее я ее кончу, тем лучше будет и для меня и для всех остальных».
Он послал письмо, минуя тюремную цензуру, через доктора Уилларда, который жил в городе. Он писал без надежды на ответ. Он не знал, как отнесется миссис Роч к нему, каторжнику, теперь. Она была южанкой до последнего своего ногтя и могла разорвать конверт, даже не распечатав его.
Но ответ пришел. Он читал его, остывая после очередной экскурсии с Уиллардом в подвал пыток.
«Я твердо убеждена, что все это судебное дело — ошибка, — писала миссис Роч. — И ваши рассуждения о жизни тоже ошибочны. Мы — люди, и в наших бедных сердцах живут сильные страсти и большие слабости. Такими уж создал нас господь бог. Но прошу вас, Билли, не забывать, что, кроме меня, которая вас уважает и вам верит, у вас есть еще Маргарэт, которая вас любит и для которой вы — единственный человек на свете. Помните об этом каждую минуту, Билли, и да хранит вас бог…»
Человек притерпевается ко всему. Через месяц он уже не бледнел и не отворачивался при виде искореженных в конском станке, изорванных железными прутьями тел. Он перестал ощущать запах крови. Нервозность и самоуничижение Уилларда обратились в порядок вещей.
Он видел, как человеком разбивали сооружение, сколоченное из досок и слегка похожее на кресло. Человеку подгибали колени к подбородку, приподнимали его и с силой опускали задом на доски. Это называлось «посадить на стул».
Он узнал, что означают слова «освежите этого парня». Для «освежения» надзиратели использовали брезентовый пожарный рукав с узким наконечником и струю воды, прямую как палка, направляли в лицо своей жертвы. Голова крепко привязана к вбитому в землю столбу, и струя, режущая как сталь, заставляет человека открыть рот. Вода врывается в глотку, наполняет человека до краев, растягивает и разрывает желудок. Ни одному каторжнику не удалось еще выдержать двух таких пыток.
Он мог легко покончить с собой. Под руками были морфий, сулема и мышьяк. Но под руками, кроме страшных склянок были письма миссис Роч, и всего в ста пятидесяти милях от Колумбуса, в Питтсбурге, жила голубоглазая девочка, которой он задолжал будущее.
Он пишет в Питтсбург:
«Самоубийства у нас такая же заурядная вещь, как у вас пикники. Почти каждую ночь нас с доктором вызывают в какую-нибудь камеру, где очередной бедняга пытался свести последние счеты с жизнью. Вчера сошел с ума бывший боксер. Потребовалось восемь человек, чтобы связать его».
В постскриптуме он просит:
«Ради бога ни словом, ни намеком не дайте понять Маргарэт, где я и кто я сейчас. Ее отец не каторжник, он журналист, репортер крупной нью-йоркской газеты, уехавший в долгую заграничную командировку. Он из Южной Америки переезжает в Европу, потом в Индию, а оттуда в Китай. Годика через четыре он вернется домой и привезет маленькой Марджи много замечательных вещиц и чудесных рассказов о далеких странах».
В письмо он вкладывает записку, написанную печатными буквами:
«Алло, Маргарэт!
Помнишь ли ты меня? Я Мурзилка и меня зовут Алдибиронтифорникофокос. Если ты увидишь на небе звезду и успеешь повторить мое имя семнадцать раз, прежде чем она закатится, ты найдешь колечко с алмазом в первом же следке коровы, которая будет шагать по снегу после метели среди пунцовых роз на помидорных кустах.
Ну, прощай. Мне пора в дорогу. Я езжу верхом на кузнечике…»
… Вечерняя выдача лекарств — списки больных — подвал пыток — опухшее лицо Уилларда — стоны избитых — грохот тачки, на которой негр Джо, санитар, возит трупы в морг, — свеча на конторке — обход камер особого режима — чертов круг, в котором человек — крохотная частица какого-то бесконечного процесса: «на ужин!» — «ко сну!» — «на прогулку!» — «номер 30664!» — «номер 27221!»
Только не дать закрутить, засосать себя, только остаться тем, кто ты есть…
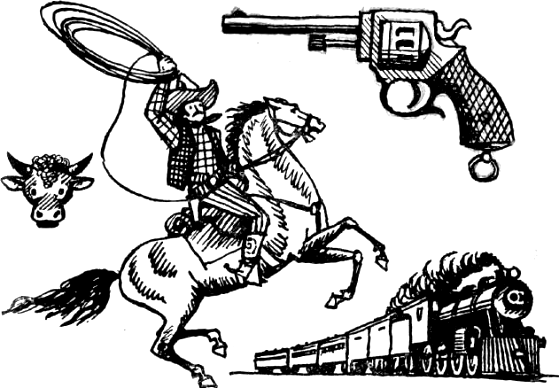 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |