"Циклон над Сарыджаз" - читать интересную книгу автора (Коротеев Николай Иванович)
ЦИКЛОН НАД САРЫДЖАЗ
Встретился я вчера с Хабардиным. С Василием — моим старым другом, тоже ветераном. Он, как и я, здесь, во Фрунзе, живет. Болеет всё ещё Вася. Тридцать лет… Нет, больше прошло с тех пор, когда мы с ним вдвоем преследовали целую банду…
Вон на бульваре, под старым таким карагачем, — скамеечка. Её хорошо отсюда, из гостиницы, из номера, видно. Там и повстречались.
— Аманты, тамыр Кошбаев, — говорит Вася.
— Здорово, друг, — отвечаю.
Присели на скамеечку. Помолчали.
Мы с ним всегда так — сядем, молчим. А потом мне многие-многие дни не дает покоя история о том преследовании.
В ноябре сорок третьего года это было…
Я возвращался во Фрунзе из Южной Киргизии. Ехал поездом очень долго, помню, суток трое: через Ташкент, Талас… Рана всю дорогу покоя не давала. В бедро меня легко ранили, навылет. В горах мы ликвидировали одну из банд. Тогда я занимал должность начальника отдела по борьбе с бандитизмом Наркомата внутренних дел Киргизии.
Во Фрунзе размещалось много госпиталей. Человек на костылях был в городе не редкость. Однако идти по родной улице самому, опираясь на подпорки, как-то диковато. Поезд пришел поздно вечером, от вокзала до дома, где тогда проживал, всего два квартала по бульвару Дзержинского. Так что добрался я быстро, не встретив никого из знакомых.
Уж редко в каком окне горел свет, бледные уличные фонари скупо бросали желтые пятна на асфальт. Снег не выпадал, хотя и морозило.
Пройдя под высокой аркой во двор, я удивился, что окна моей квартиры темны, но во всех комнатах горел свет у моего товарища по работе, старшего оперуполномоченного отдела ББ Макэ Оморова. «Значит, и он вернулся», — подумал я. Попытался припомнить, не приходилось ли на эти дни больших семейных праздников, — вроде нет… Решил зайти на огонек, кстати, и о делах узнать. Мои жена и дочь, поди, у Оморовых; и то, что я ранен, жена на людях примет спокойнее. Оморов жил на этаж ниже нас, на втором.
Подошел к двери, нажал кнопку звонка. Дверь тотчас распахнулась, словно меня ждали, — и на пороге жена Оморова. Лицо заплакано, одежда в беспорядке. Увидела меня на костылях, заголосила, схватилась за волосы:
— У-би-ли… Макэ убили! — и опустилась на пол, прижалась щекой к косяку. — У-би-ли!
— Как это — убили? — оторопел я. Спросил или не спросил — не помню, но саму мысль — невероятность происшествия — отчетливо осознаю; будто мой друг Оморов, веселый, улыбчивый человек, являлся бессмертным, и гибель его — противоестественна. Хотел помочь жене Оморова подняться — не могу. И понять не в состоянии, почему не могу. Никак не соображу — костыли не дают нагнуться.
В глубине коридора вижу свою жену, дочь.
«Вот почему темно в наших окнах…»
Жена смотрит на меня, рот ладонью закрыла — заплакать боится: где уж ей-то плакать, я-то, хотя и на костылях, но жив, жив всё-таки, а вот Оморова уже похоронили. Тут не горе — беда!
Помогла моя жена подняться вдове.
Спрашивать женщин о чем-либо, понимал, бессмысленно, откуда им знать, что случилось со старшим оперуполномоченным отдела ББ.
У меня язык к гортани прирос, слов соболезнования не найду. Да и что сказать? Дело такое, солдатское… Что ж ещё скажешь? Идет война. Сколько раз Оморов, да и я просились на фронт, в Панфиловскую дивизию. Иван Васильевич Панфилов, погибший в 41-м году под Москвой, был перед войной военным комиссаром республики. Близкими людьми не довелось с ним быть, а знать друг друга знали. И в числе двадцати восьми панфиловцев, остановивших фашистские танки у разъезда Дубосеково под Москвой, были бойцы многих национальностей. Ведь дивизия формировалась в июле 1941 года в Алма-Ате. Дня не проходило, чтоб газеты не рассказывали о подвигах сынов Казахстана и Киргизии, Узбекистана и Таджикистана…
Трудно понять чувства командира, который лишался боеспособного, умного бойца. Оморов являлся именно таким. Сколько раз выходил он невредимым из безвыходных, казалось, положений. Сколько раз в схватках с бандитами он проявлял завидную выдержку и смелость. Да что говорить… Узнав о гибели Макэ, о том, что его уже похоронили со всеми воинскими почестями, я не мог представить себе ситуации, в которой бы Оморов так обмишулился…
Я должен был узнать всё о происшедшем.
— В наркомат пошел… — сказал я жене, хлопотавшей около вдовы Оморова, и, едва не запутавшись в костылях, стал спускаться по лестнице.
Оперативники рассказали мне: погиб в схватке с бандитами не один Оморов, но и участковый уполномоченный Сокульского района Ненахов. Тяжело ранен Коломейцев, председатель колхоза «Камышановка». Узнал я и о том, что Оморов успел много сделать по установлению личности преступников. Ими оказались братья Исмагул и Кадыркул Аргынбаевы. Об их отце — Аргынбаеве — мы были наслышаны достаточно. Он в начале тридцатых годов и возглавил одно из крупных в Средней Азии кулацких восстаний. После разгрома восстания предводитель был расстрелян, а дети-малолетки воспитывались у дальней родственницы, проживавшей в Сарысуйском районе Джамбулской области, соседней с Таласской областью Киргизии. Детей Аргынбаева, конечно, не искали. Братьев, когда пришел срок, призвали в армию. Но они дезертировали в 1942 году, предались волчьей жизни: скот резали, баранов, лошадей, терроризировали население в округе. Оморов считал, что толкнул их на путь бандитизма невесть откуда появившийся младший брат отца, дядя Абджалбек.
Многое успел узнать Макэ. Немало помогли ему жители тех мест. На заключительном этапе операции Оморов выследил банду, устроил засаду в камышах, но сам вместе с товарищами попал в сеть. В последнем донесении Оморов подробно останавливался на разработке операции и в ней не упустил ничего. Однако случай есть случай. Не подставлял же я нарочно себя под пулю, и проводник не предполагал, будто можно так быстро и ловко забраться на скалу, откуда стреляли в меня. Борясь с вооруженным врагом, надо считаться с неизбежностью потерь…
В странах, сопредельных с советскими Среднеазиатскими республиками, в годы второй мировой войны заметно ожили пронемецкие настроения. Их подогревала довольно густая фашистская агентура… Считалось даже, что взятие гитлеровцами Сталинграда может послужить сигналом к активным военным действиям на среднеазиатских границах.
Но последовал разгром фашистов на Волге, провел наступления на Курской дуге. Вот тогда немцы стали использовать своих агентов, старые басмаческие связи без разбору, лишь бы хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь досадить тылу нашей победоносной армии. И то сказать, немного и лет прошло со времени ликвидации массового басмаческого движения. Не могли люди, ненавидевшие наш строй и лишь смирившиеся с властью бедняков, вдруг переделаться, не желать нам зла, а сыновья бандитов осознавать неправоту казненных отцов.
За полночь уже попал я на прием к наркому республики, поднялся мне навстречу Павлов и только руками развел:
— Ты же докладывал — легко ранен! А сам на костылях, да и я нахвастал…
— В чем дело, товарищ нарком? — спрашиваю.
— Прощин из Москвы звонил, — отвечает Павлов. А генерал-майор Прощин тогда возглавлял главное управление по борьбе с бандитизмом Наркомата внутренних дел страны. — Вот я ему и сказал, — продолжил нарком. — Мол, Кошбаев вернулся, ему и поручим дело Аргынбаевых…
— Согласен, — говорю.
— Куда ж это ты — на костылях! Тебя в госпиталь надо. И спорить нечего. В госпиталь! — и разговор вроде заканчивает.
— Простите, товарищ нарком…
— Слушаю, — неохотно согласился Павлов. Наверное, думал, уговаривать стану и ныть, мол, отдайте мне дело, справлюсь.
Только я другую тактику избрал.
— Скажите, пожалуйста, товарищ нарком, каким образом здоровый мужчина, которому на фронт надо, начнет по районам бродить? А?
— Плохо, конечно… Сразу засекут. К своим, таким же работникам, приведут.
— Вот, вот… Раз приведут, два приведут — пропала операция.
— Ты к чему, Кошбаев, клонишь?
— А если пойдет по пустыне хромой… Скажут — раненый с фронта вернулся. На поправку. Он и гуртоправом может назваться, пастбища зимние искать… — Это мне тут же в голову пришло, какой профессии должен быть человек, что на поиск отправится. — Подозрений никаких — ходи, спрашивай, пастбища ищи, с людьми всякими разговаривай, расспрашивай, никто не догадается. А? Товарищ нарком…
— Ой, хитришь, Абдылда… — рассмеялся Павлов.
— Всё как по нотам…
— Почему ты решил, что профессия гуртоправа — самая удобная?
— Кормов в колхозах мало. А поголовье все-таки увеличивается. Все это знают. Получается, нужны новые пастбища. Где их искать? На землях малоосвоенных. А малоосвоенные земли и малозаселенные. В тех районах должны скрываться люди, которые боятся попадаться на глаза другим.
— Резонно… Но я обязан запросить Москву. — И нарком поднял трубку аппарата ВЧ.
Павлов, соединившись с Прощиным, довольно долго объяснял начальнику главного управления ББ Союза ССР мою просьбу, отвечал на вопросы о состоянии здоровья. Было похоже, что разговор складывается не в мою пользу.
— Вот, давай, сам поговори с генерал-майором… — и нарком передал трубку мне.
Пришлось все объяснять сызнова. Наконец Прощин спросил:
— Скольких людей возьмешь с собой?
— Одного… — не желая вступать в спор с начальством, сказал я.
— Одного? — недовольно пробасил генерал.
— Не стадом же ходить. Не годится.
— Трое — это стадо?
— Для пустыни — подозрительное стадо.
— При чем тут пустыня? Они не пойдут в пустыню. Что им там делать? — сердился генерал.
— Это так говорят — «пустыня». Там пастбища. Зимние. Всё поголовье там — овцы, лошади. Там по-волчьи можно нападать и уходить в пески Бетпак-Дала, Муюнкумы, в тугаи Кокуйских болот.
— А как ты их узнаешь, этих Аргынбаевых? Оморов, если и видел их, то последним…
— Попытаюсь достать их фотографии, товарищ генерал.
— Фотографии?! Самонадеянно, товарищ Кошбаев… Вам не кажется?
— Братья Аргынбаевы лет двенадцать проживали в одном месте, у родственницы. Вряд ли молодые парни утерпели, чтоб не сфотографироваться. Хоть единожды…
— И они оставили эту фотографию для вас. Специально, может быть? — ирония звучала и горько и справедливо.
— Может быть… — я попытался отшутиться. Но про себя оставался уверен — есть фотография и находится в Сарысуйском районе, у родственницы, про которую написано несколько слов в донесении Оморова. Оттуда, от аила, от дома родственницы, надо начинать операцию. Женские уши, если хотели слышать, знают почти всё об их намерениях. Наше дело — разговорить женщину, будь она почтенной апа или Джез-кемпир, ну бабой-ягой.
— Слишком много фантазии, Кошбаев, — сказал генерал. — Однако тебе на месте виднее. Лишь вдвоем с напарником пойдешь?
— Да, товарищ генерал.
— На костылях попрыгаешь?
— Первое время на костылях, потом с тросточкой…
— Сколько нужно времени, товарищ Кошбаев?
— Не знаю…
— Учти, их ищут оперативные сотрудники обеих республик: и ваши, в Киргизии, и в Казахстане. Обе республики будут помогать тебе. Три месяца даю. Ни дня больше. Брать живыми. Особо главаря — дядю их, Абджалбека. Братьев Аргынбаевых само собой. Помни, жизнь каждого человека, которого ты вольно или невольно привлечешь к операции, на твоей ответственности. На твоей!
— Ясно, товарищ генерал…
— И ещё учти — желательно и на заключительном этапе обойтись без стрельбы, без войск, хотя неизвестно, сколько бандитов в шайке. Слышишь, постарайтесь без единого выстрела. Телеграмму-подтверждение разговора и приказ о тебе по команде всем райотделам высылаю тотчас. Понял?
— Так точно, товарищ генерал.
— Приступайте, товарищ Кошбаев.
Раненая нога огнем горела, но в наркомате я ещё держался. Решался вопрос о напарнике. С собой я решил взять Васю Хабардина. Невысокого такого, щуплого парня. Павлов сначала не понял — почему Хабардина? Ему хотелось придать мне кого покрепче. Только я снова свою линию потянул, мол, Вася может сослаться на слабые там легкие и этим объяснить, почему не в армии.
— Нам с ним надо застраховаться от явных подозрений в дезертирстве. Доведись нам встретиться с бандитами, пусть они думают что угодно, но мы не должны походить на здоровых, сильных людей. Кто знает, как им придет в голову нас проверять, коль мы здоровые. Не на грабеж же нам идти, не на разбой.
— Убедил, убедил… — согласился Павлов. — Действуй. Только не зарывайся и помни: от райуполномоченных НКВД до начальников отделений милиции в районах — все будут знать о тебе, о том, что ты выполняешь задание. Не зарывайся… В смысле, не отрывайся, но действуй на свой страх и риск. И мне нужно хоть раз в неделю получать о вас с Хабардиным сведения.
— Последнего обещать не могу, товарищ нарком.
— Однако постарайся…
Да, в наркомате я держался… А вот вышел, добрел до Дубовой рощи. На ногу ступить не могу, пошевелить и то боль дикая. Сел на скамейку у памятника героям гражданской войны, и такая тоска меня взяла по моему товарищу, старшему оперуполномоченному, весельчаку и балагуру, душе всякого нашего сборища, вечеринок, по Макэ Оморову…
Горло сдавило, да слез нет. Нет слез, и вздохнуть не могу — перехватило дыхание. Откинулся я на спинку скамьи, в небо смотрю: сквозь корявые сучья дубов видны облачка мелкие, луна их просвечивает насквозь, а самое её не видно — блеклое пятно за туманом. На землю тени от деревьев не падают, но ветви и стволы, опавшие листья на газонах будто червленое серебро — пала изморозь.
Поклялся я сам себе — живыми возьму Аргынбаевых. О своей смерти не думал, не существовала она для меня. Пока мы живы, её нет, а когда приходит она, нет нас. Домой пришел с тяжелым чувством, будто в гибели Оморова виноват и я. Наверное, так оно в чём-то и верно: когда погибает подчиненный, начальник его непременно ощущает вину — он его воспитал, он его послал на задание, и спрос у командира прежде всего с себя самого.
С Хабардиным Васей встретился утром. Человек он спокойный, выдержанный, настоящий чекист, потомственный. Выслушал он меня и тоже засомневался, найдем ли мы фотографии Аргынбаевых у их родственницы. Путь не близкий — около Голодной степи она жила. Не потеряем ли только время?
— А как мы иначе узнаем братьев в лицо? — ответил я вопросом на вопрос. — Оморов их явно видел, да его уже не спросишь. Выяснить, как они выглядят, в Камышановке? Пожалуй, только насторожишь их. Аргынбаевы могут иметь там своего человека. Ведь выдал кто-то им сведения о готовящейся засаде!
— По-моему, Оморов поторопился, — заметил Хабардин, — не стоило идти в камыши даже на засаду. Подход к ним открыт. В тугаи никто не войдет незамеченным. Хотя бы и ночью.
Не согласиться с Васей, я не мог. Однако у Оморова могли быть причины торопиться. Кто знает, почему опытный работник так поспешил?
Подумав, Хабардин согласился со мною:
— Случай, что мы найдем фотографию, пожалуй, совсем и не случай… Нет в аилах парня, который устоял бы перед искушением сфотографироваться…
На следующий день мы получили в канцелярии документы гуртоправа и бухгалтера алма-атинской конторы «Заготскот», по которым нам отныне придется проживать, на оружейном складе по четыре гранаты-«лимонки», запас патронов, экипировались. Выдали нам по валенкам, поношенные зимние пальто, черные, длиннополые. После офицерской формы гражданская одежда казалась не столь неудобной, сколь непривычной.
К вечеру мы уже толкались в вокзальной толпе у кассы, провели ночь на скамье, перезнакомившись с доброй сотней торопящихся куда-то по своим делам пассажиров, удивлялись про себя, какие, в сущности, мелкие причины позвали их в дорогу. Поезд ушел только утром.
Через сутки езды вышли мы на пустынном полустаночке — глинобитная хижина, около — штабель шпал, тут и фонарь допотопный, а к нему верблюд привязан. Вместе с попутчиками ещё сутки добирались пешком до аила. Они рассказали нам о всех пустующих землях на сотню километров в округе, а также посоветовали, где и у кого лучше всего остановиться. Среди названных адресов оказался и адрес старухи Батмакан, дальней родственницы Аргынбаева, той, что приютила братьев. Батмакан, говорили они, женщина одинокая и обрадуется любому человеку, особенно вернувшемуся с войны.
— Почему? — спросил Вася Хабардин.
— Она двух своих приемышей отправила на фронт. И всё никак не дождется от них весточки. Уверен, неделю она будет вас расспрашивать только о том, как вы ехали на войну и не попадались ли вам по пути солдаты, похожие на её Ису и Мусу. Потом примется расспрашивать о войне, потом о дороге в родные места после ранения и всё о приемышах выпытывать.
— Что ж они, такие приметные? — спросил я у разговорившегося спутника.
— Нет. Обычные парни. Ни красивее, ни дурнее других. Только ведь и наседка среди всех желтых цыплят узнает своих желтеньких. Если остановитесь у неё, так уж скажите, мол, видели вы её красавцев. Ну, похожих на них. Я же не прошу врать, — заметив протестующее движение Хабардина, добавил наш доброхот. — Старуха Батмакан будет в вас души не чаять. Да и нам, односельчанам, станет полегче. Старуха Батмакан и сама извелась и нас замучила. Ходит по селу с утра, спрашивает, кто в райцентр поедет, это чтоб на почту зашел. А чего заходить каждый день? — и совсем тихо: — Старый Джолдошбек по секрету говорит, внук ему написал, будто и не в армии её приемыши… Сбежали они, написал ему внук. Только потихоньку говорит, боится Джолдошбек — выцарапает ему старуха Батмакан глаза за такие слова или за бороду при всех оттаскает аксакала. Она такая — старуха Батмакан.
Мы с Васей переглянулись, поохали и поахали, сетуя на злые языки. Но наш спутник больше ничего не добавил к своему рассказу о приемышах Батмакан. Нам сказанного им было достаточно.
С неделю мы прожили у старухи Батмакан в ухоженном, светлом и чистом саманном домике, огороженном добротным дувалом. Не лежебоками были приемыши старухи. Она ласково звала их Иса и Муса. От соседей мы услышали, что учились братья прилежно, в колхозе работали хорошо. Правда, последнее время перед отправкой в армию что-то случилось с ними. Они стали злобными, драчливыми. В городе новый человек — песчинка среди песка, в аиле — гора среди гор. В аиле помнят, с какой ноги поднимался твой дед в понедельник, с какой — в пятницу, и можно ли было попросить у бабки огня, чтоб разжечь очаг, или она не даст уголька и при пожаре. В общем, мы узнавали, что могли, о приемышах Батмакан. Люди интересовались нами.
С утра мы уходили в горы смотреть свободные пастбища, возвращались поздно, советовались с председателем колхоза, как лучше использовать угодья, чтоб не помешать местным чабанам. В правлении сталкивались со множеством людей, вели долгие неторопливые беседы. Постепенно, слово за слово, подтверждалось замечание в донесении Оморова о появлении в селе дяди приемышей. Ага, догадались мы, побывал тут Абджал-бек. Батмакан же пока о нём словом не обмолвилась.
Долго было бы рассказывать, сколько обстоятельнейших разговоров стоило нам провести, чтобы соседи догадались передать Батмакан, мол, нам известно о приходе дяди к «сиротам». Больше того, мы точно узнали о существовании альбома у Батмакан, в котором находились фотографии приемышей. Но апа нам его не показывала. В аиле не принято помещать фотографии на стенах.
Нам нельзя было выглядеть слишком любознательными. Пришлось быть терпеливыми, настойчиво говорить о всяких пустяках, не проявляя излишнего интереса к Исе и Мусе. Но в то же время поторопить старуху Батмакан с решением: мы начали собираться к отъезду.
Войну апа представляла себе вроде междоусобицы аилов, в которой все друг друга знают, и нет большого труда найти, кого тебе нужно. Конечно, расстояния большие и людей больше, но не может же быть так, рассуждала она, что совсем невозможно найти человека на войне. Надо просто знать о нём всё. Найденный примет ищущего, как друга. Это самое важное, считала старуха Батмакан.
Была она женщиной крошечной, юркой и очень отзывчивой на доброе слово. Она действительно расспрашивала нас, не видели ли где мы её приемышей и скоро ли поедем на войну. Едва не через час я приговаривал, что гуртоправом работаю временно, если меня, конечно, не комиссуют по ранению.
— Мало ли встреч бывает на военных дорогах! — сказал я однажды. — Вдруг увижу ваших приемышей, привет от вас передам, Батмакан-апа. Только вот как я их узнаю?
Старуха прослезилась:
— Правду сказать, люди добрые, не приемыши они мне, а очень дальние родственники. А раз воюют, то не в отца пошли.
— Что ж у них за отец такой?
— Аргынбаев…
— И-и… когда это было, что имя Аргынбаева наводило страх на бедняков, — заметил Вася.
— Но ведь было… — печально покачала головой старая Батмакан. — Я добру их учила. Воспитывала как настоящих мужчин!
«Понятно, — подумал я. — Они воспитывались в старых родовых традициях! Тогда, конечно, не пришлось Абджалбеку долго уговаривать Исмагула и Кадыркула мстить за отца, который разорил тысячи семей и убил тысячи людей, чтоб вернуть себе стада и табуны!»
— Разве я учила их злу, когда внушала почтение к старшим рода, старшим в семье, аксакалам? А они, как два барашка, побежали за старым козлом Абджалбеком. Худой он человек. Настоящий басмач. Не думала я, что он появится… Не думала…
Старуха Батмакан говорила искренне, мы не могли ей не верить.
— Не знаю, так ли добры люди, чтоб забыть и не желать мести детям. А фотография мальчиков у меня есть. — И старая Батмакан полезла в кованый сундук, достала со дна его ветхий, как она сама, альбом с медными пряжками и передала нам снимок двух парней — Исмагула и Кадыркула.
— Вот Исмагул, — показала Батмакан на круглолицего щекастого юношу. — А это Кадыркул.
Я пристально вглядывался в лица парней на любительской фотографии. Один, тараща глаза и полуоткрыв рот, замер в каком-то напряженном ожидании, другой глядел в объектив недоверчиво, сбочь, точно готовился вот-вот удрать.
— Исмагул — тот вроде телка, а Кадыркул — упрям, своеволен… — проговорила старуха Батмакан. — Бедные дети… Бедные дети…
Странными были её последние слова, и странен взгляд, словно передавала она в наши руки не фотографии, а живых приемышей.
Я спросил:
— Неужели другие родственники не интересовались судьбой мальчиков?
— Абджалбек, младший брат Аргынбаева, — ответила старуха Батмакан. — Их дядя.
— Виделись они?
— Здесь… Здесь Абджалбек кричал на меня, топал, называл лгуньей, обманщицей. Дядя рассказал им, кто их отец, и призвал мстить за его смерть, если в жилах мальчиков не вода, — глухо ответила Батмакан. — Потом в доме словно погас очаг. Мальчики не разговаривали со мною. Затем их призвали в армию. Чтоб не позориться перед людьми, я не пошла их провожать. Они не обняли бы меня на прощанье… Как два барашка, побежали братья за старым козлом Абджалбеком.
Да, вот уж поистине мертвое схватило за ноги живых. Схватило и уволокло по-волчьи, во тьму прошлого, в бездну преступления. Во время суда над главарями восстания Абджалбека не помиловали. Отбывая наказание, он лишь обматерел в ненависти, бежал из лагеря и снова стал на путь борьбы с Советской властью.
Расставшись с Батмакан, мы поехали в город Джамбул, где встретились с местными работниками отдела ББ области и Казахской республики. Они заверили нас с Хабардиным: нет братьев Аргынбаевых ни в городах, ни в селах области. Если они и скрываются, то только в Кокуйских болотах.
Это местность, где река Чу, давшая название всей долине Киргизии, впадает в пески пустыни Муюнкум. Слово «кокуй» перевести на русский язык очень трудно. Оно имеет ряд значений. В устах женщины — возглас безмерного отчаяния. В названии местности понятие можно перевести как «окаянное», «проклятое место», «гиблое».
Что ж, пойдем в эти болота. Они как раз находятся на север от Джамбула.
Дорога к Кокуйским болотам через пески Муюнкум — самая короткая. Конечно, мы слышали, что она и самая трудная. Но, желая побыстрее выполнить задание, мы поспешили отправиться пешком напрямик. Спозаранку облачились мы с Васей в свои цивильные пальто, бросил я костыли, и мы отправились в сторону гор. Это скорее высокие холмы, чуть повыше меня ростом.
Два дня понадобилось нам, чтоб выйти к пескам Муюнкумов. Муюн — по-казахски «шея». Выходит, пустыня называется «пески, как шеи». Когда мы миновали перевал и пустыня открылась нашему взору, до пепельного горизонта, сразу вся, я подумал, что снег запорошил стадо верблюдов на ночевке. Ветер сдул снег с песчаных всхолмлений и барханов, а они — желтые и серые на белом фоне заваленных сугробами чурот — межбугровых понижений — действительно походили на верблюжьи шеи. Так и торчат из-под снежного покрова эти «шеи»: одна к одной.
День шли мы на север среди «песков, похожих на шеи», вернее, через лабиринт меж длинных холмов. Идти по гребням не позволял пронизывающий на двадцатиградусном морозе ветер.
Серая пыль маревом висела над песками. Она забивала нос и глотку, засыпала глаза, жгла и слепила.
В чуротах, межхребетьях, висела та же пыль. Подкарауливали зыбуны — тонкий слой обледенелого песка, скрепленного кое-как корнями, а под ним — крепко соленая, незамерзшая вода. Я провалился едва не по пояс. Вася с превеликим трудом помог мне выбраться. И только, пожалуй, ледяной панцирь, тут же покрывший одежду, уберег меня от обморожения.
В сумерках под темным пологом низких сизых туч мы заметили в предгорьях искорку. Посмотрел я в бинокль — костер горит. Мы вернулись, держа путь на огонь, стараясь маскироваться в складках меж песчаными гребнями. Трудно пришлось. Снег сыпучий, глубокий, песок и того хуже — скатываешься по сухому потоку. Наконец мне удалось разглядеть, что у костра человек сидит. Охотник — один-одинешенек — свежевал сайгака. Мы подошли.
— Салям алейкум! — сказал Вася Хабардин, считавшийся прекрасным знатоком казахского языка, говоривший, как утверждали, без акцента.
— Здравствуйте, здравствуйте… — Охотник в шапке, подбитой и отороченной лисьим мехом, лишь голову поднял, продолжая заниматься своим делом. Был он ни молод, ни стар, тугие щеки лоснились от жара костра и жира, глаза глядели спокойно, доверчиво, с любопы-тинкой.
— Мы тут пастбище для скота ищем… — опять сказал Вася.
— Хорошо, хорошо… Есть пастбища. Зимние пастбища.
— Хотим напрямик к Кокуйским болотам выйти.
Охотник бросил свежевать сайгака, принялся смотреть на нас, наклоняя голову то к одному, то к другому плечу.
— Как охота? — чтобы прервать затянувшееся молчание, спросил Хабардин.
— Здесь не бывает плохой, — ответил казах и рассмеялся. — Через Муюнкумы на Кокуйские болота?
— Да… Пастбища посмотрим. Негде пасти скот…
— Ходили тут?
— Нет.
— А у вас все дома? — посерьезнев, спросил казах. — Тут на сто тридцать километров в округе нет питьевой воды.
— Вы-то ходите… — заметил Хабардин.
— Я знаю, куда хожу. Волка бью, лису бью, сайгака на мясо бью. Тут я свой. А как вы пойдете?
— Прямо… — сказал Хабардин.
— Утонете в болоте. Зыбучий песок. Людей нет. Кто поможет?
— Что ж, совсем людей нет?
— Месяц хожу — днем ни дымка, ночью ни огонька. Отсюда далеко видно. Люди не могут без огня. Нет тут людей, совсем нет. Если не хотите пропасть — возвращайтесь. Не верите? Кого угодно спросите, вам ответят: «Жасып вам правду сказал». И нога у тебя болит, тянешь за собой.
— Мы подумаем, — кивнул Вася.
— Думайте… Каурдак будем делать, воду пить — чаю нет.
— У нас есть. Мы вам пачку дадим — скажете, как идти?
— Вы люди добрые, видно. А каурдак я нажарю на пятерых. Только давайте сначала чай пить. Возвращаться вам надо. Нельзя тут идти, болота, зыбучий песок.
Охотник, пока грелся котелок с водой, нарубил прямо на шкуре печень, селезенку, легкие, кишки, чтоб приготовить каурдак.
Жасып пил чай, обжигая губы о кружку, прихлебывая и шипя от удовольствия, а в котелке уже кипело нутряное сало, распространяя запах ливера, жарились потроха — каурдак.
Я прикидывал и так и этак — охотник прав. Мы поступили опрометчиво. А судя по встрече и разговору, в песках Муюнкумов действительно нет людей. Во всяком случае, поблизости, а обследовать всю пустыню не хватит и года. Нам же дан срок всего три месяца. Не только на обнаружение банды, но и на её ликвидацию.
Двое суток мы не ели горячего, не пили чай, потому что не разжигали костров. Огонь оповестил бы на сотни вёрст: кто-то новый пришел в Муюнкумы, посторонний, которого, может быть, следовало опасаться. Двое суток делили воду по глотку, питались ледяными консервами, и сейчас запах свежего жареного мяса приводил нас в восторг.
Нет ничего разумнее признать собственную ошибку, но нет ничего, пожалуй, и труднее.
Утром мы попрощались с охотником и скорым шагом отправились обратно в Джамбул. Мы, рассчитывая отоспаться в поезде, не стали на ночевку и где-то в середине второго дня были уже на вокзале, пропитанном угольной гарью, едкой и сладкой на морозе. За время пребывания в пустыне наша одежонка приобрела тот колоритный вид путешествующих — пыльный, мятый, замызганный, что мы совсем не отличались от других, отмахавших, может быть, не одну тысячу километров. При проверке документов наши справки не так убеждали солдат, как иловая и меловая пыль песков Муюнкумов, крепко пропитавшая нашу одежду. Сутки протолкались мы на вокзале. И только на вторые, дождавшись темноты, мы залезли в тамбур вагона, открыв трехгранным ключом дверь. Вася разведал, будто поезд идет до Луговой, а оттуда то ли в Алма-Ату, то ли в Караганду. Это уже было не важно. В любом случае мы не минуем станции Чу, откуда идет узкоколейка в сторону Покровки (ныне Фурмановка). Она-то и расположена на краю Кокуйских болот, в устье Чу, впадающей в пески. Болота, в свою очередь, отделяют пески Муюнкумов от пустыни Бетпак-Дала. Как это ни странно может прозвучать, но чем реже плотность населения, тем больше информации о нём. В городе мы очень редко знаем даже имена детей в доме напротив.
Едва мы миновали два разъезда, в тамбуре появились контролер и проводник. Они удивились нашему проникновению в поезд. Привычно взяли штраф за безбилетный проезд. Потом контролер почему-то пригласил нас в служебное купе и запер там. Вскоре они пришли с лейтенантом НКВД.
— Документы, — потребовал он.
Мы протянули справки.
Он прочитал их, оттопырил нижнюю губу!
— Такой документ любой дезертир на ходу сделает. Придется вас задержать до выяснения. Может, ты и не ранен? А? — И, обернувшись к проводнику и контролеру, добавил: — Высадим на Луговой, сдадим в линейное отделение. Там разберутся.
Контролер и проводник кивнули и ушли довольные.
— Может, сами признаетесь?
— Может… — сказал я и достал служебное удостоверение.
Лейтенант вскочил, взял под козырек:
— Извините, товарищ подполковник.
— Не за что извинять, товарищ лейтенант. Вы правильно поступили. Но нам надо доехать до станции Чу. Позаботьтесь. И никому ни слова.
Худа без добра не бывает. И хотя мы «попались» бдительным людям, зато, «арестованные» и запертые в купе лейтенантом, могли отоспаться и отдохнуть.
На продуваемой насквозь всеми ветрами станции Чу стояли штабеля корявых саксауловых дров. Их свозили сюда по узкоколейке из лесхоза, расположенного в песках. Конечно, когда лесхоз закладывали и выхаживали едва не каждое деревце в чуротах и на песчаных буграх, не думали, что придется их под топор пускать. Да вот война заставила.
Часа два выбирал я в штабелях саксаула палку, чтоб опираться в пути, пощадить раненую ногу.
Без особых приключений добрались мы до 101-й остановки, так называлась конечная, где паровозик заправляли водой.
Гас короткий декабрьский день, хмурый, морозный и ветреный. До Гуляевки осталось тридцать пять километров. Мы решили преодолеть их за ночь. Думали, ветер успокоится. Но он разыгрался ещё пуще, гнал по песку последние снежинки, задержавшиеся в песчаных складках свея. Тьма грозила стать непроглядной. Отойдя примерно на километр от 101-й остановки, мы едва различали втоптанную ногами людей и лошадиными копытами снеговую стежку, кое-где переметенную уже узкими песчаными языками.
Ветер усиливался, в морозный воздух поднялся мелкий песок. Он сек кожу до ожога. Пришлось Васе прижать к щекам руки в перчатках, словно шоры надеть.
Неожиданно стало светлеть. Я не сразу понял, в чем дело. Светился вроде сам воздух, ставший упругим от быстрого движения.
Наконец мы вошли в первое на нашем пути понижение меж высоких песчаных бугров — чурот. Порывы проходили выше нас, отчетливо слышался шелест, мягкий и звенящий. Сделалось видно, что над хребтами веет светлая, отделенная от темного неба седая полоса поднятого ветром песка. И стали видны звезды. Я огляделся и оторопел. Огромная медная луна стояла за нашей спиной. На её фоне, как на круглом щите, рисовался старый, чуть не в обхват, саксаул с гривой ветвей и веточек, которые будто от ужаса торчали в разные стороны на изломанных судорогой, скрюченных сучьях. Дерево стояло поодаль и все целиком помещалось на ржавом лунном диске. Потом в глубине чурота замаячило много деревьев. Светлокорые, они светились на фоне темного песчаного бугра, будто призраки.
Через несколько километров на повороте мы неожиданно увидели луну перед собой. Она висела высоко, стала маленькой и очень яркой, такой яркой, что иссеченным пылью глазам было больно глядеть на неё.
Пар от дыхания отливал радугой в лунном свете.
И тут в глубокой тишине мы вдруг услышали высокие голоса. Переглянулись и пошли в ту сторону. Вскоре говор споривших, видимо, людей стих. Потянуло горьким дымом костра из саксаула. Мы свернули в соседний чурот и увидели в затишье меж кружевных саксауловых ветвей костер. Вокруг сидело несколько человек. Разношерстно одетые: кто в шубе, кто в шинели, кто в пальто, разных шапках от казахского колпака, подбитого мехом, до ушанки армейского образца. Они тупо смотрели в огонь. Подошли мы поближе, приметили за кружком мужчин двух русских женщин в демисезонных пальто, полушалках и обуви не по сезону — ботах. В ботах в такую-то погоду! Они устроились, скукожившись за спинами мужчин, занявших лучшие места около тепла.
Даже судя по одежде — городские. Не здешние, эвакуированные. Вид интеллигентный. Пожалуй, учительницы. Как они оказались среди дезертиров? Не спросишь. Почуют пятеро, что мы не их поля ягода, расправа коротка. Мы и пистолетов достать не успеем. Да если мы и сладим с ними — куда поведем под конвоем? В милицию. И раскроем себя. Не знаем мы, где Аргынбаевы. Пока их здесь, кажется, нет. Но могут появиться. Может быть, эта группа — часть банды?
— Нужно быть понахальнее, — сказал я Васе. — Понадобится — прикрой.
— Только шепни, на всякий случай, чтоб не обмишулиться.
— Ты тоже.
— Само собой.
Мы вступили в круг света от костра.
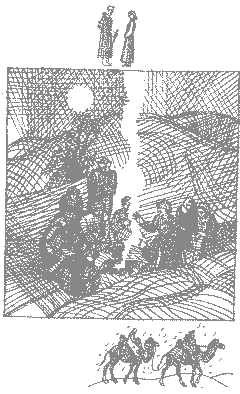 |
Заметив нас, мужчины заговорили меж собой, бросая на меня и Васю подозрительные взгляды. Больше всего их внимание привлекла моя увесистая палка. Однако, убедившись, что мы в гражданском и винтовок у нас нет, мужчины успокоились и равнодушно закивали в ответ на приветствие. Встрепенулись и женщины. Именно встрепенулись, но, увидев нашу доброжелательность по отношению к мужчинам, вновь скукожились, пытаясь прикрыть полами пальто окоченевшие ноги.
Где-то поблизости слышалось шакалье взлаивание и вытье.
— Что вы за люди? — спросил я. Судя по тому, что все пятеро были призывного возраста, мы наткнулись на дезертиров, объединившихся в шайку.
— А ты НКВД? — усмехнулся старший среди мужчин. — Кто сами?
— Гуртоправ и бухгалтер. Пастбища ищем,
— Это вон им рассказывай! — сказал старшой, мотнув головой в сторону женщин.
— Они здесь откуда? — спросил я.
Никто не ответил. Молчали и женщины. Вглядевшись в лицо каждого, я убедился: нет среди сидевших у огня ни Исмагула, ни Кадыркула Аргынбаевых.
Старшой спросил:
— Еда есть?
— Немного есть.
— Садитесь, — милостиво разрешил старшой. Во всякой своре есть пес, который первым скалит зубы да лает. Был такой и здесь — крупный, в непомерном халате, поверх шинели, доброй шапке на лисьем меху.
Мужчины послушно потеснились, давая нам место у костра.
Мы вытащили из вещмешков по лепешке и по две банки тушенки. Я быстро вскрыл их и подвинул к огню. Старшой, закряхтев, потянулся к банке, схватил, принялся заскорузлыми пальцами выковыривать мерзлое мясо и громко чавкать. Двое других из шайки тоже взяли по банке. Надо думать, и они поступили по праву старших. Но когда очередь дошла до четвертой, я сказал:
— Нет. Это для женщин.
— Посмотрите на него — он женщин любит! — хохотнул старшой с набитым ртом. — Женщин любит!
Плечистый верзила явно лез на рожон. Он понимал, что в стае голодных и малодушных верховодит тот, кто либо силен и может достать еду, либо тот, в чьих руках мясо и хлеб.
— А тебя что, отец родил? — тихо спросил я.
Никто из сосунков не поддержал старшого. Кто бы они ни были, в них ещё осталось воспитанное с детства чувство уважения к женщине — матери, сестре. Видимо, эти вчерашние мальчишки ещё не опустились окончательно.
— Зачем чужих матерей обижаешь? — уверенно продолжил я. — Враги тебе эти женщины? Почему не накормить.
— Самим нечего есть. У тебя в мешке консеркы… Я видел…
— Не твое дело. Что дали, то и ешь.
— Больно храбришься, колченогий! — повысил голос старшой.
— Заткнись! — крикнул я. — Эй, подвиньтесь, пусть женщины сядут ближе к огню.
Парни, сидевшие против меня и не сводившие взгляда с тушенки, повиновались. Я толкнул в бок Васю. Тот сказал женщинам по-русски:
— Двигайтесь к огню. Сейчас мясо согреется.
Женщины молча покорно втиснулись в круг сидящих у огня. Стащили зубами городские перчатки с пальцев, потянули к углям красные, опухшие, скрюченные от мороза руки. Одна из женщин, помоложе, всхлипнула, не поднимая лица. Другая глядела, не мигая, на огонь огромными запавшими голубыми глазами, тусклыми от бесконечного отчаяния.
Я понял: гони мужчины этих женщин от себя плетьми, они не уйдут. Сильнее страха перед людьми был ужас городских жительниц перед пустыней. Кто мог отпустить их одних? Что заставило самих пойти на риск и отправиться в путь через пески?
Саксаул горел споро и жарко.
Консервы запаровали, согрелись. Я отломил по четверти лепешки и протянул их женщинам, подвинул к ним банку. Они безучастно приняли еду, жевали, словно машинально, может быть, потому, что на них смотрели голодные глаза окружающих.
— Ешьте, ешьте! — подбадривал их Вася по-русски.
— Бабы сытые… В Ленинграде всё сожрали — сюда приехали, — пробурчал старшой и уставился на меня щелками глаз, наблюдая. Он хотел, ждал, чтобы я сорвался.
Очень захотелось мне отвести женщин подальше да и швырнуть гранату во всю эту свору.
— Сытые они! — зло ощерил зубы старшой и, распаляясь, заорал: — В Ленинграде продукты сожрали, сюда объедать приехали? Нам самим есть нечего! — и к нам: — Забирайте баб, жалельщики, и убирайтесь! Только консервы оставь, колченогий…
Не сводя с меня глаз, плечистый мужик нащупал около себя суковатое саксауловое полено, вскочил:
— Давай сюда еду!
Подсвеченный огнем костра, взъяренный, обросший верзила с занесенным дрыном был страховиден: сверкали белки его вытаращенных глаз.
— Еду давай!
Я тоже взялся за палку, прикидывая шансы на быстрый успех схватки. Мне нужен был только успех, решительный успех, чтоб остальные не успели выступить на стороне верзилы.
— Ну! — и старшой шагнул ко мне.
Пришла пора ответить, но только словом!
— Шакал ты вонючий, не человек!
Правой рукой я поднял палку над головой, чтоб отразить удар, левой — выхватил из костра полуобгоревший сук. Шепнул Хабардину:
— Вася, прикрой… — и поднялся.
Плечистый казах ринулся на меня.
Палкой в правой руке я отбил удар. А левой — с маху, движением всего корпуса врезал горящим концом полена меж глаз распалившемуся старшому. И снова занял выжидающую позицию.
Заверещав, верзила завалился навзничь.
— Ну! Кто ещё? — гаркнул я.
Двое, что с опозданием выхватили поленья, бросили их обратно в огонь. Сели как ни в чем не бывало.
Женщина с голубыми глазами сказала вдруг:
— Они лошадь нашу съели.
— Правильно сделали! Нечего одним шастать по пустыне! — зло ответил я. Что оставалось делать?
Вася стал поправлять взятым поленом развалившийся костер. Было слышно, как шуршали сучья и звенели сгребаемые угли. Глухо ныл побитый верзила.
Чтоб разрядить обстановку, я достал из вещмешка еще две банки консервов и поставил разогревать: следовало накормить и тех, кому не досталось ни куска. А себе дал слово — непременно передать в руки милиции всю шайку, хотя такое совсем не входило в наши планы и затягивало поиски Аргынбаевых.
Когда пятеро дезертиров насытились, я сказал Васе:
— Пойди и возьми халат у верзилы. Женщины совсем замерзают. Я думаю, возражать никто не станет.
Удовлетворенно порыгивая, мужчины молчали.
— Вот видишь, — заметил я. — Все согласны. И шинель, и теплый халат — многовато на одного.
Хабардин прошел к бывшему старшому, прилегшему в стороне от всех. Тот, ропща, стянул халат, но не сопротивлялся. Вася укрыл халатом плечи прижавшихся друг к дружке женщин. Они словно не заметили этого.
Большего для них мы сделать не могли.
Мы спали с Васей по очереди, опасаясь внезапного нападения.
К утру пошел снег, немного потеплело. Стих ветер. Небо, затянутое низкими тучами, было беспросветно, тоскливо.
Оклемался после дурацкого бунта старшой. Глаза его заплыли под натеками крови, он был будто в огромных, в пол-лица густо-фиолетовых очках. Что ж, с волками жить — по-волчьи выть, по-волчьи грызться. И страдать по-звериному — в одиночку.
Весь день прошел в ленивых разговорах — куда двигаться, да и зачем. Определенной цели ни у кого не имелось. Из вскользь брошенных слов стало известно: большинство парней дезертировали из Тасаральской рабочей дивизии, жаловались на самодура начальника, а жили до войны в Караганде и окрестностях.
— В те места и надо подаваться. Там родня… — заметил я парням. Видимо, так думало большинство, считая, мол, дома и солома едома. Оставалось решить, где переправиться через реку Чу. В низовьях находился мост, по которому шла дорога на Гуляевку. Однако переходить по нему гуртом — обратить на себя внимание, а в одиночку боялись. Кто-то заметил, что есть ещё паром выше по течению. На нем и скопом не так страшно.
Ночью пошли в сторону парома. Бывшего старшого вел поводырь. Когда увидели черную, в белых заберегах Чу, поняли — рухнула надежда. Паром сорвало и унесло. Наверное, лед намерз на нем, и трос не выдержал тяжести, лопнул.
— Надо ждать, пока станет река, — сказал я. Ко мне уже прислушивались, что вызывало резкий отпор со стороны старшого. Но я делил консервы, хлеб, и остальные считали по праву — власть в моих руках.
— С голоду подохнем, — возразил всё-таки бывший старшой. — Сколько же ждать надо?
— Дня два при таком морозе.
— У тебя целый мешок с консервами?
— Прокормимся… — сам не зная, на что надеясь, бодро ответил я.
Мы ушли от реки в саксауловый лес, забрались в глухую чуроту, развели костер. Женщин уже не прогоняли от огня. Но сколько они ни грелись, ни кутались в халат, душа у них не оттаяла. Они ходили за нами, словно привязанные, и молча, будто немые.
К ночи сильный ветер разогнал тучи. Ударил такой морозище, что мы с Васей продрогли — в валенках, зимних пальто и шапках. От огня было нельзя отойти ни на минуту — перехватывало дыхание.
В чуроту поналетела уйма сорок и галок. Они черными плодами усеяли ветви и, нахохленные, выглядели необычно крупными.
Отходя за дровами, я обратил внимание — они не улетали при приближении. Стоял такой холод, что они не могли подняться, сидели, втянув головы в перья.
Взяв свою палку, словно дубинку, я сбил несколько сорок, свернул им головы и отнес к огню.
— Тьфу, тьфу! — заплевался бывший старшой, узнав, в чём дело, и забормотал по-казахски ругательства.
— Подожди плеваться! — потроша тушки, остановил я его. — И аллах не проклинал эту живность. Чего ж ты с грязными словами лезешь?
Насадив тушки на прут, как на вертел, я принялся жарить их на углях. Последнюю банку консервов прикончили ещё засветло, да и что одна банка на девятерых продрогших? Организм на холоде требовал тепла и тепла, и где его взять, как не из пищи. На белых от жара саксауловых углях птицы жарились быстро. Первую съел сам, подавая пример другим, а за второй руку неожиданно протянула женщина с большими голубыми глазами. Лица другой я так и не видел. Она все эти дни плотно куталась в платок, ела, отвернувшись. Когда же к дичи потянулись мужские руки, я вложил в них увесистую палку:
— Иди, добывай еду сам.
И мужчины пошли и набили много сорок и галок, жарили их, ели, лица стали довольными, языки развязались, хвалили меня за находчивость и смекалку. Я ж готов был жевать хоть дохлятину, лишь бы удержать шайку от похода на мост, где могла стоять охрана, с которой непременно произошла бы стычка. И в чью бы пользу она ни закончилась, нам с Васей подобное приключение не сулило ничего хорошего. Успех дезертиров означал убийство охраны — никто не смог бы их удержать от крови, и кто бы мог поручиться тогда за судьбу женщин в дальнейшем. Одно преступление, влечет за собой другое с неизбежностью закона тяготения. Возьми верх охрана — мы с Хабардиным оказывались бы опять-таки в глупом положении.
Дезертиров требовалось сдать в руки властей, да так, чтобы они и думать не посмели о нашей тайной миссии. Главное, вытащить эту свору, ещё не совершившую много крупных и особо опасных преступлений, на другой берег Чу, где жилье, фермы, зимующие отары, и обезвредить там.
Только через двое суток река Чу стала. Мы подошли к ледяному мосту. Была волчья ночь, метельная и пасмурная. Женщины плелись, как всегда, позади. У них сильно распухли от мороза ноги, и каждый шаг давался им с огромным трудом. Они же даже не постанывали, не то, чтоб жаловались.
Я ступил на лёд. Он держал, но предательски постреливал. Через несколько шагов под валенками на темной корке расплывались белые звезды. Пришлось вернуться.
— Не пройдем… — сказал бывший старшой, здоровенный плечистый казах.
— Переползем… — отрезал я. — Веревка есть?
— Вожжи…
— Сойдет. И пояса снимем и свяжем.
— Провалимся и утонем. Здесь, похоже, глубоко, — опять ввязался здоровенный.
— Я первым пойду, а вас перетаскивать стану.
Связывая вожжи с поясными ремнями, я спросил как бы между прочим:
— Откуда у вас упряжь?
— Она наша… — сказала женщина с голубыми глазами. — Нам её вернуть надо…
— Заткнись, — бросил бывший старшой.
Я понял, что шайка напала на женщин, когда они ехали из Гуляевки на железнодорожную станцию. Лошадь съели, подводу бросили, а вожжи по-хозяйски решили забрать. Не понимая казахского языка, учителки сначала пошли за мужчинами, думая, что они все-таки выведут их ближайшей дорогой к станции. А потом остались, боялись пойти одни и заблудиться.
Вскоре мы отыскали на реке самое узкое место, не переметенное снегом. Я знал, что под снежным наметом лед особенно тонок.
— Держи конец крепче, — сказал я Васе, — вытащишь в случае чего, — лег на лед и не то пополз, не то поплыл по похрустывающей корке.
Добравшись до противоположного берега, я крикнул Васе Хабардину, чтоб он закрепил веревку, и другие стали переползать по льду. Первым отправился здоровенный детина, бывший старшой. Ледяной мост трещал под ним отчаянно. Опасаясь пускать по ослабевшему «настилу» остальных, мы сменили место переправы. Когда все перебрались, двинулись по пескам, поросшим мягкой осокой, в глубь пустыни. Довольно скоро почувствовали сладковатый запах кизячного дыма, и ораву уж нельзя было сдержать.
Сгорбленные, руки в рукава, дезертиры ввалились в огороженный дувалом двор фермы. Я думал, там много людей, а оказалась одна старая женщина. Она вышла из низкой саманной хижины и со страхом смотрела на нас.
В углу около коровника лежали четверо дохлых телят.
Я спросил скотницу, где остальные работники фермы.
— За начальством поехали, — ответила она. — Акт на падеж составлять. А зачем вы женщин мучаете?
— Случайно прибились. Уведите их в дом, — попросил я. — У них ноги обморожены, помогите растереть, дайте чаю.
— Хорошо, хорошо… — закивала она.
На минуту я оставил ораву без присмотра, а они уж развели костер, достали котел, разделали дохлого теленка и стали варить мясо.
«Хоть кости для акта останутся, — подумал я. — И то добро, это за дохлого принялись. Что им стоило пару живых разделать. Совесть заговорила? Или, будучи сами сельскими жителями, знали они, что скотнице крепко придется ответить за добро, и пожалели её? Кто тут разберется…»
Пока шайка пировала, мы с Хабардиным сидели на корточках у дувала поодаль. Неожиданно во двор вошла молодая женщина, остановилась, увидев нас.
— Кто такие? — и попятилась за дувал. Я за ней.
— Ты кто такая?
— Айше. Телятница.
— Куда ходила?
— К мосту.
— Это далеко?
— С полчаса ходу.
Я оглянулся. Верзила сидел спиной к нам. А остальные были заняты едой.
— Зачем ходила?
Айше замялась:
— На той стороне реки ящур. На мосту милицейский пост. Я постовым кипяток носила. Они мне на заварку отсыпали. Возьмите. — Она явно боялась, что отберу чай силой.
— Сходи-ка снова. Скажи, чтоб сюда шли. Срочно.
— Вы меня посылаете…
— Бегом, бегом!
— А эти… — она кивнула в сторону телятника, — скот не порежут?
— Иди побыстрей. Я присмотрю.
Насытившись, дезертиры потянулись в теплый телятник спать.
Молодая женщина выскользнула за ворота. По-моему, никто из оравы и не заметил ни её прихода, ни ухода. Крепко они устали, да и перенервничали при переправе, сон теперь их одолел. Вызвал я из телятника Васю, рассказал, в чём дело…
Милиционер прибыл примерно через час. Я велел ему арестовать нас вместе со всеми и отправить в районное отделение милиции.
Увидев нас в проеме двери с поднятыми руками, а позади милиционеров с наганом, пятеро дезертиров сдались без сопротивления. С ними топали мы под конвоем тридцать километров до райцентра. Нам-то что, а вот женщины-ленинградки совсем ослабли, ковыляли, опираясь друг на друга, отставали, и приходилось подолгу поджидать их…
Не могли мы даже поддержать ослабевших женщин. Спасибо милиционеру — он, охраняя нас, шедших стадом, следовал позади. И с дезертиров не сводил глаз и женщин нет-нет, да поддержит.
Прятали мы с Васей друг от друга глаза, да ведь иначе-то поступить не могли. Не имели права! Дезертиры бы тотчас догадались — не те мы, за кого им себя выдали, и по-прежнему неясно оставалось, связаны они с бандой Аргынбаевых или нет. И ещё — нас арестовали вместе с ними. Значит, не поверила милиция, что я и мой спутник — гуртоправ и бухгалтер, пастбища ищем.
Добрались мы наконец до райцентра. Доставили нас в отделение милиции. Оказалось, начальник — мой хороший знакомый — Шарипов. Мы учились вместе в высшей школе в Коканде. Увидел он меня среди дезертиров, но виду не подал. Первыми нас с Васей Хабардиным отправил в отдельную камеру. Обругал нас кавалерийским рыком — и под замок. Остальных рассадил, нас к себе в кабинет вызвал. Дверь плотно прикрыл, смеется:
— Здорово испугались?
— Ещё как. Душа в пятки ушла! А ты не изменился, Шарипов.
Коренастый, плотный, как и подобает отменному кавалеристу, мой товарищ по учебе до сих пор носил шпоры и любил потверже ступать на пятку. И на стуле сидел прямо, словно в седле при выездке.
— Что с женщинами?
Посуровел Шарипов:
— Мы их вторую неделю ищем. Учительницы они из Гуляевки. Поехали за учебниками на железнодорожную станцию Чу. И пропали. Ветер — следы замело. Ни их, ни лошади, ни брички. Спасибо вам — выручили. Я учительниц к врачу отправил. Поморозили они ноги.
— А эти ухари откуда взялись? С бандой Аргынбаевых не связаны?
— Не знаю ещё. Откуда шайтан принес эту банду? Чабаны напуганы. Мы день и ночь в разъездах от одной отары к другой. Вроде тихо, а все в напряжении.
— А в стороне Балхаша тоже тихо?
— Нет. Дней десять назад, сообщили нам, группа бандитов напала на один из табунов Бурылбайтальского рыбтреста, рабочего отряда теперь. Он на северо-западной оконечности озера находится. Бандиты забрали в табуне, что пасся в степи, девять племенных жеребцов. И будто ушли в сторону Кокуйских болот, откуда и явились.
Я хорошо представил себе, какова обстановочка в наркоматах внутренних дел Киргизии и Казахстана, как там клянут нас с Хабардиным и других оперативников. Но прежде всего нас. Мы же поклялись, можно сказать, ликвидировать банду, но ничего пока не сделали. Где банда совершит новый налет? Что предпринять? Ведь войсковая операция по задержанию и обезвреживанию банды в условиях пустыни и Кокуйских болот — вещь нереальная. Каким образом можно прочесать непроходимую топь, которая раскинулась на несколько тысяч квадратных километров? Откуда проводников возьмешь?
— Ты мне вот что, Шарипов, скажи… Есть ли на болотах хоть один житель? Человек, который там постоянно находится, а не охотиться ездит?
— Есть. На западной стороне болота, на краю, есть такой человек. Дядей Ваней зовут. Но я с ним не знаком. Далеко это, километров сто пятьдесят от нас.
— А поточнее?
Шарипов связался с Гуляевкой. Дежурный сказал, что все в разъездах по отарам. Обещал к завтрашнему дню уточнить, где обосновался дядя Ваня.
— Нам ждать некогда, — сказал я. — К утру мы на месте будем. С твоей помощью. Как ты думаешь, есть в банде люди, знающие болота?
— По нашим сведениям — нет. Там люди из Тасаральского рыбтреста, ну, рабочего отряда.
— Опять из Тасаральского, — не сдержался я.
— Неладно что-то там. Слышал, несколько человек ушли оттуда и явились в Бурылбайтальскую, мол, возьмите к себе, мы не дезертиры, работать хорошо будем.
— Ладно… Пусть воинское начальство с дисциплиной разбирается. Мы пойдем к этому «дяде Ване». Помочь не сможет, так посоветует.
Так вот, отдохнули мы в камере и ночью на верблюдах отправились на западную сторону Кокуйского болота. Не только ночью, но и под конвоем. Для работников милиции военная тайна так же свята, как и для любого военнослужащего. Откуда Шарипов мог знать, что в райцентре нет людей Аргынбаева? Если бандиты пошли на крайнее злодеяние во время войны, они обязаны были позаботиться о собственной безопасности. Не могли они даже в мыслях допустить, что останутся безнаказанными, что их не ищут настойчиво, прилагая все возможные способы и средства.
На дворе стояла не осень сорок первого, а зима сорок третьего. Наши войска одержали не одну крупную победу над немецко-фашистскими захватчиками, освободили Киев и ворвались в Крым.
Что и говорить, настроение у нас тогда было не из лучших. Всю ночь и день качались на верблюдах. Давно я на них не ездил, а дело требует привычки. Укачало нас крепко, слезли с «кораблей пустыни» и едва ногами перебирали. Добрались же мы до Гуляевки, но в село не заходили. Дальше решили пешком идти, по южному краю болота, по едва приметной тропке. Поблагодарили Шарипова и отправились…
Отходить от тропы мы не рисковали — не знали местности. Миновали пески, пошли степью. К утру увидели дымок вдали, юрту — добрались до пастбища.
Старший чабан, почтенный аксакал, сидел на лошади и мерно похлопывал камчой по голенищу мягкого сапога в старой остроносой калоше. Тулуп, словно попона, прикрывал круп кобылки, и она выглядела совсем крошечной.
— Бумаги есть? — строго спросил он. — Кто такие?
Мы подали свои документы.
Аксакал придирчиво осмотрел их, держа вверх ногами, подозвал девчушку:
— И ты посмотри.
— Печати есть, Абай. Один — гуртоправ, другой — бухгалтер из Алма-Аты. А в Гуляевке они не были. Нет отметки.
— Отдай бумажки, — махнул рукой аксакал.
Пока беседовали, два подростка и пятеро женщин молча толпились у входа в юрту.
Нас пригласили войти, чаем попотчевали, а потом аксакал и говорит:
— Не обижайтесь, дорогие гости… Уполномоченный НКВД нас предупредил: появятся у вас незнакомые люди — обязательно задержите и сообщите мне. Не подчинятся — палками в землянку загоните и держите там, пока не приду.
А мы-то чаевали… В юрту набились старики и женщины с посохами чабанскими. И поняли мы: не подчинись, сделай лишнее движение — схватят нас рогульками за горло, а другие дубасить начнут. Не входил в наши расчеты такой конфликт с местным населением.
— Ладно, — говорю, — ведите нас в землянку. Пока уполномоченный из Гуляевки приедет, отоспимся.
В задержании был один успокаивающий момент. Не за страх, а за совесть выполнили чабаны просьбу уполномоченного НКВД. Не бывало тут людей Аргынбаевых. Иначе с нами обошлись бы по-другому, не стали чаем поить, сразу в землянку засадили.
Мы добровольно спустились в темную нору в земле, перекрытую тростником. Завалились прямо на пол, на камышовую подстилку. Аксакал ещё долго о чем-то говорил, опустив за нами дверь, сплетенную из прутьев. Чабаны выбирали меж собой наиболее толкового человека, чтоб тот привел уполномоченного как можно скорее. Они всё-таки опасались, посчитав нас за бандитов, сдавшихся в надежде на скорую выручку.
Помянули чабаны и про нападение на табун в Бурылбайтальском рыбтресте. Настроение женщин-сакманщиц оставалось воинственным, они требовали гнать нас в Гуляевку, а не держать здесь.
Аксакал успокоил их:
— Документы у них есть. Под подозрение может попасть и добрый человек. Время такое. Отведем да ошибемся, — добавил аксакал, — смеяться будет над нами, чабанами, вся Гуляевка.
Упоминание о насмешках охладило воинственность женщин.
Кто-то остался снаружи, у входа в земляную нору. Некоторое время слышались шаги нашей охраны. Потом мы уснули и проспали до вечера, когда у землянки вновь послышались громкие голоса.
— Где они?
— Здесь.
— Вы их обыскали?
— Нет.
— Они вооружены?
— Не знаем…
— Ладно. Открывайте дверь.
Аксакал поднял камышовую плетенку, откинулось на ременных петлях сооружение, громко именуемое дверью. На краю норы появился щегольски одетый старший лейтенант в форме внутренних войск. За ним — чабаны с посохами.
— Документы!
Мы протянули справки гуртоправа и бухгалтера колхоза.
— Это все? — старший лейтенант вздернул кокетливо бровь.
— Все, — смиренно сказал я.
— Вы задержаны!
Уполномоченный полуобернулся к чабанам:
— Отведете их в Гуляевку, в милицию. Мне надо в Коктерекский район заглянуть. Я потом выясню, кто они такие в действительности…
Путешествовать под конвоем в Гуляевку нам не хотелось: время дорого. Кстати, оказаться объектом внимания большого села совсем не входило в наши замыслы. Мало ли с кем и когда из коренного населения нам предстоит встретиться где-то в пустыне, а память на лица у людей отменная.
— Как же это вы, товарищ…
— Я вам не товарищ, — гордо парировал уполномоченный.
— Ну, гражданин старший лейтенант, отправляете нас в Гуляевку под охраной дохлого старика?
— Чего же бояться, если вы просто граждане? — прищурился он.
— А вот мы отойдем от отары, да и придушим дохляка. Ищи-свищи нас потом.
— Вон как заговорил! Надо вас обыскать… — и старший лейтенант шагнул ко мне.
Я стоял так, что старший лейтенант загородил меня от взглядов чабанов. Расстегнув пальто, я оказался вооруженным до зубов и одновременно поднес к глазам уполномоченного удостоверение подполковника НКВД. Старший лейтенант оторопело молчал несколько секунд. Потом сообразил:
— Хорошо… Я вас сам отведу в Гуляевку… Нечего рисковать.
Аксакал, стоявший у входа, одобрил соображения старшего лейтенанта. И другие чабаны остались довольны. Близился сакман — расплод овец, и каждый человек при отаре ценился на вес золота. Ягненок — будущая овца, и сохранность приплода — главная чабанская забота.
Нам связали руки, и мы отправились под конвоем старшего лейтенанта в сторону тугаев, зашли за невысокий бугор.
— Ну и ошеломили вы меня, товарищ подполковник! Я ведь чуть за пистолет не схватился.
— И правильно. Слишком смело действовали. Следовало приказать нам выйти, а не самому в землянку лезть.
— Виноват… товарищ подполковник!
— Значит, в переделки не попадали, спокойно в округе.
— Как сказать… В Бурылбайтале на табун племенных коней напали. Пять жеребцов угнали. Говорят, Аргынбаевых дело.
Мы с Васей переглянулись. Разные сведения, Шарипов говорил — девять. Не это важно: у банды есть еда. Они могут отсидеться где-то довольно долго.
— А куда они ушли? — спросил Вася.
— В сторону Кокуйских болот.
— Там кто-нибудь живет постоянно?
— Есть один. Дядя Иван. Видел я его недели две назад.
— Что дядя Иван сказал?
— Тихо кругом, сказал.
— Слишком тихо… — заметил я. — Так ты говоришь, они ушли в сторону Кокуйских болот? Это, сам знаешь, тысячи квадратных километров… А далеко ли до дяди Ивана?
— Шестьдесят километров. По самому краю немного меньше. Но там зыбун… Сверху вроде песок сухой, даже травка растет. А пойдете — провалитесь в топь — сразу с головой уйдете. И шапки сверху не останется. Вот месяц назад…
— Верю, товарищ старший лейтенант, — остановил я уполномоченного, готового рассказать все подробности чьей-то гибели. — Нам надо как можно скорее к дяде Ивану попасть, на западный край Кокуйских болот.
Старший лейтенант обещал достать в Гуляевке лошадей и, сделав солидный крюк, доставить их нам. И выполнил свое обещание. И не только это. Он привез нам горячей еды — жареного фазана, утку и шмат копченого сала. После утреннего чая у нас во рту не было ни маковой росинки. День прошел дергано, никчемно, суетливо. Мы чувствовали голод, но это ощущение не всегда способствует хорошему аппетиту. Принес старший лейтенант и фляжку со спиртом, чем тоже обрадовал нас. Мы позволили себе выпить по чарке, стараясь привести в порядок нервы.
Завтра пойдет тридцать пятый день, как мы отправились в путь. Но сколько ещё времени минет, прежде чем мы наступим на хвост банде Аргынбаевых? По опыту, долгому и не всегда сладкому, который «сын ошибок трудных», мы делали сейчас самую сложную, черную работу. Она укладывается в рапорт несколькими строчками, отнимая едва ли не девять десятых времени во всякой операции.
Ладно. Хватит жаловаться….
Мы сидели в тугаях, под старой вербой на прокаленном морозом искристом песке. Вокруг стоял высоченный тихий камыш. Он не шумел и не гнулся. Ветра не было. Каждый стебель светился под высокой и очень яркой луной в три четверти на исходе. И в небе мерцало много-много звезд.
Завернутые во что-то ватное жареный фазан и утка оказались настолько горячими, что обжигали пальцы. Вкус они сохранили удивительный, мясо легко отделялось от костей, мягкое, чуть терпкое, таявшее во рту.
Под арестом в землянке мы отлично отдохнули и, насытившись, почувствовали себя бодрыми, готовыми к длительному пути по пескам. Но едва мы отправились на лошадях к западной стороне Кокуйских болот, погода испортилась. Бесформенные тучи затянули небо. Из них посыпалась мелкая, как пыль, снежная изморозь. Пальто, шапки и наши лица, груди и крупы коней покрылись инеем, словно ледяным панцирем. Лошади храпели и выбивались из сил, преодолевая барханы, ранили ноги о ледяную корку. Приходилось нещадно погонять и понукать их. За ночь мы с трудом преодолели километров пятьдесят и на рассвете расстались со щеголеватым и деловитым старшим лейтенантом.
— Как-то встретит нас дядя Иван… — проговорил я, прощаясь.
— Две недели назад на хуторе было тихо… — сказал старший лейтенант.
— Почему дядя Иван отшельничает?
— Не знаю. Привык. Охота здесь редкостная. Дочери у него, пожалуй, самые богатые невесты в округе. Но будь моя воля, выселил бы я их в Гуляевку. Как им не жутко в такой глуши?
— Надо бы вам наведываться к дяде Ивану почаще, — заметил я старшему лейтенанту.
— Странные они… — протянул уполномоченный.
— Не без причин, поди… — сказал я, отпуская подпругу: зачем же лошади мучиться на обратном пути.
Мы с молчаливым Васей пошли по песчаным гребням в сторону дома отшельника дяди Ивана, ориентируясь на приметы, которые нам подсказал уполномоченный. Человек он наверняка хороший, а вот с местным населением при его привычках городского сердцееда ладить ему, вероятно, трудновато.
Не прошли мы и семи километров в сером рассвете, как впереди и справа послышался далекий нестройный лай собак.
— Слышишь? — остановился Хабардин. — Сколько ж их там? А что, если этот дядя Иван выпускает их по ночам?
— Вряд ли. Они всю дичь в округе распугают.
Снег усилился. Встречный ветер косо нес колючие полосы ледяного ливня. Мы углубились в заросли камыша и связались веревкой: если кто из нас и ухнет в топь, чтоб тут же вытянуть. Стебли тростника в два-три человеческих роста сухо стучали друг о друга, а порывы ветра, не достигая земли, посвистывали в заледенелых метелках.
С часу на час лай доносился отчетливее. Впрочем, то, что мы слышали, нельзя было назвать лаем. Это было скорее утреннее взбрехивание, когда псы, как бы сказать, спорят — возьмут или не возьмут их на охоту, и кого именно, и почему.
Строго выдерживая направление от одной ветлы до другой, точно по приметам, мы вышли на бугор и увидели перед собой поляну. В дальнем от нас краю, метрах в сорока, сквозь сетку снега — тредкую, то частую, — мы различили длинное низкое строение под камышовой крышей, с множеством небольших дверей. Посредине этого строения поднимался дом-мазанка, тоже под камышом, в пять окон. В двух левых светился желтый огонь. Дым из трубы ветер швырял прямо нам в лицо, и собаки на псарне не почуяли нас.
Справа и поодаль от дома разместился такой же добротный скотный двор.
Мы залегли на бугре, отделенные от поляны лишь несколькими рядами тростника да желтыми прядями мягкой песчаной осоки — курека, торчащими из снежного намета.
Часа два таились мы на бугре. Прежде чем знакомиться, нам нужно было твердо убедиться — на хуторе нет посторонних. Лежать на снегу, едва прикрывшем промороженный песок, — удовольствие маленькое. Озноб пробрал нас основательно. Челюсти свело — не разожмешь. А шевелиться и маяться в тридцати метрах от своры натасканных на зверье собак — забава рискованная.
С рассветом метель стихла. За низкими тучами взошло солнце. В одиночный просвет где-то далеко-далеко брызнул его рыжий яркий свет и погас.
Чу! Заскрипела дверь. Из дома вышел мужчина, Я приник к биноклю. И словно перед окулярами увидел заросшее по глаза русой бородой лицо, красный нос пуговкой, торчащий из курчавых волос. Рыжая шапка из лисы-огневки будто горела в свете пасмурного дня. На отворотах крытого сукном полушубка виднелась волчья шерсть. В руках он держал штучной работы двустволку с насечкой. По всем приметам — дядя Иван.
— Поздно на охоту, — тихо проворчал Вася, постукивая зубами от озноба.
— Ему виднее…
У угла дома стояла одна в другой стопа банных шаек. Взяв пару, дядя Иван прошел в пристройку, служившую, видимо, кухней для собак, наполнил тазы парующей едой. Отнес тазы к дверцам псарни и выпустил двух здоровых кобелей. Они набросились на еду, а запертые в других помещениях псы завели отчаянный концерт.
Поев, собаки принялись было играть, но дядя Иван окликнул их, и они послушно, деловито двинулись впереди него.
Снова заскрипела дверь. По поющим от мороза ступеням невысокого крыльца спустилась девушка с ружьем — непритязательной тульской двустволкой с побитым прикладом. Девушка была полной, со скуластым лицом, отцовским носом-пуговкой, который словно растаскивал красные от здоровья налитые щеки. Она тоже покормила собак и ушла в тугаи слева от сарая, на край болота.
И опять, едва она скрылась в зарослях, отворилась дверь дома. На порог, держа в каждой руке по прекрасному ружью, вышла настоящая красавица: высокая, стройная даже в меховой одежде. Строгое лицо её, чуть тронутое розовым морозным загаром, обрамлял вязаный шерстяной платок. До сих пор я помню её облик.
Отлично подогнанная длиннополая куртка из шоколадного меха ондатры облегала её фигуру, перехваченную патронташем. Выворотные меховые штаны будто лесины обтягивали ноги красавицы, обутые в теплые высокие сапоги из собачьих шкур.
— Посмотри-ка, — толкнул я Хабардина, передавая ему бинокль.
— Я уж вижу, — прошептал Вася сведенными от холода губами, а глянув в бинокль, добавил: — Губа у щеголя-уполномоченного не дура. Только по комплекции старший лейтенант этой красавице не подойдет — жидковат.
— Поболел бы за товарища…
— Вот я и болею.
Красивая девушка поставила ружья у угла дома, принялась кормить очередную пару псов. Чтобы она ни делала, всё у нее ловко получалось — загляденье, да и только. Когда собаки наелись, девушка лихо свистнула, и псы бросились впереди неё по заветной, привычной тропе.
— А почему у неё два ружья? — обеспокоенно спросил Хабардин.
— Я тоже хотел бы это знать.
— Не с двумя же ружьями она охотится!
— Узнаем… Раз уж мы здесь — узнаем.
— И ружья-то, похоже, немецкие. — Вася повел плечами, чтоб хоть капельку согреться движением. — Больно хороша девица для охотницы. И на тебе — с двумя ружьями! Они же по нескольку тысяч стоят каждое!
Тут ступени крыльца буквально застонали. И я увидел на крыльце женщину необычайной полноты. Странным даже показалось, каким образом она протиснулась в дверь дома. Конечно, мне показалось, что под тяжестью её громоздкого тела вздрагивала даже земля. Красное расплывшееся лицо её, может быть, лишь карими глазами да темным цветом волос напоминало дочь-красавицу. Впрочем, я заговорился. Всё наоборот.
Громоздкая женщина принялась готовить еду в собачьей кухне. Ходила она утицей, переваливаясь. Зажгла дымный очаг в коптильне по другую сторону дома. В открытую дверь мы видели много подвешенной рядами рыбы. Громоздкая женщина ушла в дом, выпустила во двор семерых девчонок, мал мала меньше. Старшей здесь не исполнилось, поди, и четырнадцати, а младшей — пяти. В детском гаме мы едва расслышали далёкие выстрелы.
За полдень мать отправила девчонок в дом, в тепло, при одной мысли о котором у нас сладко заходилось сердце. Нам казалось, что, поднявшись, и шага сделать не сможем, так закоченели.
Наконец-то появился дядя Иван. За пояс его были подвешены за шеи две утки и фазан. Он бросил выпотрошенную дичь в какой-то ларь около дома, занес ружье; вышел с топором, принялся что-то мастерить, тюкая инструментом по колоде.
— Пойдем, — сказал я Хабардину, чувствуя — ему совсем плохо.
Он даже икать начал — совсем закоченел, замерз. Да и ждать больше ни к чему: всех домашних мы видели, а окажись посторонний в доме, то и он уж непременно высунул бы нос на двор.
Увидев нас, вдруг вышедших из камыша, бородач перехватил топор поудобнее. Потом шагнул было к псарне.
— Здрасьте, дядя Иван! — мой крик заставил его остановиться. Оружия в наших руках не имелось.
Несколько секунд бородач стоял, готовый запустить топор в любого из нас. Он вроде бы даже прикидывал, кого сподручнее поразить наверняка и с кем он потом справится без особых хлопот.
— Дядя Иван! Здрасьте! — как можно приветливее говорил я, подходя.
Жена его, выглянув из коптильни, так и осталась в дверях, строго глядя на нас.
— Да вы что — испугались? Дядя Иван…
— Здравствуйте, здравствуйте… — бормотал старик, отложив топор и пожимая протянутые руки. — Кого тут бояться… Сами-то откуда будете?
— Мы зимние пастбища для колхоза ищем. Вот и документы наши. Я — гуртоправ, а он — бухгалтер. Про вас мы в Гуляевке услышали…
Мы, наверное, представляли собой смешную пару: щуплый Хабардин с горбом мешка на спине, и я — верзила, с дрыном в одной руке.
— Чего «услышали»? — неохотно спросил дядя Иван и вздохнул.
Не нравилась мне встреча дяди Ивана. Слишком угрюмым он выглядел для человека, который живет отшельником: живет — не тужит и рад быть должен каждому человеку, посетившему его хутор. Как же иначе? А он готов был пойти на нас с топором.
Я подождал с ответом на его вопрос о том, что мы услышали в Гуляевке. И он почувствовал это и снова полуспросил, глядя искоса:
— Чего обо мне можно слышать…
— Живете давно… Места здешние хорошо знаете…
— Живу… Знаю… Само собой… — как-то успокоеннее сказал дядя Иван.
Из-за угла псарни выскочили две собаки и принялись лениво облаивать нас. Дядя Иван цыкнул. Ещё и ещё раз оглядел нашу крепко поношенную одежку, солдатские вещевые мешки и большую фляжку на боку.
— Зина! — вдруг крикнул старик. — Где ты запропастилась?
Только после этого из-за угла появилась полная девушка с отцовским носом-пуговкой. У пояса ее висело четыре утки. Она, потупив взгляд, кивнула нам и, не останавливаясь, прошла в дом.
— А какой у вас скот? — спросил дядя Иван, забрав бороду в кулак.
— Разный. Коровы, овцы, конечно, козы…
— Коровам тут зимой делать нечего, — усмехнулся в бороду охотник. — Подохнут от бескормицы. Высохший на корню курек — не еда для скота… А его вон сколько, — дядя Иван кивнул в сторону закраины болота, где на огромном пространстве расстилались прекрасные пастбища для тысячных отар. — Только волков полно. Много овец задерут…
— А собаки на что? — бодро сказал я.
— У меня их сорок две штуки. А баранту я в овчарне держу. На всякий случай.
— Тут, пожалуй, не только хищников много. Мясного зверья тоже полно…
— Есть. Водится. Сайгаки, кабаны… Дичь разная.
Видел дядя Иван, что промерзли мы оба до мозга костей, но в дом приглашать не спешил. Ждал ли — сами попросимся, другие ли мысли его одолевали, не знаю.
— Да… Не похоже, что вы по карточкам еду получаете, — хлюпнув носом, проговорил Вася Хабардин.
— Мы их и не видели, — как-то странно проговорил охотник. Слышалась в его голосе жалость к людям, которые вынуждены думать о том, из чего сварить еду. — Да, мы их и в глаза не видели… Очень трудно в городах?
— Тяжело…
— А на фронте как?
— Вышибли немца из Киева. В Крым наши войска прорвались, — словно отчитался я. Раз мы из Гуляевки, то обязаны знать последние новости.
Вероятно, уверившись, что мы не шастали по болотам и действительно знаем положение на фронте, дядя Иван сказал:
— Добро, хоть я это уже слышал недавно…
«Конечно, — подумал я, — был у вас уполномоченный, щеголь — старший лейтенант…» — а вслух полуспросил:
— Может, что нового слышали, да мы не в курсе…
— Жена моя, — вместо ответа сказал бородач, представив громоздкую женщину, которая, выйдя из коптильни, тихо подошла к нам. — Надей зовут.
Надя протянула нам руку лодочкой. Постаралась улыбнуться.
Из камыша с правой стороны поляны выскочили две собаки, бросились было к нам, но резкий посвист остановил их. Псы сели, оглядываясь, потом легли, положив морды на лапы и глядя на нас. Следом вышла стройная красавица с двумя ружьями за плечами. У её пояса висело четыре фазана и шесть уток. Увидев нас, она сбросила ружья с плеч и, перехватив за шейку ложа, положила пальцы на спусковые крючки. Это движение было быстрым, привычным до непроизвольности.
«Ого, как насторожена красавица, — подумал я. — Неспроста!» А вслух спросил:
— Вы с обеих рук стреляете?
— Ну!
— Правда?
— Правда, — немного смутилась девушка.
— Это наша вторая дочь — Нина, — сказал дядя Иван с гордостью. — Главная в доме… После меня. Охотница, каких свет не видывал. Зина-то, старшая, что первой пришла, та бьет из ружья вроде поневоле. А эту — хлебом не корми…
Присмотрелся я к ружьям красавицы. Действительно, немецкие. Очень дорогие — «зауэр — три кольца» и «золинген». В идеальном порядке. Не ружья — мечта. Нужно быть не только отличным охотником, но и высоким ценителем оружия, чтобы знать, каким кладом обладаешь. Кинув в ларь добычу, Нина перехватила мой взгляд: не вдруг мне, охотнику, удалось отвести глаза от таких ружей.
— Что ж вы, отец, добрых гостей на морозе держите? — сдерживая гордую улыбку, сказала любимица дяди Ивана.
— Заговорились, заговорились, доченька, — как бы извиняясь, проворковал дядя Иван.
Я подумал, что оговорка отца «главная в доме после меня» значит, пожалуй, меньше, чем следовало ожидать.
И снова дядя Иван бросил вопрос «с наживкой»:
— Чем бы это вас угостить? Сайгак вареный и копченый, кабанятина есть… Сало-то вы кушаете? А?
— Едим, и сало едим, — улыбнулся я. — Было бы сало.
— Вот и хорошо… Вот и хорошо… Ты уж обеспокойся, Надюша.
Нина поторопила нас:
— Идемте, идемте! Разберемся в тепле.
— Идем, идем, — глаза дяди Ивана искрились лаской при взгляде на любимицу.
Мы прошли в дом, сняли пальто, которые почти приросли к нам. Оружие, патроны и гранаты мы с Васей ещё в камышах попрятали в вещевые мешки, так что теперь выглядели вполне цивильными — гуртоправом и бухгалтером.
Едва мы вошли, самая младшенькая вдруг заплакала и за ней еще двое. Еле успокоила их мама Надя.
Вася локтем подтолкнул меня: неспроста, мол, дети плачут.
Стол, накрытый в горнице, подивил нас: сахар, свежий хлеб, мясо вареное и жареное, рыба копченая. Не помнил я такого роскошного стола — дасторкона с довоенных времен. В городах трудно было с едой, а тут — сами добытчики. Женщины и дети устроились на кухне.
Перехватив наш удивленный перегляд, дядя Иван пояснил, усаживаясь за стол и разглаживая пышную бороду:
— Мы ни в чём не нуждаемся. Каждый сентябрь к нам из конторы «Заготживсырье» чуть не обоз приезжает. Забирает нашу продукцию — шкуры, мясо, рыбу, а нам всё заказанное привозят — муку, продукты, керосин сразу на весь год.
— Диковато, наверное, год целый никого не видеть? — спросил Хабардин. Небольшого роста, он совсем потерялся за столом рядом с кряжистым хозяином и мною, долговязым.
— Диковато? Нет. А по пути, бывает, чабан заглянет, охотник… Диковато вам, городским, с непривычки. А я тут с двадцать второго года живу. Сам-то сибиряк. Отца в Омске колчаковцы расстреляли. Жил в Верном, Алма-Ате, значит. Потом сюда с Зиной перебрались.
— Да и мы не городские, — заметил Вася. — Какие ж мы горожане?
Говорить с дядей Иваном требовалось осторожно. Вон как он исподтишка «горожан» подсунул. Заметил Вася, молодец.
Ели долго, отдавая честь каждому блюду, что стояло на льняной со складками скатерти. Зарумянились сразу, у хозяина лоб незагоревший аж засветился, лица-то под бородой не видно. Ели молча, со смаком, только покряхтывали, поматывая головой от восхищения перед кулинарным искусством хозяйки.
— Вот сёдлышко сайгака с почками, — начал потчевать хозяин, когда мы немного притомились. — С перчиком, с перчиком надо… Печенка фазанья с жареным луком — ух, хороша!
— Страшно вам, поди, — тянул свою линию Вася. — Десятеро — дочери да жена, а вы один.
— Привыкли… Вон у меня собак сколько… — дядя Иван отложил вилку. — Спущу свору, они кого хошь разорвут. Волки одного лая боятся.
— А двуногие? — спросил Вася.
— А что двуногие? Оружия у нас много… И собаки… Чаю не желаете? Надя, — позвал дядя Иван жену. — Чайку бы нам…
— Где же дочери учились? — видя, что хозяин совсем не расположен говорить о «двуногих волках», я перевел разговор на безобидную тему.
— Хотели школу такую — ан… интернат, кажется, в Гуляевке открыть. Да война… Читать там, считать я их по календарю учу. Ну, писать имя свое они умеют. Сколько Нину уговаривал в город поехать… Выбралась разок, пробыла три дня… Так она всю обратную дорогу скакала, лошадь едва не загнала — к себе, домой, торопилась. С тех пор калачом туда не заманишь.
В чистой, пахнущей травами мазанке было много всяких вышивок, подзорчиков и накидок снежной белизны, и ни одной книжки, ни намека на газету. Даже настенный отрывной календарь замер на пятнадцатом декабря. А этот день минул две недели назад… По нашим подсчетам. Выходит, завтра тридцать первое. Новый год! Вот те раз! И мы, значит, про него забыли бы! Надо напомнить.
— И не тоскливо здесь дочерям вашим?
— Некогда скучать-то. Сегодня неходовой день стоял. Дичи почти не видели. Опять же ондатровые да лисьи капканы обойти надо. Рыбные снасти. То сайгака, то кабана и притащить, и разделать, и покоптить, и посолить надо. Дел на весь день. Заготживсырье нам ни задаром, ни в кредит ничего не дает. Сами знаете. Расценки же невысоки… Посудите…
«Никак не подступиться к дяде Ивану, — подумал я. — Не хочет он откровенничать. Что ж, в доме, за столом — одно, а вот, может, в тугаях, на охоте разговорится?»
Разговор у нас не клеится, я перебил хозяина:
— Нам поохотиться можно?
— Чего ж нельзя! Это дело. Вот мужская беседа, — оживился хозяин. — Только не обижайтесь, горожане, одних я вас не пущу. Кокуйская хлябь — штука коварная. Эй, Надя! Где чай? Да, не отпущу я вас одних. Тебя, — он посмотрел на Хабардина и, видно вспомнив его дотошные расспросы, ухмыльнулся. — Тебя я с Зиной пошлю. А вот тебя — с Ниной. У неё самый большой и богатый участок. Хотя и далековато. Да ты, слышь, попробуй свою ходулю оставить. Ступаешь ты на больную ногу твердо.
«Ой, хитришь, дядя Иван, — улыбнулся я про себя. — Нет ли тут подвоха какого? Да, дочерей нам с Васей на охоте будет трудно вызвать на откровенность. Чужаки мы. Они опасаться нас станут. А как сказал дядя Иван про мою ногу — «больная»?»
— На раненую, — поправил я дядю Ивана, обратив внимание и на то, что он нас «горожанами» назвал.
— Где ранило-то?
— На фронте…
— На фронте так на фронте… — как бы снова замыкаясь в себе, пробубнил хозяин.
— Вот перевяжу — посмотрю, можно ли без посоха.
— Можно, сынок, ты уж твердо ступаешь. А перевязать, оно, конечно, перевяжи. Бинтов у нас да лекарств там… — он запнулся, — в достатке.
«Ага… — снова отметил я про себя. — Едва вспомнил о бинтах, как сразу осекся. Значит — «мало»? Или — «остались ли»?»
Чай принесла Нина, и, пока она посуду со стола собирала, старик с удовольствием поведал ей о нашей просьбе и своем распределении мужчин «по номерам», как он сказал.
Нина глянула на меня своими карими глазами с лукавинкой:
— Добро, пойду с начальником.
— Какое ж я начальство?
— Не бухгалтер же у вас в начальниках ходит, — хитро ответила она.
Странен был её намек. Само собой — вся семья присматривалась к нам. Давно они поняли, а хозяин и жена его, поди, с обращения «дядя Иван» сообразили — не банду, чтоб примкнуть к ней, мы ищем. А вот кто мы? Пусть думают о нас что угодно. Нам рисковать нельзя. Вдруг бандиты появятся здесь, едва уйдем? В их руках сила, а у дяди Ивана — семья. Они смогут заставить говорить. Незнание иной раз спасает человека.
Чай, отличный в самом деле чай, мы пили в два раза досыта и до темноты. Когда в доме стали укладывать спать детей, нам постелили в красном углу на полу. Я перевязал ногу, увидел, что рваная рана почти зарубцевалась и под свежей сухой повязкой подсохнет за неделю.
Дядя Иван, осмотревший мою рану, был того же мнения.
«Внимательный человек дядя Иван, — подумал я, устраиваясь под чистой хрустящей простыню. — Всё подметил… А я, очевидно, слишком глупые для гуртоправа вопросы задавал… Потому хозяин и не поверил нам. Действительно, какой гуртоправ, глядя на зимнее пастбище, сплошь покрытое куреком — песчаной осокой, станет говорить о пастьбе коров? Я сглупил явно…»
Свои вещмешки мы поставили в головах и, понадеявшись на добрую душу хозяина, легли.
Что нам оставалось делать?
Вопросов тьма, посоветоваться бы с Васей. Но как?
Многое говорило за то, что какие-то контакты у хозяина с бандитами были… При виде нас, посторонних, дядя Иван никак не мог заставить себя расстаться с топором… Зина, вернувшись с охоты, не сразу вышла на поляну, пряталась за углом, пока отец не позвал её… Нина, едва завидев нас, приготовилась к обороне, взяв ружья наизготовку… Маленькие дети заплакали взахлеб, стоило нам войти в дом…
Похоже, наведывались к ним бандиты… Дядя Иван, под угрозами расправы и бесчестья, снабдил их всем необходимым. Но когда бандиты приходили сюда? Если до встречи хозяина и старшего лейтенанта? Тогда, не признавшись представителю власти, хозяин вряд ли откроется добровольно и нам. Придется действовать хитростью. Ну а коли после старшего лейтенанта? Вероятно, дядя Иван не имел ещё возможности сообщить куда следует, не мог оставить семью, опасался послать дочь… Похоже, не шуточными оказались угрозы!
Но мои рассуждения — пока домыслы.
В чистой постели с отвычки мы спали беспокойно.
Глубокой ночью я вышел во двор по нужде. У дальнего угла псарни стоял дядя Иван с ружьем. Я бы подошел к нему, но, приметив меня, он качнулся к стене и слился с тенью.
«Почему дядя Иван, неожиданно увидев меня, попятился в тень? — поначалу подумал я, но быстро вернулся в мазанку. — Что ж он — трус?.. Не стану торопить события. Будет ещё время расспросить — зачем он стоял дозором, коли уверяет — спокойно в округе».
Поднялись затемно, часов в пять. Поели плотно, чаю напились. Ружья нам с Васей дали недорогие, но хорошие, легкие, ухоженные. Сославшись, мол, перекусить захочется, взяли мы с собой вещмешки. Дядя Иван промолчал, заметив только, что последний день года обещает быть ходовым, удачливым. Помнил старик дни, хоть и не отрывал листки на календаре.
Хозяин сказал — пойдет проверить капканы на ондатр и лис, и отправился первым. За ним Зина с Васей, взяв собак. Потом — мы. Все шло заведенным порядком.
День и вправду обещал быть на редкость погожим. Небо — чисто и прозрачно, в нем таяли снежинки звезд. Легкий морозный туман обрядил инеем метелки и стволы камыша. Стояли синие сумерки, заря ещё не просыпалась.
Нина посвистом отправила в камыш равнодушных ко мне собак. Мы двинулись следом.
Нога моя побаливала при ходьбе, но терпимо. Наверное, больше оттого, что долго находилась на щадящем режиме.
 |
«Как подступиться к красавице? — поневоле вздохнул я, не сомневаясь уже — были на хуторе бандиты. — Одно оставалось — разговорить Нину во что бы то ни стало. Заставить её проговориться наконец. И пусть она хоть сутки мотает меня по болоту, мне ж надо ловить момент».
Заросли встретили нас робкой, застенчивой даже тишиной. Она гасила звуки, оставляя их внятными в то же время. Дыхание собак впереди на тропе слышалось отчетливо, но не резко, как обычно. Не скоро я догадался — звонкость поглощает иней на камыше.
Долго и осторожно шли мы по едва приметной тропе; шорох наших ступней по инею сливался в один звук. Когда признаки тропы пропали, Нина, шедшая впереди, придержала шаг. Я поравнялся с ней. Она обернулась. Изморозь от дыхания опушила её круто загнутые ресницы; брови вырисовались силуэтом белой летящей птицы.
— Идите за мной след в след. Ни шагу в сторону — топь, — сказала Нина. — Скоро утиный фонтан будет.
— Фонтан?
— Это я так озерцо зову. Оно не замерзает. Там утки держатся.
Нина быстрым, едва уловимым движением скинула с плеч ружья, взяла каждое за цевьё, взвела курки большими пальцами, а указательные положила на спусковые крючки.
Самому мне стрелять уж не слишком хотелось, а вот посмотреть, как Нина бьет с двух рук, — очень. Я постарался не отставать от неё, но она обернулась и остановила мою прыть строгим взглядом. Подчинился, пошел медленнее.
Посмотрел вверх и удивился. Ещё совсем недавно заиндевевшие метелки выглядели синими, а теперь розовыми. И хотя цвет неба над головой совсем не изменился, даже звезды не истаяли — взошло солнце. Розовый цвет в инее накалялся, делался рдяным; тени внизу приобрели фиолетовый оттенок.
Слева залаяли собаки. Совсем неподалеку заплескали по воде, а потом защелками крыльями сразу несколько птиц. Косо мимо меня проскочили низко над метелками утки.
Я ударил из двух стволов, лишь понял — теперь дичь не упадет в воду «утиного фонтана». Следом — два дуплета из отличных хлестких ружей. Я не успел перезарядить и двух стволов, как снова раскатился двойной дуплет. Моя дробь пошла стае вдогонку. И снова удача. Нина же снова спаренными выстрелами проводила поднявшихся последними. На моих глазах четыре пестрые кряквы, шедшие далеко не сомкнутым строем, одна за другой, кувыркнувшись через голову, камнями падали в заросли.
«Попал или не попал — собаки узнают», — подумал я.
Псы уже шумели в камышах, отыскивая дичь. В воздухе вокруг меня мерцал в рыжем свете зари облетевший с метелок иней.
— А ты неплохо стреляешь, — услышал я голос неслышно подошедшей Нины. После выстрелов у меня немного заложило уши.
«Если напарник после охоты переходит на «ты», — подумалось мне, — то я ударил по уткам вполне хорошо. Не слишком ли? Похоже — увлекся. Чаще приходилось слышать, как охотники-друзья начинают говорить друг другу «вы».
— Не знаю. Я не видел.
— Две утки твои наверняка.
«Да я же четыре снял!» — хотелось сказать, но спорить не решился.
Собачьи морды с кряквами в зубах — коричневой уточкой и зеленоголовым селезнем с белым ошейником — появились из камыша, положили поноску к ногам Нины. И тут же, не ожидая команды, псы скрылись снова. Они выскакивали и уносились вновь, пока у ног охотницы не вырос солидный ворох из тринадцати уток.
— На мою долю приходится одна, — скромно сказал я.
— Я тоже могла промазать, — великодушно промолвила Нина.
Она деловито и ловко выпотрошила дичь, отыскала бугорок и сложила на нем добычу. Потом сняла с пояса фляжку и щедро посыпала вокруг черным порохом.
— Ондатры могут растащить. Здесь много ондатр, — не ожидая вопроса, пояснила она. — Не устал?
— Ты охоться, как обычно. Я не подведу. Постараюсь… — Проверяет меня: ондатры уток не едят.
— Пойдем на фазанов?
— Бить так бить, — беспечно вроде ответил я, а сам подумал: пора нам присесть да поговорить.
— Мы не для себя. Заморозим — и в Гуляевку, а оттуда в город, в госпитали. Говорят, дичь очень полезна раненым. Быстро силы восстанавливаются.
— Вы сами их отвозите?
— Отец.
— А в Гуляевке кино бывает?
— Некогда, — отрезала Нина.
И пошла по тропе в тугаи.
Долго мы шли по тростниковому болоту, петляли, обходили топи и окна. Солнце оказывалось то слева, то позади, то справа. Оно поднялось над тугаями и стало медовым. Налились оранжевым цветом опушенные инеем метелки камыша, вымахавшего в два человечьих роста. Густые синие тени под ним, смешавшись с солнечным светом, ударили в прозелень. А ветер продолжал спать.
Постепенно камыш мельчал. Стали попадаться кусты ивняка, тамариска, верблюжьей колючки, редко — облепихи. Потом пошли купины и целые заросли утыканного колючками чингила, молодой поросли джанды.
Скрипуче гортанные крики фазанов то близко, то вдали слышались, будто на куриной ферме.
Должен признаться, что лучшего места для охоты трудно придумать: стежки птичьих следов пересекали одна другую.
— Пускаем собак, — сказала Нина. — Пока пес бежит и хвостом машет — нет дичи. Как остановится, замрет — учуял фазана, вы приготовьтесь, дайте посыл. И уж тогда на собаку не смотрите. Выше кустов взгляд. Фазан свечой вверх идет. Не стреляйте. И попадете, да не убьете. Перья фазана на дробь крепкие. Зайцу, тому и одной дробины хватит. Фазана же надо бить, когда он со «свечи» в полет переходит. Тут он будто зависает, и заряд дроби под перо идет, прямо в тушку, — испытывая моё охотничье терпение, поучала Нина.
Я только поддакивал. Впрочем, и нагороди Нина чепухи, я не мог бы её поправить. Откуда гуртоправу знать тонкости охоты на фазанов? А после разговора про кино Нина опять перешла на «вы».
Мы разошлись метров на сто и спустили со сворок собак. Не доводилось мне ходить на фазанов со здоровыми мохнатыми дворняжками. Удивительно, как дяде Ивану с дочерьми удалось натаскать их и на уток, и на фазанов, и на лис, и на сайгаков. Псы показали себя универсалами. Они делали всё, и так, как полагается, а вдобавок — терпимы к хозяину. Собака, которую я впервые видел, оказалась очень послушной.
Тугаи, поросшие невысоким камышом, были словно набиты дичью. Не прошел я и ста шагов, как собака сделала стойку. Я послал её и через мгновенье с сухим характерным щелканьем крыла о крыло взмыл ввысь яркий, бело-синий с красным ком. Засиял в голубом небе. В момент перехода со «свечи» в полет фазан выглядел ослепительным по игре красок. Я ударил влет. Распушив крылья, птица будто наткнулась на преграду, стукнулась о неё грудью и кувырком, теряя пестрые перья, упала в кусты.
За час с небольшим я набил полдюжины отличных фазанов. А Нина — пятнадцать. Где ж мне угнаться за ней с одним-то ружьем, когда она палит из четырех стволов.
Даже немного обидно стало, что нельзя перед Ниной блеснуть своим умением стрелять. Да где уж гуртоправу состязаться с охотником-промысловиком. Смирился.
А Нина меж тем снова выпотрошила птиц, сложила бугорком и опоясала черным порохом.
— Не устал? Может, на кабанов сходим?
— Можно и на кабанов, — покорно согласился я. Подумав: «А после охоты на кабанов ты меня на сайгаков не поведешь? Кстати, охота на кабанов — штука опасная. Там я буду вынужден либо сдаться, либо показать себя мастером. Иначе можно и погибнуть ни за грош. Ладно, проверяй дальше. Убедись, что я не простачок».
Миновав тугаи, мы снова вошли в густой тростник на берегу болота, такой густой, что и пробраться сквозь него невозможно. Прошлогодняя, позапрошлогодняя и десятилетней давности тростниковая ветошь поднималась едва не на метр от мерзлого песка. Мы тихо, взяв на сворки собак, двигались вдоль опушки зарослей. Тут на закраине я увидел дыры в камышином буреломе. Небольшие такие, дупла вроде.
— Заячьи норы? — спросил я у Нины.
— Кабаньи лазы.
— Кабаньи? Да в неё заяц с трудом пролезет! — говорил я уже без шуток, совсем не желая играть роль гуртоправа. Не доводилось мне охотиться в камышах на кабана.
— Секачи да чушки — что мыши. Лишь бы рыло с пятачком просунуть. А там и голову протиснут. Дыры же эти в тростниковом валежнике, словно резиновые. Пиль! — приказала Нина собаке.
Пес, вздыбив шерсть на загривке, подошел к дыре, принюхался, сунул морду в нору и точно провалился в неё, но, испугавшись чего-то, выскочил и, виновато скуля, на брюхе пополз к ногам Нины. Нагнувшись, она потрепала пса по загривку. Тот опрокинулся на спину и, мягко поскуливая, перебирал лапами.
— А был бы там «хозяин»?
— Не-ет. Я знала. Мы оставим собак здесь, а пойдем на другой край зарослей. Потом я свистну, а собаки погонят кабанов на нас. Не боитесь? — неожиданно спросила Нина. — Я-то бью наповал.
— Я тоже постараюсь.
— А куда надо бить, знаешь? — усмехнулась красавица.
— Скажешь — узнаю…
Я улыбнулся Нине. Игра наша явно затянулась. Не пора ли напрямки спросить: «были бандиты и когда?»
— Под лопатку, под ухо…
— Когда он полезет из такой дыры — под ухо удобнее, — ответил я с видом знатока.
— Не струхни… с перворазу. Ну да я рядом буду, выручу. Ружье жаканами перезаряди
Я давно ждал указания и тотчас выполнил его. Однако слишком торопливо, не спросив, какими такими «жаканами» надо заряжать. Сработала охотничья привычка — рука безошибочно протянулась к левой части патронташа. По-моему, Нина отметила про себя эту мою «неожиданную» осведомленность.
Пройдя километра два-три, мы вышли на открытый песчаный перешеек, спрятались в кустах. Против нас в серой камышовой ветоши чернели шесть кабаньих лазов, расположенных метрах в десяти друг от друга. И солнце хорошо освещало их из-за моей спины.
— Твои два левых… — сказала Нина и подала сигнал собакам. Они подняли лай в болоте. И вскоре мы услышали хархарнье, треск тростника невдалеке перед собой.
Меня беспокоило одно: что, как свиньи покажутся в обеих дырах разом? Успею ли я ударить под ухо одного, прежде чем он своей тушей заслонит лопатку второго? Ведь выстрелив по брюху, я лишь раню зверя и не успею перезарядить ружье. Всего тридцать метров отделяло меня от кабаньих лазов.
Не желая рисковать, я решил стрелять с упора — примостил ложу ружья на рогульку ивовых веток в кусте, что стоял передо мною. И не пожалел.
Одновременно с треском в тростнике из дыры, как из жерла, вылетел секач. Спусковой крючок я нажал почти инстинктивно. Визг смертельно раненного слился со взрывом во второй дыре, из которой выскочила чушка-кабаниха. Тут я не опоздал и на десятую долю секунды, попал точно под ухо. От удара чушка развернулась и, повалившись на бок, заскользила задними ногами вперед. За ней тянулся кровавый след, широкий и очень яркий. Секач-то заверещал, потому что жакан пришелся под лопатку. Вепрь был огромен. Он подскочил от боли и проехал по снегу мордой метров десять. И теперь паровал развороченным кровоточащим боком в густой синей тени от куста тамариска.
Убедившись, что пара кабанов убита, я обернулся в сторону Нины. Тут-то мне и выпал случай увидеть её виртуозность в стрельбе.
Нина стояла шагах в двадцати от меня. Меж редких безлистых ветвей я прекрасно видел её темно-коричневую куртку из ондатры, серый оренбургский платок. Оба ружья были вскинуты к плечам девушки, а ложи прижаты к щекам. Я знал, что в спортивной стрельбе, например, своеобразном «марафоне» 30 + 30 + 30, то есть из положения «стоя», «с колена» и «лежа», по тридцать выстрелов из боевой винтовки, есть мастера, которые, прицеливаясь, не прищуривают левого глаза, а глядят обоими. Сам умел стрелять из пистолета с обеих рук от пояса, да хоть через карманы. Но видать, как бьют из охотничьих ружей одновременно с обеих рук, не приходилось.
Когда я обернулся, Нина сделала один выстрел и уложила кабана. И случилось то, чего я так боялся, ожидая появления зверя: один заслонил другого во время вылета из камышовой дыры. А из трех дальних от неё уже тоже выскочили секачи, брызжа пеной и отчаянно хрюкая.
Я растерялся: «Как же Нина справится со всеми? Ведь один-то из пяти непременно уйдет. А помочь ей у меня нет возможности! Стрелять жаканом через сучья — бессмыслица! Ударившись о ветку, пуля непременно изменит направление!»
Пока я стоял столбом и размышлял, Нина почти одновременно ударила из двух стволов по дальним от неё секачам. Затем по ближнему, что выскочил из второго лаза. Я не мог уследить сразу и за кабанами и за Ниной. А она тем временем молниеносно откинула ружье с левой руки на плечо, одной правой сломила ствол, уперев ложу о бедро, и перезарядила «зауэр».
Кабан находился на грани убойности для жакана. Но Нина успела выстрелить и с очень острого угла попала зверю под лопатку. Секач подпрыгнул и, перевернувшись через голову, шлепнулся на песок.
Никогда в жизни я больше не видел такой стрельбы.
Да и таких азартно-восторженных женских глаз, какие были у Нины, когда она обернулась ко мне, пожалуй, тоже… никогда в жизни.
Потом мы стащили туши семи кабанов в кучу. Бережно сняв шоколадную ондатровую куртку, Нина засучила по локоть рукава пушистого свитера и принялась потрошить добычу. В морозном воздухе терпко пахло теплым ливером и кровью.
Закончив потрошить кабанов, девушка отмыла руки и лицо в бочажине.
— Теперь можно и отдохнуть… — сказала она.
— А дядя Иван на кабанов ходит?
— Ещё бы. У него трехстволка бельгийская.
Не знать такой марки было бы мне не простительно.
— Два ружейных — спарены, а под ними нарезной, винтовочный…
— Откуда знаешь?!
— Дорогое ружье…
— У кого видел? — Нина побледнела, отступила на шаг, поближе к оружию. — Было такое ружье у отца.
— А где же оно?
— Там, где ты его видел…
— Не видел я его, — спокойно ответил я. — Фирма известная. На весь мир гремит среди охотников.
— За кабанами мы придем после обеда, — заторопилась Нина, запахивая куртку. — Отца, Зину и вашего Васю захватим. Одним нам не справиться. Здесь не меньше тонны мяса. А птицу захватим сейчас. Пошли.
— Хорошо привычному человеку, — вздохнул я. — По мне бы отдохнуть чуток. Давай присядем. После такой охоты не грех посидеть. Вон у той ветлы. Там затишье и сухо.
— А вы счастливчик. Не припомню такого удачного дня.
— Дичи много. Ходовой день, — улыбнулся я.
— Может быть, — согласилась Нина и вздернула бровь. — А я думала, гуртоправы стреляют хуже.
— На фронте не кабаны перед тобой, а враги. Они тоже стреляют хорошо…
Подойдя к ветле, мы сели рядом, прислонившись спинами к шероховатому стволу.
— Почему вы не учитесь, в школу не ходите? — спросил я, только чтоб завязать прервавшийся разговор.
— Читать, писать я могу, а кто умеет так охотиться, как я?
— Неужели вас не тянет в город? Там женщины и учителями, и врачами работают.
— Была я в городе… ещё перед войной. Целых три дня там провела. Разговаривала с женщинами — учителями, врачами, даже с инженером. Они учатся, они работают, чтоб хорошо, в достатке жить. А разве у меня нет достатка? Я на охоту хожу в ондатровой куртке. Когда я приехала в город в своей шубке, все женщины наперебой охали и взапуски завидовали. Чего я ни пожелаю — всё у меня будет или есть.
— Разве дело в шубке?
— Пусть не в шубке. Но кто из городских женщин знает своё дело лучше, чем я?
— Есть такие, — твердо сказал я. — Почему не быть.
— Если есть, то у них нет двенадцати шуб — сверху мех, внутри мех, по шестьдесят две тысячи и больше каждая стоит.
— А живя здесь, вы не боитесь, что однажды ночью двуногие волки придут и заберут ваши шубы, ружья?
— Раньше не боялась…
— А теперь? Теперь-то почему? — я обернулся к Нине. — Что случилось?
Я радовался, что так удачно наконец повернул разговор и заставил Нину проговориться неожиданно для самой себя.
— Не стану я больше об этом… Отец строго-настрого запретил.
— Я хочу помочь вам!
— Вы гуртоправ, хотите помочь? — она силком рассмеялась и встала.
— Как же так — «отец запретил»? А придут эти двуногие волки ещё раз — опозорят вас… При чём тут запрет отца?
— Были и второй раз… — опустив голову, проговорила Нина.
— Два раза были? — вскочил я.
— Я бы брюхо жаканом вспорола каждому, кто вошел к нам в спальню. Так и отец сказал им. Они не посмели.
— Сколько их приходило?
— Первый раз — семь. Второй — человек двадцать. А один, отец говорил, в доме и не появлялся. У угла псарни стоял. Бандиты с ним переговаривались. Отец и мать, кажется, признали его голос.
— Кто же это был?
— И нам отец с матерью не сказали… Я спросила, да отец рассердился: «Незачем вам о нём слышать!» Раньше отец на меня никогда не кричал.
— Идемте, Нина. Я уж постараюсь разговорить дядю Ивана.
Я сделал вид, что бандиты меня больше не интересуют.
— Отец уверен, что никакой вы не гуртоправ, а Вася ваш — не бухгалтер.
— Даже уверен? Почему?
— Фляжка у вас со спиртом… На её крышке инициалы старшего лейтенанта, оперуполномоченного из Гуляевки. Я у него точно такую видела, когда он был. Стреляете вы не как гуртоправ. И в сене ничего не понимаете, коли коров на курек выгонять вздумали…
Разоблачили меня… Что ж, пойду в открытую.
Впрочем, разве я сразу не стал обращаться к старому охотнику так, как его называл старший лейтенант из Гуляевки — «дядя Иван»?
Честные люди — добрые люди. Они куда наблюдательнее, чем злые, нечестные. Злые — замкнутые, всегда настороже, больше следят сами за собой, чем за окружающими. Они боятся, прячутся, где уж им быть по-настоящему внимательными.
Многое с момента прихода настораживало меня и Васю. Плач детей при виде чужаков. Не такие уж они маленькие, чтобы пугаться одного вида. Да и то детей надо сначала напугать чужому, тогда они и других бояться начнут. То, что Нина, придя с охоты, изготовилась к стрельбе, когда увидела нас. Осторожность старшей сестры…
Собаки, целая псарня дяди Ивана — прекрасные охотничьи псы, но не защитники. Это я тоже понял. Они натасканы на любого зверя и дичь, универсалы в своём роде, но приучены подчиняться любому, не агрессивны, не видят в чужаке врага своего хозяина. Никогда не было нужно дяде Ивану, чтоб собаки видели в человеке чужака. Вот в чём дело.
По дороге к дому я таки узнал от Нины ещё кое-что. Бандиты приходили к ним после посещения хутора оперуполномоченным из Гуляевки. Это немаловажное обстоятельство. Не на чью помощь в ближайшее время дядя Иван, обремененный большой семьей, рассчитывать не мог. А проводник, который показал путь бандитам по болоту и которого опознали по голосу охотник и его жена, непременно был человеком, связанным с Гуляевкой, человеком своим. И конечно, бандиты основательно пригрозили дяде Ивану. Только одно его появление в Гуляевке могло вызвать новое нападение бандитов — беспощадное и кровавое.
— Вы не говорите отцу о рассказанном мною, — попросила Нина, когда, забрав фазанов и уток, мы подходили к хутору.
— Конечно, нет! Зачем же? Дядя Иван сам откроется.
— Вот уж нет!
— Откроется, — твердо сказал я.
— Почему?
— Потому же, что и вы, Нина. Сами говорите — не верит он, будто мы с Васей Хабардиным пастбище ищем. А коли мы не бандиты, то значит, те, кто их ищет. Для вас ведь главное было убедиться — не бандиты ли мы, не ими ли подосланы, не стремимся ли соединиться с ними. Разве не так?
— Не знаю… Впервые я видела отца таким испуганным. Он никогда никого не боялся.
— Рассказал вам старший лейтенант о налете на табун из Бурылбайтальской рабочей дивизии?
— Говорил…
— Так остановятся ли бандиты при крайнем случае перед убийством старика, десятерых женщин и детей? Дядя Иван рассудил верно — не остановятся.
— Но и мы пристрелили бы не одного! — гордо сказала Нина.
— Вы могли ни одного и не увидеть…
— Как же так?
— Подожгли бы они ночью ваш дом, да и поубивали вас всех из камыша. Тем оружием, что у вас взяли. — И мне припомнилось ночное дежурство дяди Ивана. Очевидно, он думал, как и я.
— Отец очень жалеет свое ружье, — помолчав, проговорила Нина. — У него бельгийская трехстволка была. Два — ружейных, а третий — под винтовочный патрон, нарезной. Не любит жаканов отец…
— Да, пули варварские, — согласился я.
Мы давно вышли на твердую тропу средь камышовых зарослей и шли рядом. Собаки, играя, трусили впереди. Солнце налилось малиновым вечерним светом, висело над тростником. Поднявшийся ветер обтрепал иней с метелок, и они выглядели черными, будто обугленными. До нас уже долетал многоголосый лай с псарни.
Тропинка прихотливо вильнула, словно отыскивая в болоте путь покороче, и, не найдя, повела в обход. Послышался тупой стук бондарского молотка. Мы вышли на поляну перед домом, на котором резвилась вся сорокаголовая свора. Завидев нас, собаки лениво, по обязанности, тявкнули в нашу сторону и вновь принялись за прерванную игру. Дядя Иван натягивал обруч на бочку, видимо, со свежезасоленной рыбой, и куча окуней и сазанов, насыпанных на брезент, ждала своей очереди. Вася Хабардин сидел на крылечке и курил. Из коптильни высунулось на мгновенье полное, красное лицо Нади — жены охотника. В окнах виднелись прижатые к стеклам носы малолеток.
— Э-э, — протянул, обернувшись, дядя Иван, — только вы сегодня удачливы.
— С ним на охоту, что в кино ходить, — кивнув в мою сторону, рассмеялась Нина. — Мы ещё семь кабанов завалили!
— Да ну! — охотник смотрел на дочь с восхищением, а на меня — с завистью. — Счастливчик тебе в напарники попался. И птицы уйму набили! Этак мне раньше уговору в Гуляевку ехать придется. Привет кому передавать?
— У вас на рыб безгласных улов, — сказал я, отцепляя вязки с дичью и складывая её в ларь.
— И то… — согласился дядя Иван. — А на обходе капканов ноги да время убил. И у Зины охота не пошла. Фазан да утка на двоих. Ну вы-то расходились! Обедать — потом всё остальное.
— Мы с Ниной… — чуть покривил я душой, так не терпелось перекинуться с Хабардиным хоть словечком, — мы с Ниной думали, что засветло за мясом сходим. Чтоб уж праздновать Новый год, так праздновать.
Нина опустила взгляд, и я видел, как порозовели её щёки:
— Да, отец, так лучше, по-моему…
— Дело говоришь — твоя взяла. — И дядя Иван без лишних слов накинул на рыбу края брезента и громогласно объявил, что все от мала до велика идут за кабанятиной. Что тут поднялось! Загоняли собак, одевались, доставали длинные, похожие на нарты сани, с хохотом впрягали собак и наконец отправились гуськом в тугаи. Я спросил Васю, почему он грустный.
— А… — махнул рукой Хабардин. — Только мы вышли, разговорились малость, я возьми и брякни, мол, кто это к вам заходил. В одном месте от нашей тропы в тростник словно ход проделан. Ну Зина и замолчала, будто онемела. Стреляла в божий свет, как в копеечку, больше дичь вспугивала. Так и вернулись ни с чем.
— Следов много?
— Отпечаток так один, след в след ступали. Зина меня от того места, точно утица от гнезда уводила.
— На обратном пути там не шли?
— О-о… за километр. Блудили, в зыбун попали. Я её едва вытащил. Тяжелая…
— Дяде Ивану ничего не говорил?
— Тебя ждал.
— Хорошо…
— Чего хорошего?
— Я точно узнал, Вася, были у них бандиты. Только видели их дядя Иван с женой. К дочерям отец не подпустил, грозился перестрелять.
— Так и стрелял бы!
— Их человек двадцать.
— Поднабралось швали…
— Я тебе, Вася, мигну, если про виденную тобой тропу в тугаях напомнить дяде Ивану понадобится.
Вернулись мы с кабанятиной уж затемно.
Еда в русской печке остыть не успела. И сразу — за стол. Мужчины — за отдельным столом. И опять он мне напомнил наши дружеские довоенные дасторконы, когда год от года в каждом аиле жизнь становилась всё веселее, счастливее. А вот теперь сидели мы в новогодний вечер за обильным столом, в забытом, казалось бы, войной доме, над которым нависла угроза бандитского налета.
— За победу, сынки! — сказал дядя Иван, поднимая стакан со спиртом из нашей фляжки. — За скорую победу!
— За победу, так за победу. Мы ведь люди не военные, — сказал я. — А вот вы своей охотой да рыбачеством, поди, целую роту кормите.
Выпили. Дядя Иван до дна, а мы пригубили. Он глянул на нас, занюхивая хлебом, заговорил о другом:
— Роту — не роту, а взвод, надо думать, обеспечиваем питанием круглый год. И одежкой тоже. Третий год, как война. Деньги, которые причитаются нам, кроме провизии, керосина там, сдаем. Тысяч двести…
Дядя Иван взял, крышку от фляжки, пригляделся.
— Позаимствовали… — опережая вопрос, сказал я.
— У хорошего человека позаимствовали, невоенные люди…
— Что ж вы в гости к хорошему человеку не наведаетесь?
— Туда да обратно — двое суток пройдет…
— У вас псарня целая — защитят семью от волков.
— Да не от двуногих…
— Тех, кто у вас два раза был…
Дядя Иван покосился в сторону кухни, где слышался веселый голос Нины.
— Так… Она, значит, сказала… Не подумала, что с нами всеми станет…
— И вам надо бы сразу сказать начистоту. Мы бы их с утра преследовать начали.
— Первый раз — на пятнадцатое в ночь, Я заутро собирался в Гуляевку податься… С рыбой мороженой да копченой, дичью, солонины две бочки десятивёдерные приготовил, сала там… Всё, что за месяц напромышляли… Семеро у окон топталось. Грохочут: «Открывай!» Думал я в них пальнуть… Так ведь подожгут и по одному перестреляют на выходе. Что им дети? Али девки? Открыл. Грязные, мокрые по пояс. Я им на дверь спальни показываю: «Женщины там. Войдете — убьют». А за перегородкой малолетки в рев — чужаки, боятся. «Э-э, — говорят, — свои есть, что нам русские свиноедки! Ружья давай! Еду давай!» «Вот ружья», — говорю. На стене три висело. Две двустволки — так себе, а третье, любимое.
— Бельгийское, — сказал я, — два ствола — ружейных, а под ними — винтовочный, нарезной. Под наш патрон, под русский.
— Верно. По особому заказу, видно, делали. Именное да не по-нашему выгравировано… Десять тысяч за него перед самой войной отдал. Эх…
— Вы ешьте, дядя Иван. Закусить забыли, — подбодрил я его.
— Да мне сейчас и фазанья грудка костью поперек глотки становится… Забрали ружья, дичь, рыбу, сколько могли унести. А в солонину нагадили, сволочи. Я им: «Хоть вы и не нашего бога люди, да зачем еду портить?» — «Что наше дерьмо, что сало — все одно. Сожрут ваши кызыласкеры», — и ржут, хотели и в другие нагадить. Как сказали они — «кызыласкеры», подумал я, что не только не нашего бога люди, а просто басмачи…
Слушал я дядю Ивана, а сам думал:
«Кызыласкеры… — это бедняки, защищающие бедняков от «высшей расы» — фашистов; бедняки, боровшиеся здесь против баев и манапов».
Родовая спесь, родовые традиции, басмачи проклятые! Знакомо, ох, как знакомо. Когда-то, в отрочестве, мне пришлось лицом к лицу столкнуться и не с такими последствиями этого груза прошлого.
То был очень тяжелый год. Шестнадцатый.
Не вдаваясь в исторические подробности, скажу, — манапы, баи и торговцы в конечном счете увлекли часть киргизов тогда за границу. Темные и забитые киргизские дыйкане… Они действительно пошли за этими козлами-провокаторами, когда богачи решили спасать своё добро. В самом чреве Тянь-Шаня есть долина. Называется Сарыджаз. Река так называется, горный хребет к северу от неё. И вот в этой местности собрались тысячи семей, чтоб миновать последний перевал. Была ночь, очень холодно. Возвращаться поздно; высокие перевалы, которые мы миновали, закрылись. А по узкой тропе перевала гнали манапский и байский скот — отару за отарой, стадо за стадом. Прошла неделя и ещё неделя. Люди голодали и мерзли. Никто из богатых не дал ни барана. А многие, как и мы с братьями и отцом, ушли лишь с котомкой за плечами, оставив в селе всё имущество.
И день ото дня народ понимал, как бессовестно и безжалостно его обманули. Ведь баи и манапы думали только о себе, своем скоте, своем добре.
Прошел ранний снег. Он грозил холодной смертью людям. Тогда терпенье лопнуло.
Я помню ту ночь в долине Сарыджаз и то, что теперь называют циклоном, а тогда просто бураном, обрушилось на толпы людей.
«В пропасть байский скот! Пусть идут люди!» — раздалось во тьме ночи.
Я солгу, если скажу, что видел и знаю — кто закричал первым. Но тогда-то был уверен — это мой отец закричал. Потому что и мой отец кричал то же.
И череда людей, взявши детей — кого за руки, кого на руки, держась друг за друга, двинулась на перевал. Я помню эту череду в подсвеченной снегом ночи.
Приспешники баев и манапов били людей палками, стреляли в них. Но длинная череда не отступала и двигалась, и двигалась по тропе к перевалу.
«Всё равно, всё равно, — шептал отец. — Смерть ли здесь, в драке, смерть ли в пропасти, смерть ли в долине от холода и голода. Держись, сынок».
От холода и ужаса, криков отчаяния вокруг и ударов я не мог плакать и только шел за отцом. А мать, схватив его за халат, держалась позади с малолетками, потому что отец прокладывал путь на тропе перевала.
Нет, не время и не место останавливаться на истории, делать длинные отступления. Я знаю, сам видел одно: когда людям стало плохо, когда они умирали, радетели родов, старейшины племени предали их, предпочтя своему народу свой скот.
Это я видел. Видел на Сарыджаз. Тогда там бушевало два циклона: гнев народа и снежная буря.
После рассказа дяди Ивана я возненавидел Исмагула и Кадыркула ещё больше. Но не потому, что они носили имя Аргынбаева, тоже предавшего сотни своих соплеменников за свой скот, а потому, что оказались они такими же, как отец, как дядя.
А дядя Иван продолжал рассказывать о налёте. Говорил он глухо, натужно. И держал в руке вилку, как держат нож.
— Остановил расходившихся бандитов, тех, кто солонину портил… Один из них же. Хромой, вроде вас. Тоже с палкой. Бугаек. Он всё молодого, у кого рука на перевязи, слушался. А тут набычился: «Хватит! Нам пора. А то не пройдем болото до рассвета».
Я подумал: «Конечно, это и был Исмагул. Досталось ему в схватке с Макэ Оморовым, вечная ему память… Однако же братья не в ладах живут. Даже здесь между собой за власть воюют. И куда девался Абджал-бек, дядя их? Ведь происшедшая в доме у дяди Ивана стычка: портить — не портить бочку солонины, может свидетельствовать о многом. Прежде всего — Исмагул, как был телком, по выражению старухи Батмакан, так им и остался. Но не всегда. Умеет и на своём настоять. Как-никак старший брат. Кадыркул — хитер, видимо, ловок, шайтан. Батмакан говорила — сам дерёт, сам орёт».
Я старался представить себе теперешний их облик. Ведь снимок-то у меня был довольно старый. На фотографии им по шестнадцать-семнадцать лет. Как, в чём они изменились?
Хотелось мне показать дяде Ивану фотографию братьев, чтоб окончательно убедиться. Но поосторожничал, мало ли как дело обернется, да и признать Аргынбаевых на фотографии — штука нелегкая. Иной поворот, если я им самим снимок покажу. Они-то тут же себя узнают.
— А второй раз когда явились? — спросил я дядю Ивана, угрюмо уставившегося в столешницу.
— Двадцать первого… Похоже, всей бандой — семнадцать пришло. Под утро… Орут, грохочут. Дети мои маленькие опять в рев, сердце надрывают. Мы после первого налета, не будь дураки, ружья, вещи, ценное — в камыши снесли. Всё из съестного бандиты утащили, в куржумы, сумы переметные, попихали. Мешок муки, что в расходе был, тоже уперли. И снова, как в первый раз, пригрозили: «Никто, кроме тебя, не знает, что мы тут. Придут войска нас ловить — ты выдал».
Дядя Иван замолчал. Лицо побагровело.
«Ишь, какие самонадеянные — «войска придут», — я усмехнулся в душе. — Войска… Многого хотите. Или Абджалбек внушил вам, что на двадцать бандитов дивизию целую пошлют? Не пошлют. И нас двоих хватит».
— Тот, что помельче да поюрче, всю картину расписал. Пули, мол, на тебя пожалеем. Удавку на шею наденем, а сами девок портить будем — от малой до старшей, и убивать. Как тебе надоест смотреть, так сам и удавишься. Еще запомни: нас поймают — сумеем другим наказать, чтобы расправились с тобой, с собакой.
Сжал дядя Иван вилку в руках, словно нож для удара. Голос его охрип от ярости. Старик помолчал, прокашлялся, продолжил:
— Пока они шастали из дома в сарай да из сарая в дом, а я — за ними. Приметил, стоит один у угла псарни. Близко не подходит, издали с ними разговаривает. Ругается, мол, у него все ружья не забирайте. Оставь, мол, его без ружей — он завтра в Гуляевку побежит, нечем ему охотиться станет, нечем семью кормить. И жена, что из дома вышла, слышала этот разговор. А когда они ушли, мы с Надей, не сговариваясь, решили — тот, который у угла псарни стоял, — Ахмет-ходжа. Чабан. Он из Гуляевки, пасет две отары на северной стороне от болота.
— А вы, дядя Иван, не ошиблись?
— На слух, по стуку крыльев, я одногодовалого фазана от двухлетки отличу. И пришли они по тропе с северной стороны болота. Я проследил, куда они ушли, — туда же, на север. А там никого, кроме Ахмет-ходжи, нет. Ещё был с ними старик, старый-престарый.
— А вы нас туда провести можете, дядя Иван?
— Что вам там делать, невоенные люди? — спросил охотник, глядя мне в глаза.
— Пастбища искать, — ответил я без улыбки.
— Нина вас проводит…
«Если уж старик решился послать с нами свою любимицу, — подумал я, — то без боя он не сдастся… И надеется, что её-то мы в обиду не дадим. А она доложит ему, как прошла наша встреча с бандой».
— Хорошо, — вслух сказал я. — Нина проводит так Нина… Только вы не беспокойтесь, дядя Иван.
— Поздно беспокоиться, о драке идет речь. Когда пойдете?
— Поужинаем и двинемся.
— А Новый год?
— В другой раз отпразднуем.
— Вдвоем, выходит, идёте?
— Вдвоем пока, — попытался я успокоить дядю Ивана. — Надо точно узнать, где они теперь находятся.
— В Гуляевку, к старшему лейтенанту не ходить? Я девчонок одних оставить боюсь.
— Не ходите. Вы собак научите сторожить.
— Эй, Нина! — крикнул старик.
Отводя рукой прядь с высокого чистого лба, вошла в комнату Нина, красивая, разрумянившаяся в тепле.
— Проводишь ночью гуртоправа с бухгалтером через топь на северный край болота.
— Хорошо, — очень спокойно кивнула Нина.
Старик глянул на неё из-под бровей:
— Ты ж знаешь, кто они?
— Похоже, знаю.
— Бери чуток восточнее, чтоб не прямо к отарам Ахмед-ходжи выйти, а за холмами. Приглядеться им нужно.
— Ладно, отец.
— Собирайся.
Нина вышла в другую комнату. Сквозь дощатую перегородку оттуда доносился смех, возня девчонок-малолеток.
— Если выйдете до полуночи, то к утру, к самой заре, туда поспеете… — сказал дядя Иван. — Не могу я их одних, без себя, оставить…
Наверное желая перевести разговор на другое, Вася спросил:
— Много взяли у вас бандиты?
— Что? — переспросил охотник.
— Ограбили вас крепко?
— Дак как… — дядя Иван пошевелил бровями, бородой, нахмурил белый лоб, подсчитывая, прикидывая. — Тысяч на триста пятьдесят облегчили, коли считать чемодан с деньгами… Душ наших не захотели и то ладно… Что ж вы вдвоем с ними сделаете, гуртоправы, люди невоенные?
Вася пожал плечами:
— Сообразим по обстановке… Наше дело — наши заботы.
— Ни пуха вам, ни пера.
Вошла одетая в овчинный полушубок Нина. Болотные добротные сапоги с широкими раструбами доходили ей до паха и были привязаны ремешками к поясу. На одном плече Нины тускло поблескивал «зауэр», а на другом — моток веревки метров эдак в тридцать.
— Отправились, полуночники!
Простились с хозяевами и ушли в морозную и промозглую болотную ночь. Тугаи подтопил туман. Тяжелая тишь стояла над топью. И тучи стлались над тростником, темные и беспросветные. Промозглый холод перехватывал дыхание.
У поворота тропы на север Нина распустила моток веревки и велела нам обвязаться.
— Станете проваливаться — всё одно: не шагайте в сторону, с головой ухнете, — голос Нины в туманной тишине слышался глухо, сдавленно. — Не кричать, не разговаривать. Кто их знает, может, они навстречу нам прутся.
Она пошла первой. Её фигура маячила впереди расплывчатым призрачным пятном. Я шел замыкающим, и не минуло и четверти часа, как раненой ногой угодил в промоину, набрал полный валенок воды. Забулькал, выходя на поверхность, болотный газ.
Чертыхнулся я про себя и тут же влез в топь другой ногой.
Потом перестал считать купанья, ухая в песчаную, сцепленную корнями тростника жижу. Лишь провалившись по пояс, дернул веревку. Мне помогли выбраться. Тут я увидел, что даже щуплому легковесу Васе Хабардину крепко досталось. Он был не суше меня, и полы его пальто тоже заледенели.
— У меня судорогой ноги сводит, — шепнул я.
— То же самое, — просипел Хабардин.
— Нельзя отдыхать — обморозитесь, — шмыгнув носом, заметила Нина.
— Мы и не собираемся.
Снова двинулись по топкой тропе, проваливаясь в булькающую жижу, вытаскивая друг друга, и опять брели, держась за веревку. Пот тек из-под шапки, ел глаза, а ноги ломило от ледяной воды.
— Теперь уже скоро, — неожиданно остановившись, сказала Нина. — Собака брехнула.
Мы не слышали, но поверили ей охотно — чересчур измотались, потеряли ощущение времени. И лишь по тучам, которые обозначились на низком однотонном пологе, поняли — скоро день. И сгустился, стал плотнее, потек накатами клубящийся туман.
Наконец вышли на сухое место, похоже, остров.
— Нина, дальше мы сами пойдем.
Вдруг она всхлипнула:
— Куда ж вы такие пойдете? Вы ж замерзнете в степи. Там ветер. И их семнадцать гадов.
— Ну-ну, Нина! Ты же смелая девушка…
— Да я не за себя боюсь!
— Ты лучше нам дорогу объясни.
— Вон верба — прямиком до неё. Оттуда увидите заросли тамариска. Они уж на берегу растут. За ними низкий тростник — и степь, бугор, за которым отары.
— Спасибо, Нина. Прощай. А в Гуляевку, в кино почаще езди.
Нина потупилась, по-мужски пожала нам руки:
— Я часок подожду… Как там у вас.
— Отец велел тебе тотчас возвращаться. Не волнуй старика.
— Я время на обратном пути наверстаю.
Спорить с упрямицей было бесполезно. Мы отправились к вербе, по-прежнему связанные веревкой, на всякий случай. От вербы без особых приключений добрались до ветвистого тамариска, кусты которого походили на гигантские шары перекати-поля, сметенные ветром в низину. Продрались сквозь них в низкие, в рост человека, камыши. Увидели справа от нас, к востоку, желтый песчаный холм в темных пятнах верблюжьей колючки. Отару на северном, дальнем от нас, склоне. Было уже совсем светло. Несколько черно-белых пятнистых собак бродили около всадника на буланой понурой кобыленке.
Я достал из-за пазухи бинокль и присмотрелся к чабану. Мужчина средних лет, по углам рта висят кисточки усов. Судя по описанию дяди Ивана, он-то и мог быть Ахмет-ходжой. Пастух дремал, поперек седла лежало ружье. Нина вывела нас удачно: ветер тянул на нас, и сторожевые псы не чуяли нашего духа, да и далеко мы находились. Поглядел в бинокль и Вася.
— Похоже, он в карауле, — заметил Хабардин. — Землянка, верно, здесь. Вон следы к ней.
Отошли вправо, чтоб получше осмотреть бугор со стороны. Тогда я увидел поодаль стреноженную лошадь, вход в землянку, завешенный кошмой. Труба землянки не дымила, хотя время для чабана не завтракать, а готовиться к обеду. Около входа почти нет следов, снег, которого там было многовато, не истоптан.
— Что ж они не выходят?.. — протянул Вася.
— Пожалуй, их и след простыл. Захватили на хуторе продукты — и айда.
Хабардин кивнул:
— Может быть. Только проверить не мешает. Вот я думаю — уйти нам левее. Мне — подальше, да и пошуметь в тростнике. Собак на себя отвлеку. Если бандиты там — выйдут. Тогда покричу — пусть спасают. Да и вы подоспеете.
— Ты, Вася, учти — собаки сторожевые, не Ивановы.
— А иначе как проверишь? А к спасенному какое же недоверие?
— Пожалуй… — согласился я. План Хабардина был хорош. Если бандиты и ушли, а мне так думалось, то следовало узнать, велика ли доля участия Ахмет-ходжи в делах и замыслах банды. Рассчитывать на его добровольное и скорое признание — дохлый номер. Ошеломить, заставить сразу поверить, что дядя Иван узнал его, — единственный способ развязать ему язык. Тут придется положиться на случай. Прав Вася и в другом: ко всякому спасенному человеку отношение лучше и доверия больше, чем явившемуся как ни в чём не бывало из непроходимой топи. В сознании каждого бандита заложено — преследователь обязан знать дорогу. Значит, сразу подозрений мы у Ахмет-ходжи не вызовем. Вот так.
— Хорошо, Хабардин, давай в камыши. И шуми. Да с умом.
Вася смотал веревку и накинул моток на плечо. Мы сложили в вещмешки гранаты, патроны. Оставили на всякий случай пистолеты за пазухой, которые можно было быстро спрятать под рубахи, и разошлись.
Не спеша, снова проверяя надежность каждого своего шага, Вася обошел по низкорослому тростнику холм.
Меня отделяли от Хабардина метров триста, когда послышался злобный лай. Я видел, псы от отары дружной сворой бросились в сторону камышей.
Из землянки никто не выходил. Будто там ни живой души. Хорошо это или плохо? Может, бандиты затаились?
Я перевел взгляд: следом за собаками трусил к камышам чабан.
Глянул на склон бугра. Из землянки вышел в тулупе внакидку седобородый старик. За ним две женщины. Постояли, ушли внутрь.
Опять посмотрел я в сторону Хабардина.
Мужчина, похожий на Ахмет-ходжу, остановился около зыбуна, слез с лошади, прогнал собак к отаре. С ним остался здоровенный пес. Взяв ружье на изготовку, чабан вошел за собакой в тростниковые заросли.
Из землянки тем временем снова вышла женщина. Старик довольно безучастно глядел в сторону камышей. Женщина что-то сказала и непринужденно рассмеялась, собрала у входа топливо, опять ушла.
Недалеко от меня, в камышах, лаем зашелся пес. Хлопнул пистолетный выстрел. Я не сразу поверил, что слышал выстрел. Очень тихо он прозвучал.
«Ничего тревожного никто из них не приметил», — решил я и кинулся к Васе.
Я почти бежал, беспокоясь за Хабардина. И он, и чабан, похожий на Ахмет-ходжу, были вооружены. Я видел — сторожевой пес бросился в тростник, слышал глухой выстрел.
Нашел я их по голосам. Оба кричали друг на друга достаточно громко.
— Я бухгалтер, а ты на меня собаку напустил, — ругался Вася.
— Откуда чабану знать, кто в камышах.
— Какой ты чабан? — не унимался Вася. — Як Ахмет-ходже иду. Мне в Гуляевке сказали — тут Ахмет-ходжа пасет отару.
— Так я и есть Ахмет-ходжа.
— Мне сказали, он почтенный человек, а ты трус. Не разобравшись, собаками травишь.
Услыхав мои шаги, Ахмет-ходжа насторожился:
— Кто там ещё?
— Свои, — сказал уже спокойно Вася. — Ищешь-ищешь тебя, а ты с собаками встречаешь.
Хабардин готовил Ахмет-ходжу к вопросам о Аргынбаевых, явно намекая, что мы идём к ним, знаем о его связях с бандитами.
— Когда Аргынбаевы ушли? — спросил я, подойдя сбоку к Ахмет-ходже из камышей. Спросил запросто, как о вещи, которую он обязан знать.
— Неделю назад.
— Где они сейчас?
— Сказали, пойдут в Тасаральский рыбтрест.
— Сказали или пошли?
— Где они сейчас, мой двоюродный брат знает.
— А он где?
— В Бурылбайтальском рыбтресте. Сторожем работает.
Ахмет-ходжа отвечал на вопросы не задумываясь.
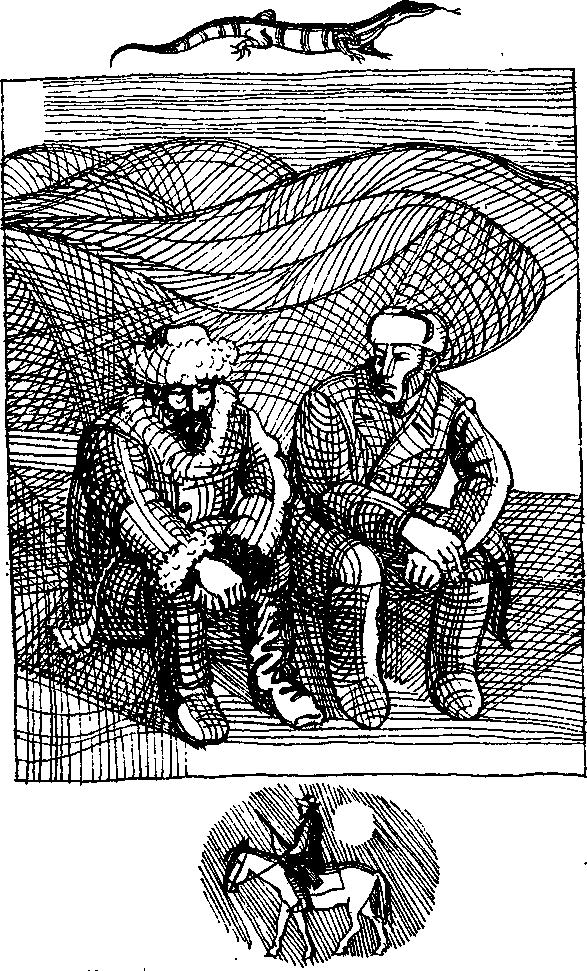 |
— Отправишься с нами.
— Что вы ко мне пристали? Ничего я не знаю! — Ахмет-ходжа глядел на нас оторопело, сам, наверное, не понимая, что уже всё сказал.
— Ты лучше не шуми, Ахмет-ходжа, — посоветовал ему Вася.
— Кто вы такие?
— Ты кого к дяде Ивану водил?
— А-а… НКВД… Увидят НКВД со мной — совсем плохо будет Ивану.
— Кто увидит? — поинтересовался я.
— Кто б ни увидел, — бодрился Ахмет-ходжа, да глаза выдавали его страх.
— Никто не увидит. Пропал ты, — сказал Вася.
— Как пропал? А овцы?
Вася махнул на него рукой, обращаясь ко мне:
— Его пёс-живодер чуть глотку мне не перегрыз. Я ему вещмешок вместо приманки кинул, потом пристрелил. И к этому сзади подобрался, обезоружил. Пальто жаль. Я в собаку через полу и карман стрелял. Чтоб потише. Так я за мешком пойду.
Я кивнул и обратился к Ахмет-ходже:
— Абджалбек с ними?
— Старая лиса ушла. Ему нужны были деньги. Вот и велел вести к дяде Ивану. У того много. Мог я не пойти? Ты Абджалбека не знаешь. Его не послушаться нельзя. Убьет.
«Трус ты, Ахмет-ходжа, — думал я. — С нами тоже по трусости пойдешь. И за лошадьми сходишь. Нас ты больше Абджалбека боишься».
— Давно ты Абджалбека знаешь?
— Он ко мне от двоюродного брата пришел.
— А Исмагула и Кадыркула?
— Их и Абджалбек, сам говорил, только в люльке видел. Он был богатым торговцем. После революции за границу бежал. Во время восстания пришел обратно, да не успел. Бедняки ушли от Аргынбаева. Его и разбили. Попался и Абджалбек.
То, что говорил Ахмет-ходжа, было известно. А вот то, что Исмагула и Кадыркула дядя только в люльке видел, новость.
Вернулся из камышей Вася.
— Пошли? — спросил он. — Не показываться же нам в землянке.
— Придется рисковать. Лошадей надо взять.
— А если Аргынбаевы придут? Узнают, увезли Ахмет-ходжу… Вдогонку нам пустятся?
— Вот я и говорю: придется рисковать. Ахмет-ходжа в землянке никому не скажет, кто мы. Он дорожит своей жизнью. Если нас Аргынбаевы догонят, примем бой. Но и Ахмет-ходже несдобровать. Ты всё понял?
Ахмет-ходжа закивал:
— Хорошо понял: брата двоюродного покажу. Исмагула и Кадыркула покажу.
Мы пошли в землянку к чабану и сакманщицам, объяснили, что Ахмет-ходжа едет с нами в Гуляевку. Пока им придется посмотреть за отарами.
Они молчали, закусив зубами концы головных платков. Поверили нам — нет ли, не знаю. Но обеих лошадей мы взяли с собой.
Ехали мы три дня, объезжая по краю болота песчаные бугры, похожие как две капли воды один на другой, с пологими подъемами из светлого песка, обращенными в сторону господствующего северо-восточного ветра, и крутыми обрывами, кое-где сохранившими очертания полумесяца с подветренных сторон. Бугры поросли кустами колючки. Пожалуй, только по рисунку, который образовывали эти темные шары и шарики, можно было разобраться, что перед тобой новый бугор, а не прежний. Кружиться-то можно сколько угодно.
Ахмет-ходжа был тих и покорен. Я посматривал на него искоса и думал: «Очень хорошо. Фотография — одно дело, а живой свидетель — куда лучше».
Мы остановились, когда вдали увидели туманную россыпь огней Гуляевки.
Хабардина я послал вперед, чтоб он заехал к оперуполномоченному, старшему лейтенанту, а если его не окажется дома, то в милицию.
А я с Ахмет-ходжой остался в степи. Устроились за бугром, спрятавшись от пронизывающего ветра. Лошади фыркали и звенели снятыми удилами, чувствуя близость жилья и не понимая, очевидно, почему путники остановились на въезде. Ахмет-ходжа, запахнувшись в тулуп, прилег на песок.
— Что же теперь со мной будет? — спросил он.
— С нами поедешь в Бурылбайтал. И как поведешь себя, то и будет.
— Если вы их всех не поймаете, они убьют меня…
— Скажи, Ахмет-ходжа, почему Аргынбаевы не остались в Бурылбайтальском рабочем отряде, а подались в Тасаральский? Не медом же там кормят?
— Начальник чакчаган… Плохой начальник.
— Спесивый, говоришь? Зачем же им нужен плохой начальник?
— У хорошего чабана барана за деньги не уведешь, а спесивый за лишний поклон отдаст.
— Откуда знаешь, что в Тасаральском рыбтресте такой начальник?
— Люди говорят…
— Что говорят?
— Говорят, он всё кабинет свой перестраивает, чтоб больше стульев поместилось. Чем больше стульев в кабинете, тем крупней начальник.
— Кто ж на них сидит?
— Никто не сидит… А кого он к себе допустит, тот робеть должен: какой уважаемый, какой солидный начальник, столько людей его слушают.
— А в Бурылбайтале не такой?
— Тот и в землянке будет, а человека не обидит.
— Не понимаю я тебя, Ахмет-ходжа, зачем же бандитам у тасаральского начальника прятаться? — спросил я, а сам мысленно пересчитал стулья в своем кабинете — пять, по числу работников отдела, и два кресла у приставного стола… Задал мне Ахмет-ходжа сена для размышлений.
— Орозов каждого в своей дивизии человека, каждого в своем табуне коня, каждого верблюда, стук каждого мотобота рыбтреста различает. А тасаральского и по фамилии никто не называет.
— А как же его кличут?
— Пузырем. У него щеки из-за ушей видно.
— Как же ты повел бандитов к дяде Ивану?
— Шелудивому псу и тому ещё один день прожить хочется, — вздохнул Ахмет-ходжа.
— Что ж, этот Пузырь знать не знает, что у него под носом делается?
— Некогда.
— Некогда?
— Он доклады да приказы пишет.
— Кому же он доклады читает?
— Наверно, тому, у кого стульев в кабинете побольше, чем у него.
— А приказы?
— Он их не читает, только подписывает. А на бумаге люди, что стулья, одинаковы… Что Маметбаев, что Аргынбаев, что Нурпеисов — стулья: поставить туда, поставить сюда. Крутой начальник Пузырь. На него только с затылка и смотрят: прошел в кабинет, в машину прошел. Я говорю, лишь щеки из-за ушей и видно. Он думает — командует! Нет! Им кто хочешь командует. У такого начальника темный человек, как под бородой у аллаха.
«О, аллах, — с горькой усмешкой подумал я. — О, аллах, пусть скорей наступит время, когда люди не будут покупать ещё один день, час, минуту, мгновенье жизни предательством, отступничеством, низостью, подлостью за счет себе подобных. Чтоб тебе, всемилостивейший и всемогущий, как на камнях, спалось на райских подушках за создание такого страшного мира, который мы всё-таки переделаем!»
Язык у меня не поворачивался назвать Ахмет-ходжу предателем. Его убили бы Аргынбаевы, и непременно, если бы он не повел их на Иванов хутор. И смерть Ахмет-ходжи ничего не изменила бы в поведении бандитов.
«Что ж получается, товарищ подполковник? — остановил я себя. — И теперь Ахмет-ходжа из страха идет с тобой против тех же Аргынбаевых, кому он служил тоже из страха. А его совесть где?»
— Не везет Аргынбаевым… — тихо проговорил Ахмет-ходжа. — Прекратится их род, как ни старалась спрятать детей Батмакан. Бедная Батмакан.
— Мы преследуем не Аргынбаевых. Мы преследуем преступников, какое бы имя они ни носили.
— Яблочко от яблони недалеко падает, — гмыкнул Ахмет-ходжа. — Кровь — не вода.
— Не верю я в это. Не принадлежность к роду определяет судьбу человека. Другое дело, что вобьют ему в голову. Главное — какими глазами он сам видит мир. Не захочет думать — поплетется за обычаем, как баран за козлом. А если у него на плечах не пустой кувшин, то пойдет не с родом, а с народом.
— Ты знаешь таких? А? Знаешь?
— Конечно! Когда мы боролись с бандами басмачей, вместе со мной в отряде служил внук ханши Курманджан-дахта. Не чета Аргынбаевым по рождению. Отличный джигит. Батыров Турэ. Не раз мы рисковали жизнью друг за друга. Будь Исмагул и Кадыркул хорошими людьми, не выступай они против народа с оружием, кто посмел бы произнести о них дурное слово? Не-ет! Та кровь, о которой ты говоришь, — стоячая вода!
Ахмет-ходжа плотнее завернулся в тулуп и затих, будто уснул.
За полночь поредела россыпь желтых огоньков в стороне Гуляевки. Осталось лишь несколько, что светились попарно, будто глаза зверья.
Я очень продрог, и, сколько ни прыгал, колотя валенками один о другой, мороз ледяными иглами пронзал ноги в мокрых портянках. И эти тонкие иглы были так пронзительны, что доставали до сердца — я чувствовал, как оно ежилось.
Да костра-то нельзя разжечь!
Наконец прибыли Хабардин и старший лейтенант на верблюдах.
Мы попросили его сообщить в колхоз, что заболел Ахмет-ходжа и нужно срочно послать к сакманщицам нового чабана: этой ночью и весь следующий день внимательно следить, кто отправится к Балхашу, через пустыню Саксаулдала; желательно никого не пропустить, задержать, хотя бы на сутки.
Я хорошо растер спиртом ноги. Когда разворачивал с треском смерзшиеся портянки, Ахмет-ходжа сел испуганно, а потом, поцокав языком, предложил подрезать полы тулупа, чтоб смастерить чуни, а не совать ноги в ледяные валенки.
— Опоздал, — усмехнулся старший лейтенант. — Я суконные портянки привез. Обойдемся.
— Я не подлащивался… — вздохнул Ахмет-ходжа. — Не до этого мне.
— Товарищ подполковник, может, кружным путем дозвониться до Бурылбайтальской рабочей дивизии?..
— Запрещаю, товарищ старший оперуполномоченный!
Поели горячего мяса, попили горячей шурпы — бульона. Хабардин в кастрюльке, завернутой в кошму, привез. Как-то пободрей, повеселей стало. Я сел на лошадь, а Хабардин и Ахмет-ходжа на верблюдов и, простившись со старшим лейтенантом, двинулись в пески Саксаулдала, точно держа курс на будущую зарю, которая должна была расцвести ещё только через несколько часов.
Согревшись, я вздремнул в седле. И уж верно после разговора о чистоте рода и силе родственной крови приснилась мне старуха Батмакан. Только видел я её не такой ласковой, какой она была наяву. Предстала она в воображении тщедушной и горбатой с блестящими медными когтями и медным носом, позеленевшим от злости. Она скакала подле меня, обнажая гнилые клыки в запавшем рту, пришептывая: «Отдай кровь! Отдай сердце!» Эта сказочная Джез-кемпир, или баба-яга, тянулась и никак почему-то не могла дотянуться до моей груди отточенными, как пики, когтями.
Очнувшись, я сплюнул:
— Чертовщина какая-то…
— В чём дело? — спросил Вася.
Рассмеявшись, я пересказал сон.
Ахмет-ходжа высунул красный нос из ворота тулупа:
— На таком морозе гурии рая не привидятся.
Перевалило за полдень, стало вечереть, а мы ехали и ехали. Ещё и ещё день.
Посыпался густой крупный снег, и сразу потеплело, стих пронзительный ветер. Всё скрылось, и лишь в глухой тиши казалось, будто слышится мягкий шорох вяло опускавшихся хлопьев. Время остановилось, пропал его смысл, а следовало спешить. Но и гнать нельзя — животные устанут.
Так было всю ночь; мы словно не двинулись с места, потому что движение меж летящего снега не ощущалось. Когда рассвело, снегопад прекратился, тучи исчезли, точно просыпались на землю без остатка. А они на самом деле зависли над горизонтом, словно горы, затягивая восход солнца. Над нашими головами простиралось в самой выси непомерно огромное облако, похожее на белую шкурку каракуля — тугой виток к тугому витку. Его солнце подсвечивало внизу. Наблюдать такое было странно и очень приятно.
По чуротам стояли саксауловые рощи, серые, без тени на снегу, лохматые, корявые и сквозные. Мы видели, как поднимается из сугроба и ближнее и самое далекое дерево, каждое в отдельности, само по себе. В тот бессолнечный и ослепительный, скорее слепящий день нервные, измученные деревья выглядели красивыми, замершими в своем безмолвном страдании.
На опушках попадались песчаные акации. Они изящно, совсем, как березы, опускали долу прозрачные нежно-фиолетовые пряди длинных ветвей, концы которых утопали в сугробах. Ветвистые кусты тамариска принакрылись снежными папахами. Мелкие шары колючек щеголяли в белых тюбетейках.
Верблюды, очевидно, чувствовали себя нашими хозяевами в прекрасном замершем мире. Они гордо несли свои головы, украшенные рыжими чубами. Толстогубые морды их выражали спокойствие и удовлетворение. Они знали всё и ступали, не глядя под ноги, с торжественной церемонностью владык.
А потом рощи остались позади. Мы поднялись то ли на плато, то ли на горы, разделяющие бассейны рек Чу и Или. Свистящий ветер с далекого Балхаша, скрытого за снежными увалами, начал сечь лицо. Наш путь запетлял меж буграми, и верблюды старались укрыться от пронизывающих порывов. На зубах заскрипела песчаная пыль, и сохла глотка. Слепящее солнце било сбоку, выжимая слезы. Яркое небо и желтый песок четко обозначили линию горизонта.
На этой черте мы увидели идущих чередой пятерых верблюдов. Мы поторопили своих и скоро догнали караван, груженный войлоками и деревянным остовом юрты.
Лучше бы не догоняли этот караван!
Неделю назад банда Аргынбаевых напала на табун племенных лошадей Бурылбайтальского рабочего отряда. Табунщики отчаянно сопротивлялись, но тщетно. Бандиты наскочили ночью, обезоружили, убили и надругались над трупами четырех коммунистов и двух комсомольцев, которым были доверены двадцать девять английских жеребцов. Их увели.
Со времен страшных казней басмачей не доводилось мне видеть таких диких изуверств над людьми.
На руках одного из сопровождавших караван сидел десятилетний ослепленный мальчик-подпасок. Он сказал, что ему выкололи кинжалом глаза уже после того, как изуродовали старших.
Ахмет-ходжа прятал лицо в ворот тулупа, не глядел в сторону мальчика. Есть люди, которые не прочь помочь бандитам, чтоб спасти себя. Но как боятся тогда они видеть невинные жертвы злодеев, тех, которых они спасли, пусть и поневоле.
Только поздним вечером добрались мы до Бурылбайтала, будто приплюснутого ветрами и сугробами поселка на берегу Балхаша.
В первом же бараке мы спросили, где расположен штаб, и отправились туда. Часовой вышел из будки и остановил нас у шлагбаума. Я предъявил удостоверение НКВД.
Солдат посветил фонариком на фотографию в документе, на мое обросшее лицо с красными, воспаленными, иссеченными песком глазами. Право, я хорошо представлял себе, как выгляжу.
— Товарищ подполковник, я должен вызвать начальника караула, — и взялся за телефон. Свет непогашенного фонарика упал на мои ноги — валенки разбились, из дыры в носке торчала портянка. Попробовал одернуть заскорузлое от грязи, заледенелое пальто, понял — бессмысленно. Хабардин выглядел не лучше. Рядом с Ахмет-ходжой, в тулупе и ичигах, мы походили на бродяг-оборванцев.
Взвизгнула промерзшая дверь дежурки, к посту шел караульный начальник: одна нога в валенке, другая в ботинке на протезе. Подошедший капитан, бледный такой казах, посмотрел документы, оглядел нас с головы до ног:
— Слушаю вас, товарищ подполковник.
— Мне нужен командир отряда.
— Пройдемте в караульное помещение. Время позднее, постараюсь поскорее вызвать его из дома. А этот гражданин с вами? — капитан кивнул на Ахмет-ходжу.
— С нами, — кивнул я.
Приятно говорить со строевым офицером: он сразу понял ситуацию и то, что Ахмет-ходжа задержанный, и не задал ни единого лишнего вопроса.
Войдя в жарко натопленную караулку с мороза, мы долго кашляли, до слез, до дурноты. Помороженные лица разгасились, глаза слипались и болели, нас разморило. Капитан, разговаривая по телефону, тоже кашлял, да по-иному, верно, у него не только была ампутирована нога, но и пробито легкое.
— Командир сейчас будет, товарищ подполковник.
— Спасибо, капитан. Где воевали?
— Вы про это? — Он шевельнул ногой в легком ботинке. — На Курской дуге. Я в артиллерии служил. Командовал батареей. Два дня все хорошо шло. А вот на третий, при отражении атаки танков, меня и починили…
— И легкое пробито?
— То ерунда… — отмахнулся капитан. — Вот нога…
Хотел я сказать, мол, с ногой уж ничего не поделаешь, а вот климат здешний для его легкого вреден, но тут вошел командир отряда, кряжистый такой казах, лет за пятьдесят, представился:
— Орозов. — Он взял у меня из рук документы, бросил взгляд на фотографию в удостоверении, на меня, снова сличил. — Слушаю вас.
— Нам нужно поговорить. В контору можно с вами пройти?
В кабинете три стула, телефон и печка железная, холод — что на улице.
— Подождите, я печку затоплю.
— Можно это сделать через пять минут?
— Конечно!
— Мы ищем банду Аргынбаевых.
— Я сам её ищу! — вспыхнул Орозов. — Они у меня шестерых убили, четырех коммунистов, двух комсомольцев! Они двадцать девять племенных английских жеребцов угнали. Сожрали, скоты!
— Поспокойнее, товарищ Орозов…
— Слушаю, — сцепив пальцы рук так, что костяшки побелели, Орозов уставился в пол.
— Работает в вашем отряде…
Орозов поднял гневный взгляд.
— Спокойнее, спокойнее… Работает в вашем отряде охранник на складе копченой рыбы, Ибрай его зовут?
— Знаю старика. Он ещё при царе Горохе здесь работал.
— Так вот, этот старик точно знает, где сейчас банда Аргынбаевых, знает, что Аргынбаевы намерены делать.
— Шайтан побери этого аксакала! Сейчас мы его…
— Подождите, подождите! Вызвать старика надо осторожно, подменить на дежурстве — и украдкой сюда.
— Не привык я от своих скрываться… — пробормотал Орозов, но, посмотрев на меня, на мою одежду бродяги-оборванца, гмыкнул: — Извините, я не хотел вас обидеть…
— Дальше слушайте… Моего товарища, Хабардина, вместе с человеком в тулупе, посадите в смежную комнату. Стены тут фанерные — они наш разговор с Ибраем услышат.
— Так надо?
— Так надо.
— А что же Ибраю-то сказать?
— Ревизия приехала, бумаги спрашивает.
— И то, действительно, ревизуют нас чуть не каждый день. Сосед у нас беспокойный — всё пишет, пишет на нас. И то мы не так делаем, и то не так храним, и тут-то у нас убытки… А… Я говорю майору, ну, командиру тасаральскому, приезжай, посмотри. Ведь ни разу не был! А пишет!
— Вы за Ибраем пошлите, товарищ Орозов…
Орозов сорвал телефонную трубку и, успокоившись, приказал капитану съездить на склад, подменить Ибрая и привезти в штаб, мол, ревизоры требуют, с бумагами. Потом Орозов стал растапливать железную печурку, а я сходил за Хабардиным и Ахмет-ходжой и поместил их в смежную комнату.
Ибрай, высокий сутулый старик с холеной бородой, вошел в кабинет степенно, вежливо поклонился, положил на стол принесенные документы. В комнате вкусно запахло копченой рыбой, и я почувствовал, что давно бы пора поесть. Сидя у открытой дверцы печурки, я полуобернулся к Ибраю и спросил:
— Скажите, пожалуйста, где сейчас находятся Исмагул и Кадыркул Аргынбаевы?
Глядя на командира дивизии, а не на меня, Ибрай ответил:
— Не знаю я, где Исмагул и Кадыркул Аргынбаевы. В тридцать первом году куда-то скрылись, сбежали… Больше ничего не знаю. Нет у меня известий… Ничего не знаю.
— Вы с ними недавно виделись!
— Кто мог так сказать? Вранье! — старик вскинул бороду. — Клевета! Клевещет кто-то!
Тут из соседней комнаты выскочил Ахмет-ходжа:
— Врешь! Ты врешь! Я им всё рассказал! Правду сказал! Ты знаешь, где они!
— А-а-а… — протянул старик, искоса глянув на Ахмет-ходжу. Он спрятал руки в рукава халата и, набычившись, уперся бородой в грудь. — Ты, значит… Уж всё сказал…
— Сказал! Правду сказал!
— Всё?
— Все!!!
— Идем, — и Хабардин тронул Ахмет-ходжу за плечо. Они вышли.
А старик Ибрай сел, долго и пристально смотрел на меня, поцокал языком, головой покачал:
— Опоздал ты, начальник, пожалуй…
— Что?! — вскипел Орозов.
Но Ибрай не обращал теперь на него внимания.
Я продолжал греть руки у огня, хоть сердце у меня екнуло громко, мне показалось, словно селезенка у лошади; сказал совсем тихо, спокойно:
— Опоздал я или не опоздал, не вам, гражданин, судить… Где они?
— В Тасаральском рыбтресте… У бригадира Наубанова Таукэ… У брата жены Аргынбаева-старшего… Наубанов Таукэ и до войны работал в Тасаральском рыбтресте… На войну пошел, без руки вернулся… Опять бригадиром стал… Верят ему… Он кандидат партии… На фронте, говорит, вступал… Вот он, Наубанов Таукэ, и достал им справки, чтоб паспорта получить… Племянники его, Наубанова Таукэ, в Караганду людей послали. За паспортами… Должны… те люди уже вернуться… Вчера!
Ибрай говорил очень-очень медленно — жилы из меня тянул. А я грел руки у огня, слушал его; не заметил, как костяшкой к дверце прислонился, увидел только, когда содрал ожоговый пузырь.
— Вчера! Вче-е-ра-а… — протянул Ибрай.
— Врешь! — не сдержался Орозов.
— Не-ет, начальник, — по-прежнему обращаясь ко мне, протянул Ибрай.
— Спросим… К семье Наубанов вернулся?
— Вернулся.
— И сколько у него детей?
— Пятеро.
— И он руку на фронте потерял?
— По локоть. Да вы сами, сами у него спросите!
— Спросим, — не сдержался я.
— Спроси, спроси, начальник. Наубанов Таукэ у меня на квартире спит.
Я рассмеялся, и мне стоило больших усилий остановить свой хохот. Хохот, который мне самому очень не понравился: сдавали нервы после двухмесячного преследования.
Справившись с собственным смехом, я протянул в тон Ибраю:
— И спро-осим… Товарищ Орозов, прикажите капитану доставить сюда Наубанова Таукэ…
Когда капитан ушел, я полуобернулся к Ибраю:
— Раз я опоздал, скажите, гражданин, куда ж братья Аргынбаевы со своей бандой направились?
— В Синцзян…
— Дорога известная… Старая басмаческая дорога, — усмехнулся я. — Значит, сейчас они, если ушли, то идут по пескам Сары-Ишикотрау, а может быть, по долине Или, скрываясь в тугаях. К Аягузскому перевалу направляются…
Мы смотрели друг на друга, нагло улыбались и кивали понимающе.
— Чтоб найти их, тебе аэроплан нужен, начальник, — Ибрай попытался раздвинуть в улыбке губы, сведенные страхом и злобой.
— Есть самолет! — хлопнул ладонью по столу Орозов. — Он вас…
Я поднял руку:
— Подождите, товарищ Орозов. Видите, аксакал забавляется.
— Как это забавляется?
— Да так… Либо Таукэ и на фронте не был и руку не терял…
Орозов перебил:
— Знаю я однорукого Таукэ!
— …либо не ушли никуда Аргынбаевы! Может быть, пока… ещё…
Дверь отворилась. На пороге стоял наспех одетый человек в полушубке, чуть бледный, с быстрым взволнованным взглядом.
— Что стряслось, Ибрай-ака?
Тот отвернулся.
Я встал, властно приказал:
— Наубанов, подойдите!
Таукэ сделал три четких шага ко мне:
— Не оборачивайся! — и Орозову, кивнув на Ибрая. — Увести гражданина в отдельную комнату. Пусть капитан неотлучно находится при нём. И чтоб ни с кем ни слова! Увести!
Когда мое приказание было выполнено, я сказал Таукэ:
— Садись. Ты брат жены Аргынбаева?
— Да.
— Ты достал племянникам справки для получения паспортов?
— Да. Они с фронта вернулись. Справки у них из госпиталя. Под Сталинградом ещё воевали. Контузии.
— Остальные пятнадцать — тоже из-под Сталинграда?
— Не-ет… Из разных мест. Все со справками — на излечении. На поправке. Временная работа. Рыба, хлеб — сыты. Хорошо поправлялись.
— Женщины с ними есть? — это был мой первый вопрос.
— Две.
— Одна или обе врачи?
— Одна врач, другая медсестра.
Не выдержали у меня нервы:
— Ты бригадир рыбаков или бригадир бандитов?
— Не понимаю… Зачем кричать? Почему надо кричать?
— У вас под носом делались эти справки! Когда должны вернуться люди с паспортами? Те, что в Караганду ездили…
— Вчера. Но не приехали.
— Вы уверены? А почему Ибрай говорит — приехали?
— Нет. Хотели приехать. Их два дня назад в Караганде ещё видели. Люди сегодня с поездом приехали — они их не встречали.
— Пойми, Таукэ, ты пустил к себе в дом бандитов. Они убили шестерых в Бурылбайтале, троих в Киргизии…
— Мои племянники не могли меня так обмануть.
— Где люди, которые поехали за паспортами?
— В Караганде, утренним поездом приедут. Мои племянники не могли меня обмануть — они честные люди.
— Сколько паспортов они получат?
— Два.
— Не на всех?
— Нет. Только два.
— А Ибрай говорит — на всех. Кто подписывал справки на получение паспортов?
— Командир.
— Он беседовал с Аргынбаевыми?
— Что вы! С кем беседует командир? Некогда ему. Я отнес справки секретарше. Она сказала — через неделю приходи. Он подписал, секретарша отдала.
«Конечно, конечно, бумага о том, что Исмагул и Кадыркул Аргынбаевы разыскиваются, подшита секретаршей в папку с грифом «Секретно», и командир, вечно пишущий фанфарон со щеками, которые видно из-за ушей, может, и расписался в прочтении, только не читал ничего!» — с горечью подумал я.
— Хабардин!
Вася вошел вместе с Ахмет-ходжой.
— Ахмет-ходжа, ты дважды водил банду Исмагула и Кадыркула грабить Иванов хутор?
— Да.
— Они убили здесь, в Бурылбайтале, шестерых — коммунистов и комсомольцев и угнали двадцать девять английских жеребцов-производителей?
— Они, начальник…
Наубанов потряс вскинутой рукой-культяпкой и крикнул:
— Мои племянники не могли мне наврать!
Ахмет-ходжа проговорил тихо:
— Я им дальний родственник, ты — близкий со стороны матери. Клянусь, я правду сказал.
— Сам убью их! — культяпка правой руки Таукэ странно зашевелилась: я догадался — он забыл об ампутированной руке и в запальчивости привычно искал пистолет, словно обманувшие его племянники стояли перед ним.
Тогда сказал я:
— Ни кулаком, ни палкой ты их не тронешь, Наубанов Таукэ. Как их наказать, решит суд. Ты едешь с нами, Наубанов. И Ахмет-ходжа тоже.
Понятно, я рисковал, может, по мнению некоторых моих товарищей, ненужно рисковал, высказывались потом такие суждения при разборе операции. Двух человек, каждый из которых был в той или иной степени замешан в деле Аргынбаевых, включить в группу по задержанию — опрометчивость, если не безрассудство. Любой из них мог стать на сторону банды. Ну а как иначе можно было проверить и совесть Ахмет-ходжи, и честность Наубанова? При встрече с бандитами Исмагул и Кадыркул непременно обвинят в предательстве и чабана, и Таукэ, если те добровольно, с охотой выполняли их требования или просьбы, предложения.
И только если бандиты под угрозой расправы заставили Ахмет-ходжу вести их на Иванов хутор, если Таукэ действительно ничего не знал о планах и обмане племянников, то тогда никто из банды не бросит им упрека. Я повторяю — никто из банды, никто из семнадцати бандитов-дезертиров, прекрасно знавших, на что шли, и наказание для них одно по законам военного времени — высшая мера. Я не знал, не слышал, и по моему твердому убеждению, нет бандита, грабителя, даже просто — подлеца, который из каких-то — человеческих, что ли, — соображений не повлёк за собой в яму своих дружков-соучастников. Это противоестественно, чтоб подлость и убийство ни в чём не повинных людей вдруг толкнули бандита на благородный поступок.
Только взяв с собой Наубанова и Ахмет-ходжу, я имел возможность на деле проверить их причастность к банде Аргынбаевых или отмести от обманутого и принужденного какие бы то ни было подозрения. Стоило ради этого рисковать? По-моему, да.
Я позвонил в Алма-Ату, в НКВД республики. Был очень расстроен разговором. Но даже Васе ничего не сказал.
Нам принесли постели в кабинет. Я повалился на подстилку, как в омут. И проснулся оттого, что Вася тер мне уши, стараясь разбудить. В исподнем выскочил в темноте ещё из барака и до пояса обтерся снегом на леденящем ветру. Лишь тогда почувствовал себя бодрым. Мы поели копченого усача, жирного, прозрачного и вкусного, напились до отвалу крепкого чая в караулке.
Пришел Орозов:
— Самолет ждет.
— Далеко до аэродрома, да и откуда у вас самолет?
— Сани мы зовем «самолетом»! — улыбнулся командир. — Мы их сами сконструировали и сделали из дюраля. Да вы не хмурьтесь, товарищ подполковник, сани, право, самолет. Пара лошадей развивают скорость до семидесяти километров в час. Кучером у вас будет капитан-артиллерист, серьезный лошадник. Он никого к вороным не подпускает. Я думаю, он вас за два с половиной часа в Тасарал по льду домчит.
Спорить не приходилось.
— Хорошо, что с нами поедет капитан-артиллерист…
— Пока вы не позвоните, не скажете, как дальше поступать с Ибраем, он ни с кем слова не перемолвит. Можете не беспокоиться.
По глазам Орозова я видел, ему очень хотелось знать, каким образом мы станем брать бандитов, и только профессиональная этика военного удерживает его от вопроса.
— Вы, товарищ подполковник, не беспокойтесь, — повторил Орозов. — Этот Ибрай ни словом ни с кем не перемолвится. Я ручаюсь. Тулупы вам дать?
— Мешать будут.
— Капитан, мы успеем к поезду? — спросил Таукэ.
— Он во сколько приходит?
— Девять тридцать семь в Тасарале. По расписанию.
— Постараемся… — кивнул капитан.
Времени оставалось в обрез.
У дверей караулки стояло странное сооружение, действительно похожее на самолет братьев Райт, без крыльев вдобавок. Два широких, матово поблескивающих полоза, скрепленных двумя дугами, тоже из дюраля и пять сиденьиц-жёрдочек. Но пара вороных была выше изумления. Тысячи коней я перевидал в своей жизни, до и после них, но таких мне больше не встречалось.
— Элита! — сказал капитан-артиллерист. — Иноходцы!
Кони стояли, словно литые, на высоких особых подковках-шипах. Вороные косили глазами на нас, и радужный, огненный в свете зари пар вырывался из их ноздрей.
Мы разместились позади и чуть повыше молчаливого, потемневшего лицом Таукэ и Ахмет-ходжи в его непомерном тулупе.
— Жду вашего звонка, подполковник, — сказал Орозов, и мы тронулись. Я даже не заметил, шевельнул ли капитан вожжами. Легкий, слитный переборный топот иноходцев был славен. Ошметки снега полетели нам в лица. Пришлось, прикрывшись воротниками, смотреть только в бок, отчего ощущение полета стало почти реальным. Но это только начало. Спустившись на серый лед, капитан пустил коней во весь опор.
Я сидел слева и видел высокие обрывистые берега, изрезанные бухточками и заливами. Обнаженные, то желтые, то скалистые, темные, они плыли мимо вроде бы медленно, не спеша, то приближаясь, то удаляясь от нас. Ощущение быстроты движения создавали снежные наметы на льду. На них сани подскакивали, бухали в сугроб с гудящим барабанным звуком. Мы то и дело меняли курс, словно шли галсами под парусами. Особенно широкие полосы снега капитан объезжал. Под ними ледяной покров озера мог истончиться, расплавленный теплыми глубинными водами под шубой сугроба.
Кое-где торчали искристые торосы. К ним мы не приближались.
Северный ветер срывался с береговых откосов, будто с трамплина. Порывы били с маху, и видно было, как в тех местах, где они ударяли о поверхность, завивались призрачные белые буруны и смерчи. Изредка напор летящего воздуха бывал настолько силен, что сдувал сани вбок, и лошадям приходилось скакать в стороне от «самолета». Мы чувствовали себя под ветром раздетыми, нагими, голышами и деревенели.
Вдруг за каким-то острым высоким мысом-утюгом стало тихо. Я попробовал вздохнуть глубже, да сведенные судорогой от холода мышцы не позволяли.
Капитан остановил сани.
— Что случилось? — спросил я, с трудом шевеля онемевшими губами.
— Встречный ветер идет. Боюсь, торошение начнется. Правда, придется жаться к берегу. Можно переждать.
— Мы опоздаем к поезду, капитан, — процедил Таукэ.
— Да, мы опоздаем к поезду… — повторил я.
— Понятно.
И капитан снова пустил коней, держась под берегом.
Первый ледяной взрыв раздался у меня за спиной минут через двадцать. Тягучий гул и тяжкий удар, он ощутился и под нами. Скрежещущий стон слышался во льду и после удара. То был дальний взрыв.
Мы двинулись по самому прочному — береговому льду, покрытому толстым спрессованным настом, уповая на одно: на нашем пути не попадется трещина, скрытая снегом, или промоина.
Ещё несколько взрывов прокатилось над озером, и оно стонало и ныло. Но все это далеко.
— Пронесло! — обернулся капитан. — А вон — Тасарал. За мыском.
По узкой щели мы выехали на высокий берег. Увидели на отлете приземистое здание железнодорожной станции, а у обрыва низкие бараки.
— Стой! — крикнул я капитану.
Кони замерли.
— Наубанов, иди на станцию и встречай тех двоих. Приведешь их к себе на квартиру. В каком они бараке?
— Вон — второй. Дверь обита желтым дерматином. Пятый тамбур.
— Где твои дети и жена?
— В соседнем бараке, у знакомых. В моей квартире одни… они.
— Ты все понял, Наубанов?
— Все, товарищ подполковник. Привести как ни в чем не бывало.
— Давай…
Капитан спросил:
— В штаб?
— Не-ет…
После разговора с Ахмет-ходжой, Орозовым и Наубановым я решил действовать здесь не так, как в Бурылбайтале. Не мог я не верить Ахмет-ходже, Орозову и Наубанову — трем таким разным людям, что с командиром Тасаральского отряда невозможно быстро и толково договориться о совместных действиях. Да и его безответственные подписи под важными документами о выдаче бандитам паспортов не позволяли мне начать операцию разговором с виновным в халатности и головотяпстве — майором, прозванным «Пузырем».
Поверив столь разным людям, я оказался прав. Потом, когда мы уже поймали банду и Вася остался один охранять задержанных, а мне пришлось срочно скакать в штаб, командир охраны пропустил меня беспрепятственно, посмотрев мои документы. Однако очень строгая секретарша, испуганная моим внезапным для неё появлением, истрепанной одеждой, остановила меня: «Майор пишет доклад и никого не принимает». — «У меня очень срочное дело, — сказал я. — Доложите, пожалуйста». Секретарша заглянула в кабинет через двойные двери. «Майор говорит по телефону…»
Прошло минут десять. Я слишком спешил, чтобы ждать. Моих товарищей могло уж не быть в живых, и, возможно, только быстрая военная помощь могла выручить их. А поднимать шум в приемной — выяснять отношения, субординацию, принадлежность к ведомствам, — лишь замедлить срочное решение.
Но ждать я не мог, опять попросил доложить. «Разговаривает по телефону», — поморщилась секретарша, заглядывая мимоходом в зеркальце. Тут вызвали секретаршу в кабинет. Она встала из-за стола. Я проскользнул за ней.
Огромная комната во всю ширину барака была выстлана красными ковровыми дорожками, а по стенам стояло до полусотни новехоньких стульев, на которые, по-видимому, никто никогда не садился. Два письменных стола — один рабочий, другой, верно, представительский, виднелись в глубине кабинета. И два приставных стола отходили от них: от рабочего — покрытый зеленым сукном, а от представительского — красным. «Это надо же, — думал я, — как молва точно оценивает человека!»
Майор сидел за представительским столом и головы не поднял в ответ на мое приветствие. Я прошел к столу. Снова поздоровался, майор — ни гугу. Когда я в третий раз повторил вежливое: «Здравствуйте», — майор вдруг откинулся на спинку кресла: «Поч-чему ты здесь? Кто пустил?» Я протянул ему открытое удостоверение. Но он глядел только на мое обросшее, иссеченное морозом, ветром и песком лицо, замызганное, мокрое пальто. «Кто тебя пустил?! Во-он!» — небрежным жестом выбил из рук мое удостоверение. Тогда я, сдерживаясь, сел в покойное кресло у приставного стола. «Во-он! Забирай бумажку — и вон! Слышал!» — «Поднимите удостоверение…» — сказал я вслух. «Что? Вон! — майор покрыл отборным матом секретаршу и, задыхаясь, кричал: — Начальника караула! Комиссара! Быстро! — и мне: — А ну, подними бумажку!» — «Поднимите сами…» — «Что?» — «Поднимите сами…» — Казалось, майор лопнет от дурной чернильной крови, бросившейся ему в лицо. «Выкиньте оборванца! — приказал майор влетевшему в кабинет начальнику караула. — А тебя — разжалую!» — «Товарищ майор…» — «Молчать! Молчать!»
— …это подполковник НКВД Кошбаев, — нашел в себе силы договорить бледный начальник караула.
— Поч-чему не доложили?.. — прошипел майор, вскакивая, одергивая китель и поднимая удостоверение. — Вы ищете бандитов? Они скрываются в Бурылбайтале… Нашли притон… Извините, заработался! Столько дел, товарищ Кошбаев… Начальник караула будет наказан, вы не беспокойтесь.
Я показал ему поддельные документы с его подписью.
— Вот ваши дела! И подписали сами.
Вся эта сцена произошла в конце операции. А прежде всего следовало задержать или уничтожить банду.
Капитан гнал коней к бараку, который указал нам Наубанов перед тем, как пойти на станцию.
Санки с лихого разворота остановились у двери, обитой желтым дерматином. Окна по обе стороны, точно плотными занавесками, затянуты изнутри и между рамами морозной наледью.
Фыркали, отдуваясь, вороные, переступали с ноги на ногу. Тонкими колокольцами звенели льдинки, налипшие на бабки, на шерсть выше копыт.
— Слушай, Хабардин. Вы останетесь здесь. Я сначала войду один. Если услышите выстрелы, бросайте в окна гранаты.
— А вы?
— Бросайте, не раздумывая! Если услышите выстрелы, меня уже не будет в живых.
Капитан сказал:
— Лучше сразу. Один черт.
— Войдёте… когда я выйду или позову. Не раньше. Всё.
Я опустил поднятый воротник пальто, завязал по городскому уши зимней шапки, потрогал за пазухой теплую рукоятку маузера, дернул дверь тамбура, старательно затопал в холодном коридорчике и, широко распахнув входную дверь, шагнул в морозном облаке внутрь. Пар ещё не рассеялся, а я крикнул:
— Здорово, рыбаки! Бригадир здесь? Здесь Наубанов Таукэ?
Здесь! Здесь Исмагул и Кадыркул! Я чувствовал это. Задним числом припомнил — не натоптано, не наслежено у дверей в барак.
И увидел их. Вон — Исмагул! Прямой, надменный разрез рта. Прижатые уши. Тугие щеки подпирают узко разрезанные и широко расставленные глаза. Тяжелые надбровья. Вон он — сидит на кошме, вытянув раненую ногу. А Кадыркул? Он глядит на меня через плечо. Осторожно, косо, приподняв одну бровь, совсем как на фотографии. Маленькая головка, узкий лоб, словно стиснутый висками.
В руке у него пиала. В левой руке. Правая на перевязи, забинтована.
Но опознание ещё не их собственное признание, что они-то и есть Исмагул и Кадыркул. Еще надо заставить их самих сказать это. Кадыркул? Слишком ловок, чтоб вот так, запросто раскрыться. Исмагул — годится. Надо вызвать на улицу. А нога? Если откажется и пойдет Кадыркул?
Посмотрим, кто у них коноводит в действительности.
Секунда, две ли прошли в молчании. В нос мне ударил крепкий мужской дух, запах подгорающего хлопкового масла, пресного теста, портянок, овчины, засаленных одеял, которые аккуратной сложенной стопой возвышались до потолка в правом от меня углу большой комнаты. Пятнадцать мужчин сидели на кошме в нательном белье. У двух раскаленных до красна печей из бочек две молодые женщины вылавливали шумовками из тазов, наполненных кипящим маслом, золотистые боорсоки — пончики из пресного теста, что напекают впрок на дальнюю дорогу. Ещё пахло бараниной, а рыбой — нет.
Оружия не было видно.
А я искал взглядом именно оружие, да, бандиты, верно, чувствовали себя здесь в полной безопасности.
— Нет бригадира… — сказал молодой мужчина с пиалой в левой руке, потому что правая висела на перевязи. — Кто ты такой?
— Что? Не видно, что я ревизор?
— Нет Наубанова. Завтра приходи.
— Мне по другим бригадам ехать надо. Командир сказал — с вас начинать… А помощник бригадира? Актив?
Мне стало совсем яростно-весело, когда я рядом с Исмагулом, раненным в ногу, увидел Кадыркула, которого ранили в руку при перестрелке в Камышановке, когда братья убили Макэ Оморова, Нехаева и Коломейцева.
— Я за помощника. Чего тебе? — спросил Исмагул и поставил пиалу на кошму.
— Бригадира нет — с тобой поговорить надо…
Кадыркул поудобнее устроил перебитую руку. Сразу после ранения он, видимо, запустил рану, и она долго не заживала.
— Командир разрешил «поговорить»? — с подвохом спросил Кадыркул и взял пиалу, поставленную братом.
— Какой командир? Разве у командира спрашивают… Я к вам, к рыбакам…
— А бригадир ругаться будет…
— Не будет! Нам парочку рыбешек… усачей. Оголодали в городе, а тут холод…
— Спирта нет, — сказал Кадыркул. — А двух усачей копченых дам из кладовки. А ты запиши, что ревизию сделал, и не приставай к нашему бригадиру. На ключи, — и Кадыркул передал Исмагулу связку.
— Зачем же беспокоить хорошего человека? — я радостно взмахнул руками. И было от чего: оба — Исмагул и Кадыркул тут. Правда, нет Абджалбека, младшего брата Аргынбаева. Он-то и ездил с кем-то в Караганду, доставать паспорта. И ещё яснее ясного: Кадыркул, хоть и младший, но верховодит неповоротливым верзилой, тугодумом Исмагулом.
Тут я заметил, что сидящий на краю кошмы, у самых моих ног, молодой парень прячет под себя пистолет.
Только этого не хватало.
— Конечно, не станем мы беспокоить хорошего человека! Добрый человек — редкость! А мы намерзлись. У вас-то тепло, — напрашивался я на чай. — Ах, какие боорсоки.
«Хоть бы пригласили! Хоть бы пригласили! Тогда этот молодой дурень не станет палить сразу. А своих уж как-нибудь предупрежу, — молил я про себя. — Пока-то они разглядят Ахмет-ходжу и что к чему сообразят…»
— Сколько вас? — спросил Кадыркул, пока Исмагул, кряхтя, поднимался, брал из вороха одежды чей-то тулуп, накидывал.
— Сколько нас?! — всё так же весело говорил я. — Сам четвертый, один без ноги, двое убогих. Кого ж теперь в ревизии посылают?
— Пусть заходят чай пить. К нам с добром — и мы не отстанем.
— Рахмет! Рахмет! — рассыпался я в благодарностях. — Что нам стоит подписать бумажку. Она не рыба, её ловить не нужно, — продолжал я льстиво бормотать, пропуская в дверь Исмагула.
Мы вышли из тамбура. Исмагул остановился было, увидев сани. Вежливо подталкивая его, я бросил своим товарищам:
— Идите чай пить! Да осторожнее, осторожнее, не толпитесь в дверях! Холоду напустите! Там у входа парень молодой — простудится. Ах, какие боорсоки! — и Исмагулу: — Ты, уважаемый, рыбку пожирнее выбери, — а сам доставал из-за пришитого козырька ушанки фотографию братьев, взятую у их воспитательницы; они на ней как раз втроем. — Не скупись, уважаемый… — И лишь мы свернули за угол барака в затишье: — Стой, Аргынбаев Исмагул!
Когда он обернулся, перед его глазами была фотография и дуло маузера.
— Какой я Аргын… — начал он и замолк.
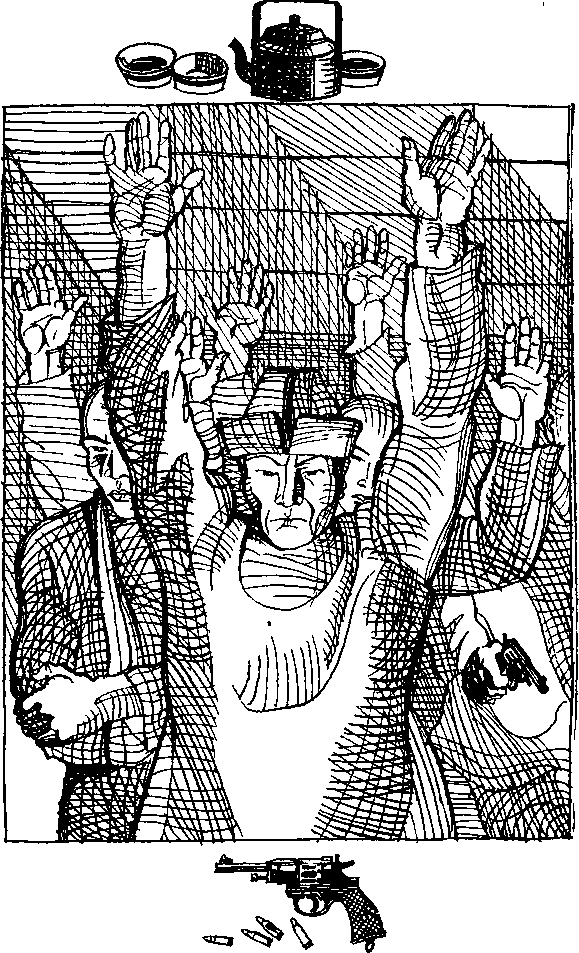 |
— Руки! Руки вверх! Аргынбаев Исмагул… Лишнее движение — я твой череп на воздух пущу! Разве на фотографии не ты, не твой брат Кадыркул и твоя троюродная тетка? Разве не тебя и не Кадыркула ранили в тугаях в Камышановке?
Исмагул мычал, будто немой, и всё глядел на фотографию, не понимая, наверное, каким чудом она оказалась у меня. А я очень беспокоился за товарищей — за Васю, за капитана и не знал, что предпримет Ахмет-ходжа.
— Сейчас мы возвратимся, — сказал я. — Помни, в моем маузере десять патронов. В тебя, в первого, я не промахнусь. Иди, иди… И в остальных тоже, а Кадыркула пощажу. Он главный и расскажет всё. Иди!.. Иди. И помни, твое лишнее движение — я стреляю.
Чтоб властвовать, их надо было разделить. Старший брат — Исмагул не мог простить младшему — Кадыркулу, что тот главный, даже в глазах врага.
Мы миновали тамбур.
— Стань справа от двери, лицом к стене, — говорил я, думая, лишь бы он не загородил того парня, спрятавшего под себя пистолет. — Ну, открывай дверь! И помни…
Мы вошли.
— Произвол! Вы ответите! — звенел голос Кадыркула.
И первое, что я увидел, — красное от натуги лицо молодого парня, сидящего на кошме. Он жал, жал на спусковой крючок пистолета, направленного прямо в живот стоявшего вплотную к нему капитана. А тот не видел!
— Ну! — гаркнул я Исмагулу. Тот ткнулся лицом в стену, я ударом ноги выбил из рук пария пистолет и поймал его в воздухе. — Ошалел от страха, мерзавец! Предохранитель-то спускать надо…
Молодец мой Вася! Распорядился он прекрасно! Первым в круге бандитов стоял Ахмет-ходжа с гранатой-«лимонкой». За ним Хабардин, а прикрывал их капитан. Трое против четырнадцати и двух женщин у тазов, наполненных кипящим маслом.
— Капитан, во двор! Остальным выходить по одному. Потом шубы вынесем! По одному, по одному! Женщины — в угол, в угол! По одному!..
Мы их всех усадили на снегу. Провели обыск и обнаружили в одеялах пятнадцать пистолетов.
Оставил я Васю и капитана с пятнадцатью бандитами и Ахмет-ходжой. К командиру отряда, к Пузырю этому, отправился доложить, что у него в расположении творится. До штаба километров пять-шесть было. Выпряг я одного вороного и без седла поскакал.
Вот когда Хабардину досталось. Капитан, хоть и с пистолетом, но в рукопашной схватке от него немного пользы — на протезе он. Ахмет-ходжа — плохой помощник. Гляди, как бы он сам не стал на сторону бандитов. А им терять нечего.
Свора сначала сидела тихо. Хабардин устроил их у освещенной солнцем стены барака. А сам с капитаном и Ахмет-ходжой в тени, около строения, что рядом. Чтоб хорошо видеть, заметить, если сговариваться начнут, попытаются напасть.
В бараках-то никого, рыбаки на лове. Женщины выглянут и спрячутся. Боятся.
Меж бараками расстояние небольшое — метров двадцать. За один рывок преодолеть можно. Это от силы три-пять секунд. В зимней одежде бандиты пока-то поднимутся. Пистолетов на морозе держать нельзя — откажут в нужный момент, застынет масло.
Тишина головокружительная — слышно говор женщин за стенками барака, а стенки-то утепленные. Вдруг снег скрипнул. Вася огляделся — нигде никого. И бандиты неподвижно сидят. Опять скрип — совсем явственный. Покосился Хабардин на капитана, на его протез. Может, он нечаянно ногой шевельнул. А тот сам на Васю с удивлением смотрит, брови вскинул.
Скрип всё чаще слышится. Догадался Вася — рассредоточиваются потихоньку бандиты: то один двинется чуток, то другой. По сантиметру, по сантиметру, а дальше друг от друга. И следить за их действиями трудней и трудней. Пока на одном он свой взгляд остановит, другой шевельнется. Вверх стрелять — что, бандиты этакого шума не слышали? В них — нельзя. Живыми приказано брать. Да и выстрели один раз, убей одного, остальных уж не сдержишь — ринутся. Дело известное.
Капитан забеспокоился:
— Что делать будем?
А бандиты поскрипывают. Уж заметно расползлись, полукольцом охватывать начали. В молчании всё — скрипят, расползаются, окружают. Не убивать же их по одному, кто шевельнется? Два месяца ходили, искали, а нашли и взяли, да сохранить не сумели — это не работа.
— Знаешь что, капитан, — сказал Хабардин, — ты иди к углу барака, стань там и уж оттуда бей всякого, кто поднимется. Или пустится наутек. Стреляй! Или в барак захочет прорваться. Пали! Может, у них там ещё чего из оружия спрятано.
— А ты? — спросил капитан. — В бою мне всё понятно, а с такой поганью я дел не имел.
— Ничего, капитан. Я с ними справлюсь.
Достает Василий гранату-«лимонку», зажимает в левой руке.
— Уходи, уходи, капитан, — приказывает.
Тот послушался, подчинился.
Тогда Хабардин срывает колечко. Отпустить предохранитель ему осталось, чтоб граната разорвалась, — и всё. Потом сам садится на снег.
— Теперь ползите, гады! Хоть медленно, хоть быстро. Только поближе, поближе ко мне. А вот когда я решу, что хватит, я разожму пальцы, и половины вас сразу не будет. Ну! Коли поняли — сидите смирно.
Потом положил «лимонку» за пазуху, чтоб не замерзла рука, и держал бандитов в страхе, пока я пробивался в кабинет к Пузырю, разговоры вел.
Приехал я тогда, конечно, с подкреплением — всё хорошо.
А вот Вася с той поры болеет. Дорого ему дались те минутки.
Подошли рыбаки, помогли нам охранять арестованных. Пригласили байбиче — ну, пожилую женщину, чтобы обыскать женщин. Обнаружила байбиче у них в шальварах восемьдесят тысяч рублей денег. Пока шел обыск, со станции приехал Таукэ и привез ещё одного бандита. В коржуне у него нашли по три паспорта на каждого из банды: полугодовой, годовой и трехгодичный, на чужие фамилии; подделанные справки из канцелярии отряда…
Обыскали мы всех ещё раз тщательно. Когда подошел я к Исмагулу, он сказал вдруг:
— Я про Оморова, про Макэ хочу говорить.
Чувствую — свело скулы от ненависти, процедил сквозь зубы:
— Что ты хочешь?
А сам Васю подозвал, чтоб стал меж мной и Исмагулом. На всякий случай. Ну, как не сдержусь.
— Говори. Говори про Оморова Макэ, которого вы убили.
— Оморов потому погиб, что Кадыркул не хотел пойти с ним на свиданье. Нам передали — Макэ встречи с нами ищет. А Кадыркул ему засаду устроил.
— Для трибунала это не доказательство твоей невиновности.
— Я не о том, чтоб во внимание принимали. А как всё было… Чтоб вы знали.
— Буду знать… Запомню на всю жизнь. Дядя ваш, Абджалбек, где?
Набычился Исмагул:
— Не знаю… Какой он дядя — бросил нас…
— Свинье не до поросят, когда на огонь тащат.
Отошел было Исмагул, обернулся:
— Макэ нам кричал. Звал. Мы на его голос шли… И стреляли!
— Замолчи! — заорал я. И спасибо Васе — отвел меня в сторону.
Ишь как сразу — «не дядя он нам — бросил нас…». Что ж, все верно. Иначе и быть не могло. Когда-то на Сарыджаз родовые старейшины — манапы предали свой род, своих соплеменников. Соплеменников, ради скота. Тогда было другое время. Сейчас толкают на убийство, на преступления своих родственников, кровных родственников. И тоже предают их. Сколько я видел такого. Только не Исмагулу и Кадыркулу думать о родстве с родовой знатью.
— Будет тебе, будет, Абдылда… — уговаривал меня Вася.
— Помни! Помни! — бушевал распалившийся Исмагул. — Тогда в камышах Оморов встретиться с нами хотел! Он пришел на место, ждал нас! Потом кричать, звать нас стал. Мы тихо подошли и стреляли на его голос, в темноте.
Тогда я не выдержал, не смог сдержать себя. Я сказал им всё, что узнал по телефону, когда из Бурылбайтала разговаривал с Алма-Атой. Меня никто не просил скрывать сказанного. На суде они узнали бы правду. Но есть известия, которые лучше услышать днем позже. Жаль мне было парней — ни за что обрекли они себя на позорную смерть.
— Слушай ты, Исмагул! И ты, Кадыркул, слушай! Вы подло убили человека, шедшего к вам с миром.
— Мы убили кровного врага!
— Оморов шел к вам, чтобы сказать: вы — не сыновья Аргынбаева. Абджалбек обманул вас. Ваша месть и ненависть трижды глупы. Родные сыновья Аргынбаева прогнали от себя Абджалбека, а вы как бараны побежали за старым козлом. Вы коварно, предательски убили человека, шедшего к вам с миром. Нет преступления безумней и никогда не было. Если вы мужчины, то не мог Абджалбек помешать вам выслушать Оморова. Он сказал бы вам то же, что говорю я: вы не сыновья Аргынбаева.
— Врешь, — тихо сказал Кадыркул.
Было так безмолвно вокруг, что все услышали скрип снега под его ногами: он пятился в ужасе…
— Не может… Не может такого быть… — шептал Исмагул.
Понимал я — поверить в подобное с первого мгновения невозможно. Ведь они свою жизнь поставили на эту ось, всю свою страсть, стремления. Месть за отца сделалась движущей силой их разума, месть, которая ослепила их, превратила в послушное орудие.
— Нет, нет, — словно заклинание твердил Исмагул и пятился по похрустывающему снегу.
— Это есть! Есть! Вы не сыновья Аргынбаева! Незачем вам было мстить. Некому!
Исмагул допятился до угла меж стеной барака и тамбуром. Втиснулся в него. И долго ещё мотал головой, не в силах осознать происшедшего с ними.
— Вы убийцы, подлые и глупые. Я не знаю, кто ваши родители. Но ваш отец-бедняк мог погибнуть от пули Аргынбаева, а мать могла умереть от голода, потому что Аргынбаев забрал у неё последнее.
— Мы не мстили?.. Мы только убийцы людей?.. — проговорил Кадыркул. — Мы не мстители?!
Он посмотрел на меня, перевел взгляд на Исмагула. Потом схватил в пригоршни снега, растер лицо.
— Мы убивали… своих?
— Да! — сказал я. — Так оно и было. Вы не сыновья Аргынбаева, и никому вы не мстили. Вы по указке Абджалбека убивали ни в чём перед вами не повинных людей. Слышите, Исмагул и Кадыркул?
— Ты правду сказал, начальник? — снова очень тихо переспросил тугодум Исмагул.
Не зная, как ещё убедительнее подтвердить свои слова, я сказал:
— Киргиз я, ты казах. Могу ли я шутить с обычаями наших народов? Могу ли я солгать, что твой отец не отец тебе? Ты твердо знаешь — не могу.
Я отвернулся от них — не хотел смотреть на убийц Оморова, на тех, кто ослепил мальчишку-подпаска.
Постепенно собирался народ. Прибывшие со мной солдаты оцепили пространство меж бараками и никого не подпускали к арестованным. Но слух о том, что бандиты и убийцы чабанов из Бурылбайтала схвачены, распространился быстро.
По узким улочкам, переметенным снегом, желтым пополам с песком, шли люди к баракам на окраине расположения рабочего отряда. Они выходили из низеньких саманных домиков с плоскими крышами, переговаривались, соединялись в группы и двигались по ярко освещенному солнцем насту, под синим слепящим небом без единого облачка. Не из любопытства шли. Каждый хотел одного — своим словом, своим взглядом, своим присутствием выразить презрение к тем, кто попрал закон, поднял руку на достойнейших людей.
Теперь пришлось охранять бандитов и дезертиров от ярости народной.
Мы занимались своим делом — обыском, опросом. Следовало внимательно осмотреть стены барака. Потом начали по одному вызывать задержанных. Выясняли их личность, место прохождения службы или жительства.
Время от времени мне по делам требовалось проходить мимо арестованных. Исмагул и Кадыркул устроились на снегу отдельно от всех, все в том же углу меж стеной барака и тамбура. Они не прятались, просто уединились. Старший обнял младшего. Кадыркул уткнулся в грудь Исмагула и что-то говорил, говорил… Возбужденно, с отчаянием.
Старший гладил его по плечу, успокаивал.
Вдруг Кадыркул ухватился за полу моего пальто.
— Зачем, начальник?..
Выдернул я пальто из его рук:
— О чём ты, не понимаю?
— Почему ты не убил нас раньше?! Почему?
— Сиди спокойно! — крикнул на него солдат охраны. — Сиди, кому говорят!
Но взвинченный разговором Кадыркул, не обращая внимания на охранника, попытался вскочить, и старший с трудом удержал его. К нам подбежал обеспокоенный Вася Хабардин.
— Что ему нужно? — спросил он меня.
— Начальник! — закричал вдруг в голос Кадыркул. — Начальник! Почему ты не убил нас с братом прежде… прежде, чем сказал… мы не сыновья…
— Зачем ты убил Оморова?.. Убил прежде, чем выслушал? Ты начал убивать!
Исмагул усадил младшего рядом, лопотал что-то, но Кадыркул уже не слушал его.
— Ах, начальник, начальник… Почему ты не убил нас с братом прежде… — стенал Кадыркул, прижавшись к широкой груди Исмагула. — Прежде чем сказал нам, что мы не сыновья.
— Замолчи! — не выдержал Хабардин. — Умей отвечать за содеянное. Не будь тряпкой.
— Ах, начальник, начальник… — продолжал, не слушая никого, Кадыркул. — Убей нас, убей сейчас, здесь… Не хочу жить! Убей, начальник!
— Мы не убийцы! — отрезал я. — Вот вы не стали бы возиться с нами.
— Ни я, ни брат не тронули бы тебя, услышь такую весть.
— Ты убил Оморова, не выслушав! А он шел к вам именно с этой вестью! Ты начал убивать! Слышишь?
Вася Хабардин осторожно стал отводить меня в сторонку.
— Полно, полно, Абдылда, — негромко приговаривал он.
Вскоре начальник конвоя поднял арестованных, построил и повел. Они брели по визгливой от мороза заснеженной дороге, не смея поднять взгляда ни на лица людей, ни на солнце.
Мы шли позади.
— И не братья они, поди… — сказал Вася.
— Само собой… не братья. Во всём обманул их Абджалбек.
— На суде они всё равно об этом узнают… — И Хабардин посмотрел мне в глаза.
Не знал я, что ответить Васе.
Может быть, кто и смог бы завершить трагедию парней одним ударом. Я не смог.
— Пусть на суде… У меня язык не поворачивается.
— И у меня не повернется, — вздохнул Вася. — Пусть на суде им скажут…
Абджалбек? Поймали Абджалбека. И он то же сообщил.
Не были Исмагул и Кадыркул сыновьями Аргынбаева. Подобрал он, Абджалбек, беспризорников, пригрел и внушил им мысль, что они младенцами украдены у отца родного. И Аргын Аргынбаев завещал ему найти похищенных сыновей, что Абджалбек и сделал. И отдал на воспитание старухе Батмакан, чтоб в будущем иметь сообщников и крышу над головой при случае. А Батмакан правду нам говорила, она нехотя помогла Абджалбеку, воспитывая приемышей в духе дедовских традиций. И потом уж совратить «дяде» Исмагула и Кадыркула было легко. Толкнув их на убийство чекистов Оморова и Ненахова под Камышановкой, Абджалбек затем уже командовал «племянниками» как хотел.
Конечно, Макэ Оморов о чем-то догадывался, предложил обманутым приемышам встречу, но они устроили засаду, убили его и Ненахова, тяжело ранили Коломейцева, который не мог знать замыслов старшего уполномоченного отдела ББ. Но коли Макэ просил о свидании, встрече, переговорах — была на то веская причина. Была!
Не хотел Оморов, не хотел чекист, чтобы мертвое хватало за ноги живых… Обычаи, нравы, традиции народа — тоже оружие. В чьих оно руках — тому и служит: прошлому или будущему, злу или справедливости, которая всегда нуждалась в защите. Разве не в этом вечная юность и мудрость древних народных сказаний.
 |
 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |