"Книга" - читать интересную книгу автора (Андрич Иво)
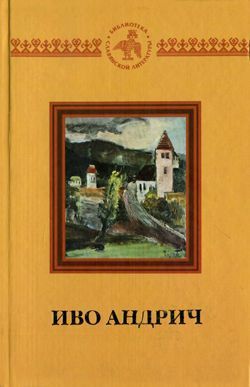 |
Иво Андрич Книга
С чувством, близким к страху, я приступаю к короткой истории одного долгого и большого страха. Этот страх не имеет ничего общего со столь многочисленными и разнообразными опасениями и боязнями, преследующими людей в их борьбе за существование и погоне за богатством, хорошей жизнью, положением, славой и первенством в приобретении, а затем сбережении и приумножении приобретенного. Речь пойдет о другом страхе, о трудно объяснимом страхе невинных человеческих существ перед явлениями этого мира. Речь пойдет о детском страхе, который в зависимости от того, каким будет первое соприкосновение ребенка с обществом и его законами, или исчезает с годами, в ходе умственного развития и правильного воспитания, или, наоборот, остается в ребенке, растет вместе с ним, заполняет, уродует и губит его душу, отравляет жизнь, как тайная боль и тяжкое бремя. Речь пойдет о тех мелких, незаметных, но оставляющих след на всю жизнь событиях, которые часто калечат души тех маленьких людей, которых мы называем детьми и мимо которых мы, взрослые, занятые своими заботами, случается, проходим так легко или вообще их не замечаем.
Мальчик в сентябре возвращается после летних каникул в окружной боснийский город. Он должен пойти в третий класс гимназии – гимназии старого и казенного австрийского типа. Как и большинство его сверстников, он возвращается с тяжелым сердцем после долгих летних дней свободы, игр и безделья, которые так любят дети. Он похудел и загорел, а волосы его высушены и выбелены солнцем. Одежда кажется ему тяжелой, ботинки жмут, точно чужие. Он живет вдвоем с товарищем в комнатке, которую снимает у вдовы, скупой и вечно озабоченной женщины – у нее самой двое сыновей в гимназии. Улицы и здания кажутся выросшими вширь и в высоту, люди – нарядными, магазины – богатыми. Но тем сильнее он чувствует, до чего сам он мал, подавлен и незначителен. Несколько медных монет, звякающих в его кармане, – такая малость по сравнению со всем тем, чем щеголяют магазины и улица, что он их воспринимает скорее как безденежье, чем как некий достаток. То, чем он располагает, столь ничтожно по сравнению с тем, что ему предлагается, и с тем, чего бы ему хотелось, что и те вещи, которые он мог бы купить, утрачивают свою привлекательность, так как он заранее с болью ощущает ограниченность своих возможностей.
Перед зданием гимназии стоят торговцы фруктами, сластями, мороженым; каждый из них окружен живым кольцом ребят, которые покупают все это, угощают друг друга, делятся или ссорятся. Мальчику страшно хочется подойти и присоединиться к ним, но групп этих много, и он только переходит от одной к другой, останавливаясь возле каждой как робкий наблюдатель.
В просторном коридоре гимназии холодно и пусто. На большой черной доске, единственном украшении этого невеселого помещения, четко выписаны фамилии учеников, для которых у служителя лежат письма. Мальчик, как всегда, смотрит на эту доску и прочитывает фамилии, а сознание, что для него ничего нет и быть не может, так как ему никто не пишет, ощущает как некую уже привычную боль. Вдруг он принимает какую-то похожую фамилию за свою. Ясно видит свое полное имя. Сразу представляет себе письмо, настоящее письмо, закрытое, с марками, штемпелями и всеми следами дальнего странствия, письмо, в котором каких только нет наказов, пожеланий и вестей, важных, добрых и интересных. И чего только, наверное, не бывает в таком письме! Да кто тот счастливец, который его получит? Буквы на доске запрыгали, задвигались, разместились в надлежащем порядке, и его имени как не бывало. Нет ни письма, ни вестей издалека. Как, к сожалению, нет ничего красивого, необычного и волнующего, а есть лишь монотонная жизнь, без чудес и сюрпризов, сотканная из простых и скудных событий и неопределенных и неясных, но трудных и безрадостных обязанностей и долженствований.
На доске поменьше написано, где и когда несостоятельным ученикам бесплатно выдаются учебники. С этим связаны неприятные минуты, которые он пережил в прошлом и позапрошлом году.
Ученики, которые могут представить справку, что не имеют родителей или что родители их бедны, бесплатно получают от государства все учебники, требующиеся им в учебном году. Это, разумеется, книги, бывшие в употреблении, прошедшие через множество рук таких же бедных учеников. Они нередко бывают подклеены, залатаны, подшиты. На каждой странице есть подчеркнутые строчки, пометки на полях, мелкие рисунки или же лишенные значения геометрические фигуры, которые мальчики рассеянно чертят, когда им скучно. Встречаются здесь следы еды и питья и те грязно-серые пятна, которые появляются на книжках, долго бывших в употреблении. У мальчика эти книги вызывают гадливость, и все пятна и следы чужой работы и жизни, нечистые, недостойные, наполняют его отвращением и в то же время привлекают его внимание и кажутся ему столь же важными, как и то, что напечатано. А на заглавных страницах каждой книги красуются надписи учеников, окончивших до него свой класс с этими учебниками и уже давно обогнавших его на пути в какие-то далекие пределы, где, наверное, лучше, интереснее и светлее. Их пометки смешны, бессмысленны, и мальчика от них коробит. «Эта книга принадлежала Ивану Станковичу, ученику III «б» класса». «Hie liber est meus; testis mihi est Deus; qui non vult credere, hie potest leger.[2] Й. Субашич».
Мысль о том, что с этими учебниками он должен прожить целый год и изо дня в день заниматься по ним, вызывает у мальчика отвращение; он уже ненавидит их – и их, и все, что в них не только написано и нарисовано от руки, но и напечатано. С такими учебниками и со своей давней мечтой о неких чистых, красивых книгах, в которых на девственно белых страницах крупным и четким шрифтом напечатаны какие-то гордые и радостные откровения, мальчик начал и свой третий год в гимназии. Но этот третий год по крайней мере нес с собой одну радостную надежду и приятное предвкушение. С третьего класса учащиеся получают право пользоваться художественной и научной литературой из гимназической библиотеки.
В течение первых лет, проведенных в гимназии, мальчик столько раз думал о той минуте, когда и он сможет в определенный час и день недели войти в библиотеку и взять какую-нибудь из тех книг с картинками, которые он видел у старших товарищей. Из разговоров с ними он знал названия многих книг, находившихся в этой маленькой гимназической библиотеке, и, слушая рассказы об их содержании, казался сам себе маленьким и невежественным, и мечтал только о том, как бы дорасти до третьего класса и до библиотеки.
Теперь пришел и этот день.
Во вторник после полудня он стоял в числе первых перед запертой дверью библиотеки в ожидании учителя, выполняющего обязанности библиотекаря. Когда учитель появился, когда он отпер и впустил их в прохладную узкую комнату, уставленную вдоль стен шкафами, полными книг, для мальчика наконец наступил тот момент, о котором он давно мечтал и которого страстно желал.
Сначала была очередь учеников старших классов. Учитель, толстый рыжий человек с быстрыми движениями и резкой речью, делал свои замечания, рекомендовал одни книги, отговаривал от чтения других. Мальчика смущало то, как сухо и насмешливо он говорит о таких больших и возвышенных вещах, но он поминутно забывал об учителе и учениках, погружаясь в разглядывание книг, рядами выстроившихся за стеклом, мечтая обо всем, что может быть написано и нарисовано в этих книгах, и уже сейчас ощущая что-то вроде боли при мысли о том, что придется остановиться только на одной книге и попросить только ее. Он думал, какое было бы счастье и как бы у него полегчало на душе, если бы не надо было выбирать и если бы можно было спокойно, на свободе, посмотреть все три шкафа и перелистать все книги. Чего стоит одна книга, даже самая лучшая, если человек знает, что существуют сотни и тысячи других? Если бы можно было получить хоть три-четыре, чтобы, читая, не трепетать при мысли, что через час-другой дойдешь до конца и читать будет нечего. А тут – по одной книге каждый вторник, да и то только из тех, что предназначены для его класса, тех, которые разрешит учитель, и к тому же при условии, что ни по одному предмету он не получит плохой оценки. Все обусловлено, ограничено, втиснуто в рамки и уделяется по крохам. А ведь существуют в мире библиотеки, существует такое множество книг и существуют люди, которые их свободно читают. Да ему и не надо много – всего лишь четыре-пять книг о разных путешествиях по разным краям света. Только бы можно было под ту, которую читаешь, подложить те три-четыре, которые будешь читать позднее, и время от времени заглянуть в них, лишь бросить взгляд. Неизвестно почему, но ему кажется, что это было бы осуществлением самой большой его мечты.
Ты что, сюда спать пришел или за книгой? – прервал его мечтания резкий и нетерпеливый голос учителя. Мальчик с трудом опомнился. Он и не заметил, как очередь дошла до него. Сзади, смеясь, его подталкивали товарищи. Перед ним, прямо перед ним стоял сердитый рыжий учитель. Мальчик видел его крепкие кулаки, сильную шею, коротко остриженные красноватые волосы, опущенные книзу усы и зеленые глаза с твердым и насмешливым выражением, глаза человека, который знает, чего он хочет и что нужно делать, и который и от других неумолимо требует, чтобы они знали то же о каждом деле и в каждый данный момент.
Мальчику казалось, будто его неожиданно подвергли какому-то непосильному и беспощадному испытанию. Самое лучшее, что у него было связано с библиотекой, – двухлетняя мечта и думы о ее осуществлении, – развеялось как дым. Грубо встряхнутый, застигнутый в своих мыслях как на месте преступления, он был пристыжен и испуган. Больше всего он боялся, как бы учитель, по своему обыкновению, не прилепил ему какой-нибудь насмешливой клички: если ученики подхватят эту кличку, никто его от нее не избавит.
– Итак, что же тебе угодно? – иронически продолжал учитель.
– Я бы… Мне бы хотелось что-нибудь о путешествиях, – пробормотал растерявшийся мальчик.
– Ты бы, тебе бы… Похоже, ты сам не знаешь, чего хочешь, – сказал учитель, взял квадратную, довольно толстую книгу, записал имя мальчика в список и торопливо вручил ему книгу.
– Следующий!
Мальчик ушел сконфуженный, думая только о том, что на сей раз счастливо избежал клички. На ходу он разглядывал книгу, на обложке которой была цветная картинка – сплошной снег и лед – и название: «Экспедиции в полярные края».
Медленно спускаясь по лестнице и останавливаясь на каждой ступеньке, он раскрывал книгу на страницах с пейзажами Севера – ледяными горами, нартами, в которые запряжены собаки, и хижинами из снега. Лицо его еще горело и руки вздрагивали от волнения, вызванного встречей с библиотекарем. Неприязненностью и холодом этой встречи веяло и от всех этих полярных фотографий, и от каждой страницы этой старой, неряшливо переплетенной и обтрепанной книги.
Вот каковы, оказывается, те прелести и наслаждения, которые ожидают человека, когда он приобретает право пользоваться библиотекой!
Заглядевшись на картинки, охваченный смешанным чувством оскорбленного самолюбия, разочарования и любопытства, мальчик оступился на выщербленной ступеньке, потерял равновесие, зашатался и в конце концов уперся руками в стену, но при этом выронил книгу, которая покатилась вниз. Устояв на ногах и придя в себя, он тотчас бросился за книгой, лежавшей у подножия лестницы. Подняв ее, он с испугом увидел, что от падения переплет оторвался: вся внутренняя часть отстала от корешка и держалась только на нескольких ниточках.
Мальчику кровь бросилась в голову. Едва видя сквозь пелену красного тумана, застлавшего глаза, он вправил книгу в переплет, оглянулся, не видел ли его кто, и торопливо пошел домой.
Выйдя на улицу, он замедлил шаг. Тесная неприветливая библиотека была забыта, точно он никогда там и не был. Теперь он мог думать только о беде, которая случилась с книгой, и об ущербе, размеры которого надо будет установить дома. Попорченная книга, зажатая под мышкой, жгла ему бок.
Дома он тотчас запрятал злосчастную книгу, как досадную обузу, на дно своего ученического сундучка, под теплое белье, поел и вышел поиграть с соседскими ребятами. В игре он забылся. Но, когда начало смеркаться и товарищи стали расходиться по домам, его пронзила мысль, что дома его ждет что-то нехорошее и неприятное. И боль от этой мысли нарастала вместе с темнотой.
За ужином он ел быстро и рассеянно, сразу из-за стола отправился в спальню и передвинул керосиновую лампу в свой угол. Пока его товарищ оставался с сыновьями хозяйки в столовой, откуда доносились их веселые голоса, мальчик, притворяясь, будто готовит уроки к завтрашнему дню, вытащил книгу и начал осматривать ее, точно рану на собственном теле. Переплет держался всего лишь на двух тоненьких ниточках. Видно было, что его уже однажды подклеивали, небрежно и неумело, каким-то дрянным бурым клеем, который при первом же сильном сотрясении перестал держать.
Нагнувшись над сундучком, мальчик смотрел то на книгу, то на переплет и чувствовал, как к голове его приливает кровь. Он растерянно спрашивал себя, что предпринять, дабы поправить дело. Как поступают в таких случаях? Он знал одно – что никогда и ни за что не посмел бы признаться этому большому рыжему человеку из библиотеки в своей беде. Пойти к какому-нибудь переплетчику? Да, это самое лучшее. Но тут же начались сомнения: а возьмутся ли переплести эту книгу? Хватит ли у него денег? Не будет ли заметно, что книгу пришлось переплетать?
В это время кто-то открыл дверь, ведущую в столовую. Ворвались веселые голоса. Он испуганно сунул книгу на дно сундучка, захлопнул крышку и, не подымая головы, начал листать какую-то тетрадь, делая вид, будто весь погружен в это занятие. Дверь в столовую притворили. Он осторожно открыл сундучок и снова вытащил книгу. Теперь оборвались и те две ниточки. Мальчик держал в одной руке книгу, в другой переплет. Так. Теперь все стало совсем плохо. Он бережно вложил книгу в переплет, спрятал на дно сундучка и повернул ключ в замке. Затем вернулся в столовую и подсел к остальным за стол. Здесь он смеялся, разговаривал, участвовал в игре, ни на минуту не забывая о своей мучительной тайне.
Так мальчик начал свой третий учебный год в гимназии.
Во время уроков, когда учитель с редкой остроконечной бородкой объяснял греческую азбуку, мальчик смотрел в окно на верхушки деревьев, еще одетые пышной зеленью сентября, и на кусочек светлого неба вдали. Рассеянный и неспособный запомнить незнакомые буквы, он думал только о загубленной книге, с которой никогда не решится предстать перед строгим библиотекарем и которую, как ему все больше казалось, нельзя ни поправить, ни заменить другой. И эта мысль, неотступная и мучительная, все быстрее утрачивала свою первоначальную форму. Так было во время уроков, игр, веселых разговоров с товарищами. Каждую секунду он ощущал, что на свете существует что-то испорченное и развалившееся, какая-то его беда и вина, которую он никому не смеет открыть и не может исправить и за которую когда-нибудь должен будет нести ответственность.
Все же иногда во время игры или прогулок с товарищами ему удавалось отвлечься и часами не вспоминать о своей тайне. Он смеялся, бегал или разговаривал весело и беззаботно, как и все. Но вдруг, точно физическая боль, возникала мысль о спрятанной книге. И каждый раз боль эта была тем свирепей и тяжелее, чем длительней и полнее были минутная радость и недолгое забвение, ибо к прежней боли присоединялся и укор самому себе за измену ей. И когда после таких часов он укладывался в свою постель и лежал без сна в темноте, он находил тут свою заботу, неусыпную и неотступную, и каждый раз она была больше и тяжелее, чем он оставил ее утром, вставая.
Дни и недели проходили, а событие с книгой, обыкновенное и незначительное само по себе, приобретало, и с каждым днем все больше, фантастическую и чудовищную видимость гнетущей тайны и непоправимого проступка, который необходимо во что бы то ни стало скрывать.
Это было глупо, ненужно и, по существу, лишено оснований, и все же – реально и мучительно, реальнее дневных игр и разговоров. Мальчик начал сторониться друзей и их забав. А на самых беспечных из них смотрел с беззлобной, но жгучей завистью.
Какие только мысли не рождались в эти осенние ночи в детской голове! Какие только возможности не рисовались, какие невозможные мечты не проплывали!
Ночь кончалась, а он все думал. Открыть кому-нибудь, что с ним случилось? Поискать где-нибудь совета, как решить этот вопрос и освободиться от бремени заботы? При одной мысли об этом его что-то согревало изнутри, все становилось на мгновение ясным, легким и простым. Перед ним вереницей возникали лица товарищей. Он представлял себе в мельчайших подробностях целые разговоры – свою исповедь и их ответы и выражение лиц; и в конце концов приходил к убеждению, что это было бы напрасно и, что еще хуже, невозможно. Он подумывал о том, не довериться ли хозяйке, но сама ее мина, удрученная, вдовья, отвращала его от этого намерения. Он решил подробно описать все отцу и попросить совета и помощи или даже подойти как-нибудь к библиотеке, дождаться учителя и с глазу на глаз искренне признаться в случившемся.
И после того, как он долго воображал свои речи и их ответы, вплоть до малейших движений и выражения лица, он убеждался, что это выше его сил, и оставался по-прежнему наедине со своей тайной, которая после каждого такого размышления становилась все тягостней.
Его осенила мысль поискать избавления в молитве. И он в самом деле шептал все известные ему молитвы, неслышно, долго и усердно. Прикрыв рукой рот, чтобы не слышал товарищ, спавший в той же комнате, он обращал жаркие мольбы прямо к богу и его святым, которые, как говорят, могут совершать и еще большие чудеса, и просил составить книгу с обложкой, чтобы он мог спокойно и смело вернуть ее тому человеку, не подвергаясь неведомо каким выговорам, унижениям и строгим карам. Так он и засыпал, убаюканный собственным шепотом. А еще затемно просыпался с боязливой, но лучезарной надеждой в душе, подбегал к сундучку и там находил свою книгу, непоправимо и жалко располовиненную, такую, какой она была до всех его надежд и молений, и, как ему казалось, еще более обезображенную и безнадежную, и, уничтоженный, он возвращался в постель.
«Умереть, – думал он, лежа в постели, стиснув челюсти и скорчившись, – умереть сейчас, сию минуту!» Умереть – значило бы избегнуть необходимости признаваться, не ждать чудес, которые не хотят совершаться, не отвечать зато, в чем не виноват; это значило, что ему никогда больше не придется встретиться с тем рыжим насмешливым человеком. Это значило бы, что не станет его, но с ним – и книг, как новых, так и рваных и починенных, и библиотек, и библиотекарей, и ответственности, и страха перед ними.
«Боже, пошли мне смерть прежде, чем придет конец полугодия и тот неизбежный момент, когда я должен буду стать перед библиотекарем и отвечать за разорванную книгу».
Потом он думал, что было бы, если бы здание гимназии сгорело вместе с библиотекой и списком выданных книг? Нужно ли было бы тогда возвращать оставшиеся книги? Или нет, пусть бы лучше сгорел дом, в котором он живет, со всеми вещами и с этой книгой в сундучке. Насколько легче тогда было бы отвечать за нее!
Нет, лучше и вернее всего было бы умереть.
Однако вместо того чтобы умереть, он каждый раз засыпал с этим желанием. А во сне снова появлялась искалеченная книга в самых фантастических видах и страх перед тяжкой, незаслуженной и неясной ответственностью, а с ним опять – и во сне тоже – желание умереть, исчезнуть из жизни, как реальной, так и воображаемой, без следа и без возврата.
Чем дальше шло время, тем все более одиноким и замкнутым становился мальчик. Он похудел, так как ел мало и жевал вяло и неохотно. Этого никто не замечал. Зато учителя заметили, что учиться он стал хуже. Два месяца подряд он получал по греческому и математике неудовлетворительные оценки.
Преподаватель греческого языка, человек молчаливый и желчный, не стал с ним много возиться. Задав ему вопрос-другой и получив неуверенные ответы, он цедил сквозь зубы с непонятной ненавистью:
– На место!
Единицы выстраивались одна за другой.
Намного затруднительнее было с преподавателем математики, худощавым и добродушным стариком, который озабоченно глядел на него из-под золотого ободка тщательно протертых и каких-то добрых и веселых очков.
– Что с тобой, Латкович? Я привык слышать от тебя другие ответы. Проснись, старина!
А мальчик моргал глазами, конфузился и молчал.
Вот, все требуют от него только усилий и интересуются плодами этих усилий, и нет никого, кому бы можно было довериться, попросить совета и вместе поискать выхода.
С суеверным страхом он обходил стороной витрины книжных магазинов, в которых были выставлены новые книги в красивых обложках. А когда среди товарищей заходила речь о библиотеке или какой-либо книге, он тотчас заливался краской, начинал заикаться от смущения и старался замять разговор или перевести его на другие темы, в то время как в груди его, точно физическая боль, разливалось знакомое мучительное ощущение какой-то неясной и непоправимой беды, которая с ним случилась и о которой еще никто не знает, а ему за нее придется отвечать. Ощущение это было тем тягостнее, чем больше он старался скрыть его от других. Часто ему казалось, что товарищи нарочно обращаются к нему с вопросами, относящимися к библиотеке, книгам, переплетам. На каждый такой вопрос он отвечал молчанием и, опустив глаза, ждал, когда кто-нибудь прямо скажет ему, что знает о разодранной книге в его сундучке.
Все дни были тяжелы, но особенно мучителен был вторник. В этот день он не мог думать ни о чем, кроме своей книги. Во вторник после полудня его одноклассники сдавали прочитанные книги и брали новые. Мальчик не смел и подумать об этом. Он не побоялся бы стать перед директором и перед любым судом в мире, но у него не было ни сил, ни мужества появиться перед этим большим рыжим человеком, который сухо и неприязненно требует от каждого, чтобы тот быстро, ясно и определенно сказал, чего он хочет. И притом еще появиться с порванной книгой! Нет, на это у него не хватит смелости. Его он боится больше всего на свете.
Наконец в один из вторников, когда во время перемены зашел разговор о книгах, кто-то спросил мальчика, почему он больше не берет книг из библиотеки. Он ответил, что еще не прочел первую. Один его одноклассник, рослый и насмешливый, вмешался в разговор:
– Так ведь не можешь ты месяцами держать книгу. Если она кому-нибудь понадобится, придется ее сдать. Не наизусть же ты ее учишь!
Мальчик боязливо и подозрительно посмотрел на него, желая проверить, говорит ли он это потому, что знает, в чем дело, или просто так, из прирожденного злорадства. Его взгляд встретил смеющиеся и беспощадные глаза другого человека, в которых нельзя было прочесть ничего, кроме присущего им дерзкого и жестокого выражения.
Но домысел этот пустил корни в сознании мальчика. Правда, он имеет право держать книгу до конца первого полугодия, но теперь он с новым страхом спрашивал себя, что будет, если кто-нибудь вдруг спросит ту самую книгу, которая находится у него уже два месяца, и ему велят ее вернуть? Тогда все неминуемо раскроется. Это приближало опасность и увеличивало страх.
Это и заставило его быстрее и настойчивее искать какого-то решения. С течением времени вся история так срослась с его самыми интимными, сокровенными помышлениями и страхами, что не могло быть и речи о том, чтобы довериться кому-либо и с кем-либо посоветоваться.
Первого числа следующего месяца он взял деньги, пошел на глухую дальнюю улицу и тут купил у одного еврея клею в плитках. Потом он дожидался дня, когда останется дома один. Нашел какой-то старый горшок и в нем растворил клей. Он то доливал воды, то отливал, мешал, придвигал к огню и отодвигал. Взволнованный и трепещущий, точно занимается самым секретным и самым скверным делом на свете, мальчик не замечал, как пачкает руки и обжигает пальцы. Он только всячески старался представить свою затею служанке, возившейся на кухне, совершенно невинным и лишенным какого-либо значения занятием.
Когда клей растворился, он отнес его к себе в комнату, вытащил книгу и специально обструганной щепочкой начал мазать корешок. Клей прилипал к пальцам, размазывался и тянулся, попадал на переплет. Мальчик волновался тем сильнее, чем больше хотел быть аккуратным и осторожным. В конце концов он вложил книгу в переплет и придавил ее другими книгами и тяжелыми предметами. Затем убрал все следы своей работы и вымыл руки.
Эту ночь ему спалось особенно беспокойно. То и дело он просыпался от мысли, что, может быть, непоправимо все испортил. Его так и подмывало подняться и посмотреть, высох ли клей и хорошо ли держится переплет. Но было страшно разбудить товарища, спавшего в другом углу комнаты. Едва дождавшись зимнего рассвета, он поднялся, слегка раздвинул занавески и при сером свете утра извлек книгу, ставшую жесткой от клея и плохо раскрывавшуюся. Он осторожно открыл ее, задерживая дыхание и со страхом прислушиваясь к тому, как она потрескивает. Обложка была приклеена к корешку, но на первой и последней страницах виднелись следы клея и неумелой работы.
Мальчик снова положил книгу в сундучок и, дрожа от холода, на цыпочках вернулся в постель, мучительно недоумевая – то ли хорошо все уладил, то ли полностью и до конца погубил дело.
С тех пор он и днем и ночью, используя каждую минуту, когда оставался один, открывал украдкой сундучок и разглядывал книгу, гадая, удалась ли его починка и можно ли вернуть ее в таком виде библиотекарю. Часто ответ бывал положительным, а еще чаще – отрицательным. И страх продолжал расти.
И этот вторник пришел, последний вторник первого полугодия. В этот день должны были быть сданы книги, взятые в течение полугодия. Не сдавший не получал табеля с отметками. В ночь на вторник мальчик почти не сомкнул глаз. Несколько раз он вставал, неслышно подкрадывался к сундучку, доставал книгу, осматривал ее и оценивал и укладывал обратно, уверенный, что учитель ничего не заметит. Однако, когда он ложился в кровать и начинал думать, снова возникали сомнения. Ему казалось, что пятна от клея настолько велики, что не заметить их невозможно. Так он колебался некоторое время, а потом, не выдержав неизвестности, вставал, чтобы снова взглянуть на книгу и убедиться, прав ли он в своих предположениях.
Бесчисленное множество раз он повторил про себя в эту ночь всю сцену сдачи книги, как она должна была, по его представлению, произойти. Он войдет в библиотеку, когда в ней будет как можно больше народу – тогда учитель не сможет долго заниматься им и его книгой. Он войдет с безразличным видом, поклонится и скажет: «Пожалуйста, господин учитель». Или нет, ничего не скажет, потому что этим он бы привлек к себе внимание, а просто поклонится. Книгу он обернет в белую бумагу и вынет ее тут же, перед учителем, чтобы тот увидел, как бережно он обращался с книгой. Это хорошая мысль. Да, но тут учитель возьмет книгу, раскроет ее быстрым движением, а книга затрещит, и сразу обнаружится неумелая и грубая склейка. И тогда-то, тогда настанет… он и сам не знал, что, собственно, настанет, но настанет то неизвестное, перед чем он трепещет, из-за чего не спит, плохо ест и скверно учится уже в течение нескольких месяцев; разразится скандал, посыплются резкие слова этого страшного человека, последует допрос, наказание, позор и расплата. Короче говоря, придет пора держать все те неопределенные, сложные и многочисленные ответы, которые он и в мыслях не отваживается произнести, обдумать, подсчитать и измерить и хочет только одного – любой, даже наивысшей ценой их избегнуть.
Так он снова засыпал, придумывая самые фантастические процедуры, которые будут к нему применены по установленному специальному плану, грубо и немилосердно.
Был сырой январский день. Мальчик достал из сундучка книгу. В мутном свете зимнего дня она выглядела истрепанной, жалкой и непоправимо загубленной. Готовый к самому худшему, он завернул книгу в белую бумагу и отправился в гимназию.
Он слонялся возле библиотеки, заговаривал с выходившими оттуда товарищами, считал тех, которые входили, и наконец, увидев, что вошли сразу трое, постучался и, не ожидая ответа, открыл дверь.
Так вот она, эта комната, в которую ему лучше было бы никогда не входить, и вот он, этот момент! Зубы его стучали, а правая нога неприятно подрагивала. Он встал в затылок за теми, что вошли перед ним, и постарался унять дрожь. Занятый своими мыслями, он не заметил, как один за другим исчезали те, кто стоял перед ним, и он вдруг оказался лицом к лицу с дородным рыжим мужчиной, которым пять последних месяцев были заполнены все его мысли и сны. Учитель за это время заметно изменился. Насупленный и мрачный, с мешками под глазами и нездоровым цветом лица, он производил впечатление больного и снедаемого тревогой человека.
Мальчик думал, хуже ли это и опаснее для него или, наоборот, лучше и благоприятнее. В то же время он низко кланялся и бормотал что-то вроде: «Пожалуйста, господин учитель» – и медленно и неловко снимал белую бумагу. Учитель, расстроенный и сердитый, и не поглядел на него. Он взял книгу, шлепнул ею по ладони левой руки, посмотрел номер, написанный на задней крышке переплета, затем красным карандашом зачеркнул фамилию мальчика в списке, а книгу положил поверх остальных только что сданных. Не поднимая взгляда, учитель протянул руку за следующей книгой, но мальчик стоял перед ним как зачарованный. Только когда стоявший позади товарищ оттолкнул его и протянул свою книгу, он отошел и нерешительной походкой, медленно и осторожно, как во сне, как в одном из тех снов, в которые человек не верит даже в ту минуту, когда их видит, направился к выходу. По спине у него бегали мурашки, и он был уверен, что сейчас его окликнут по имени и позовут назад. Так он вышел. Вернее, его вытолкнули ученики, выходившие из библиотеки и входившие в нее.
Словно во сне, так же чувствуя на спине мурашки и так же ожидая, как неминуемого, что вот-вот ему велят вернуться, он прошел по широкому коридору, в котором висела черная доска с именами счастливцев, получающих письма; теперь он и не поглядел на нее. Зашагал по улице, между однообразными рядами домов, по мокрому, грязному снегу, по-прежнему ожидая, что его окликнут. Нет, никто его не звал. Что случилось? Случилось величайшее чудо: ничего не случилось. Все произошло естественно и просто. Все хорошо и благополучно разрешилось. Нет больше ни порванной книги, ни страха перед ответственностью и наказанием. За время своего мучения он перебрал и до мельчайших деталей представил себе все возможные исходы, но только не такой и не этот. Напряжение, которое жило и нарастало в нем месяцами, теперь разом спало. Точно все эти страхи и опасения никогда не существовали и не мучили его. Все стерто одним махом, все забыто. Он чувствовал, что надо было бы радоваться, кричать от восторга перед лицом такой неожиданной и счастливой развязки. Да, надо было бы радоваться, может быть, он и радуется, но в той пустоте, которая после внезапного и благополучного исхода вдруг образовалась в нем, эта радость не может найти ни места, ни отклика.
В душе он рад, но по улице плетется как избитый, как после болезни. Его охватывает чувство непонятного умиления. Немое рыдание подкатывает к горлу и рвется наружу при каждом шаге. Так, медленно и растерянно, он добредает до дому, входит в комнату и впервые за это долгое время без страха и без оглядки открывает свой сундучок. Бросает быстрый взгляд на место, где столько месяцев пролежала эта страшная книга, потом захлопывает крышку и задумчиво опускается на сундучок.
Так он долго сидит, погрузившись в себя, опустив голову, опершись локтями на колени, судорожно сцепив пальцы, как взрослый усталый человек, который всем своим существом отдается коротким минутам отдыха и затишья.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |