"Античная мифология. Энциклопедия" - читать интересную книгу автора (Королев Кирилл Михайлович, Лактионов А.)
Глава 1 «В КАЖДОМ ДЕЛЕ ПОЛАГАЙСЯ НА БОГОВ…»: от обожествления природы к торжеству упорядоченности[14]
По замечанию А.Ф. Лосева, формирование олимпийского пантеона совпало с окончательным переходом от матриархата к патриархату, поэтому на небе (на Олимпе) сформировалась божественная «патриархальная община» во главе с отцом-Зевсом. «Прежде он сам был и ужасным громом, и ослепительной молнией, не было никакого божества, к кому можно было бы обратиться за помощью против него. Теперь же гром и молния, равно как и вся атмосфера, стали не больше как атрибутами Зевса. Греки стали представлять, что от разумной воли Зевса зависит, когда и для каких целей пользуется он своим перуном. Характерно окружение Зевса на Олимпе. Около него Ника („Победа“) — уже не страшный и непобедимый демон, но прекрасная крылатая богиня, которая является только символом мощи самого же Зевса. Фемида… была страшным законом стихийных и беспорядочных действий земли. Теперь она воспринимается как богиня права и справедливости, находящаяся возле Зевса как символ его благоустроенного царства. Детьми Зевса и Фемиды являются оры — веселые, прелестные, благодетельные, вечно танцующие богини времен года и государственного распорядка, справедливейшим образом ниспосылающие с неба атмосферные осадки… Рядом с Зевсом также и Геба — символ вечной юности… Даже мойры — страшные и неведомые богини рока и судьбы, управлявшие всем мирозданием, трактуются теперь как дочери Зевса и ведут блаженную жизнь на Олимпе».
Классический олимпийский пантеон насчитывал двенадцать божеств — шесть мужских и шесть парных им женских: Зевс и Гера, Аполлон и Афина, Гефест и Афродита, Арес и Артемида, Посейдон и Деметра, Гермес и Гестия. Иногда к пантеону относили (как «небожителей») Диониса, Пана и «младших» божеств — Эйрену, Эриду, Муз, Харит и др., в том числе позднее причисленного к богам Геракла. У римлян олимпийским божествам греков соответствовали Юпитер и Юнона, Аполлон и Минерва, Вулкан и Венера, Марс и Диана, Нептун и Церера, Меркурий и Веста.
 |
Дж. М. Стэдвик. Золотая ветвь (мойры за работой). Холст (ок. 1890 г.).
С формированием олимпийского пантеона на небесах и на земле воцарились стабильность и гармония и окончательно сложилась та «светлая и радостная» (Дж. Фрэзер) классическая мифология, которая стала основой европейской культуры.
Основой — быть может, самой глубокой — религиозного чувства человека античности было сознание таинственной жизни окружающей его природы. И не только жизни, но и одухотворенности; и не только одухотворенности, но и божественности. И это — первое, что требует объяснения для современного человека.
Слово «жизнь» следует понимать не в том смысле, в каком мы обычно противополагаем «живую» природу, т. е. органический мир животных и растений, «мертвой», т. е. неорганическому царству минералов. Для греческого сознания мертвой природы не было: она вся была жизнью, вся — духом, вся — божеством. Не только в лугах и лесах, в родниках и реках — она была божественна также и в колышущейся глади морей, и в недвижном безмолвии горных пустынь. Природа тождественна Гее, Матери-земле. Ей поклоняются среди белых скал; она «царица гор, ключ жизни вечный, Зевеса матерь самого» (Софокл).
 |
Дж. Уотерхаус. Гилас и водяные нимфы. Холст (ок. 1890 г.).
Человек античности окружил себя и свою жизнь целым сонмом природных божеств, то ласковых, то грозных, но всегда участливых. И, что важнее, он сумел вступить в душевное общение с этими божествами, преломить их жизнь в своем сознании и влить в них живое понимание себя.
Из недр земли, из расщелины скалы бьет прохладный родник, распространяя зеленую жизнь кругом себя, утоляя жажду стада и их владельца: это — богиня, нимфа, наяда. Воздадим ей лаской за ласку, покроем навесом ее струю, высечем бассейн под ней, чтобы она могла любоваться на его зеркальной глади своим божественным обликом. И не забудем в положенные дни бросить ей венок из полевых цветов, обагрить кровью закланного в ее честь ягненка ее светлые воды. Зато, если мы в минуту сомнения и душевной муки придем к ней, склоним свое ухо к ее журчанию — и она вспомнит о нас и шепнет нам спасительный совет или слово утешения. А если то место, где она струит свои ясные воды, удобно для человеческого селения — здесь может возникнуть и город, и будет ей всенародная честь, всеэллинская слава. Такова Каллироя в Афинах, Дирцея в Фивах, Пирена в Коринфе. Будут каждое утро сходиться к храму наяды городские девушки, чтобы наполнить ее водой свои кувшины и потешить ее участливый слух своей девичьей болтовней, и будут граждане в ее очищающих струях омывать своих новорожденных детей.
Течет ручей, соединяется с другим ручьем, образует реку; тут представление ласки уступает уже место другому представлению — силе. Правда, больших рек Греция не знает, самые крупные из них — Пеней, Ахелой, Алфей, Еврот — не сравнить ни с Дунаем, ни с Рейном. Но все же в половодье и они могут произвести немало опустошений, набрасываясь на пажити и посевы, ломая встречные деревья со стремительным напором разъяренного быка. Их и представляли поэтому в виде быков или полубыков. Но все же их гнев был редким явлением, вызываемым обыкновенно нечестием граждан, творящих неправедный суд у себя на городской площади, прогоняющих Правду со своих сходов; в другое время это — благодетельные божества, орошающие своей влагой не только прилегающие луга и леса, но — благодаря отведенным каналам — и всю равнину; они поистине в малодождливой Греции «кормильцы» своей страны. За это им и честь воздается. Им строят храмы на удобных местах, приносятся жертвы; они призываются в государственных молитвах, и уже обязательно мальчики, достигшие возраста эфебов, посвящают им первую срезанную прядь волос. Таковы, помимо вышеназванных, Кефис для Афин, Исмен для Фив, Инах для Аргоса. Будучи кормильцами всей страны, они влияют таинственным образом и на человеческий урожай — к ним обращаются бездетные родители с мольбой о потомстве. Но речной бог не только в мирное время кормилец своих граждан, он и в военное был для них оплотом, притом не только физическим, но и религиозным. Как ни мала речушка Инах, все-таки спартанский полководец Клеомен, идя походом на Аргос, не решился переправиться через нее, когда бог реки после многих жертвоприношений не дал ему на это своего согласия.
Своим божеством живет и роща, — и притом не только как таковая, но и в лице отдельных деревьев. И здесь мы имеем нимф, древесных нимф, дриад; они счастливы тем, что их много: в лунные ночи они покидают свои деревья и сплетаются в хоровод под предводительством своей повелительницы, богини рощ Артемиды. Но божественно и одинокое дерево, если оно могуче и прекрасно — таков тот чинар на берегу афинского Илисса, под которым некогда отдыхали, по словам Платона, Сократ и Федр: «Как он раскидист и высок, этот чинар, как высок и тенист и растущий под ним агнец; он в полном расцвете теперь, наполняя все это место благовонием. И что за чудный родник течет под чинаром! Как холодна его вода — и ногам заметно. Куколки привешены и другие приношения — видно, здесь святыня нимф или Ахелоя».
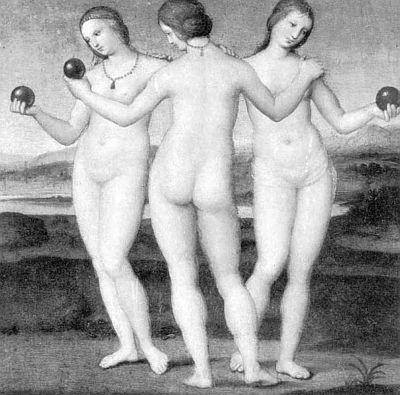 |
Рафаэль. Три грации. Холст (ок. 1500 г.).
За ласку надо платить лаской, а это ли не ласка — прохладная тень в знойную пору, приветливый шелест подвижных листьев, пение… если не всегда птичек, то хоть милых греческому сердцу цикад. Во всем этом чувствуется любовь; а где любовь, там и бог.
Но нимфы знают и другую любовь. Ведь роща, лес — это вечное, неустанное плодотворение, созидание той физической жизни, которой живет природа. И для эллина его нимфа — это неустанная оплодотворяемость, неустанная любовная игра с шаловливыми представителями оплодотворяющего начала леса, с сатирами, — а иногда и с тем высшим богом, который из верховного бога-творца и оплодотворителя у себя в Аркадии превратился для прочей Греции в бога-странника, ласкового и беспечного Гермеса. Это уже к смертным не относится… а впрочем, есть исключения. Бывает, что и смертный за свою красоту удостоится ласки божественной нимфы: рассказывают это, между прочим, про одного прекрасного пастуха, Дафниса. Не впрок пошла ему любовь богини: он осмелился изменить ей ради смертной, за что, слепец, и был наказан действительной слепотой. И когда в роще, на поляне находили младенца дивной красоты и силы — невежды терялись в догадках и сплетнях, но опытные старушки знали, что это дитя нимфы.
А выше и выше — на Гиметте, Пентеликоне — уже нет лесов и деревьев, туда только козы заходят щипать колючую зелень, пробивающуюся между белыми глыбами известняка. Там все чаще и чаще виднеются голые громады скал с их причудливыми выступами и пещерами. Это царство нимф-ореад, обитательниц горных пустынь. Там, в пещерах, они ткут свои тонкие, невидимые ткани, сопровождая песней работу; никто из смертных не дерзнет их подслушать и подглядеть, но станки можно видеть днем, войдя в их пещеру — разумеется, после надлежащей молитвы. Им приятны и другие знаки внимания — намащение елеем выступа скалы, прикрепление повязки, скромное жертвоприношение на алтаре у входа в пещеру. Они не останутся в долгу; кто же, как не они, бережет драгоценный источник, бьющий на вершине? Кто, как не они, не дает заблудиться козочке среди утесов?
 |
А. Карраччи. Полифем и нимфа Галатея. Фреска (ок. 1595 г.).
Впрочем, нет: тут они действительно имеют соперника. Это — гость из Аркадии, сравнительно поздно приобщенный к сонму общегреческих божеств, причудливый дух — хранитель коз, козлоногий Пан. Если мы называем его «богом», то просто потому, что мы этим именем называем всякое могучее, бессмертное существо; на деле же мы прекрасно понимаем разницу между ним и великими олимпийскими богами. Позднее дурная совесть религии, порвавшей с природой и Матерью-землей, превратила его в беса; но мы его любим и уважаем, ласкового горного бога со звонкой свирелью. Правда, мы знаем за ним и немало причуд, даже не считая тех, о которых могли бы рассказать его соседки, нимфы-ореады. В полдень он изволит почивать (это — «час Пана»), и горе тому неосторожному пастуху, который вздумал бы в это время забавляться игрой на свирели. Как высунет потревоженный свою косматую голову из-за утеса, как рявкнет на всю гору — помчатся вниз по камням испуганные козы, сбивая с ног и друг дружку, и оторопевшего пастуха. Да, долго будет он помнить Пана и его «панический» страх!
Божественна земля, но божественно и море. Для эллина оно важнее, чем для какого-либо другого народа, даже приморского: оно ведь не просто омывает его побережья, оно любовно вливается в его землю бесчисленными заливами и проливами, освежая ее и создавая повсюду удобные пути сообщения. Зато и сроднились с ним эллины: каждый из них — прирожденный пловец и моряк. Велика поэтому честь, которую они воздают богу морей Посейдону и его супруге Амфитрите, обитающей глубоко под голубой гладью и властвующей надо всеми рыбами и крабами и прочими причудливыми и чудовищными жителями ее влажного царства. Все же Посейдон — не просто стихийное божество, он — почтенный член олимпийской семьи, и о нем у нас еще будет речь.
 |
М. Кавальори. Посейдон и его колесница. Холст (ок. 1500 г.).
Непосредственно с морем связаны его нимфы, нереиды, «олицетворения ласковых морских волн», как некогда будут сухо и глупо говорить. «Олицетворения»! Никогда, конечно, не сподобятся эти люди увидеть воочию их самих, среброногих, как они резвятся в ясный день взапуски с дельфинами и сверкают своими золотыми кудрями по гребням волн. Это великая милость, но все же еще ничто в сравнении с той, которую они оказывают своим избранникам, подобно той Фетиде, которая осчастливила своей любовью Пелея и, богиня, родила ему прекраснейшего и доблестнейшего в мире сына, Ахилла. Об этом простому смертному мечтать нечего; он молит могучих богинь о счастливом плавании и не забудет воздать им установленную дань благодарности посвящением и жертвой.
Нереиды — нимфы моря; есть в нем, однако, и свои сатиры. Это тритоны, юноши с рыбьими хвостами. С ними лучше не заводить знакомства; они, как скажут те же умники, «олицетворения разъяренных волн». Бывает, заволокут тучи синеву неба, зловещей черною рябью подернется море — вдруг что-то вдали громко, протяжно загудит… Это тритоны дуют в свои раковины; это — наигрыш к предстоящей буре. Тогда, пловцы, долой паруса, налегайте на весла — и в то же время усердно молитесь и Посейдону, и нереидам, и спасителям на море, близнецам-Диоскурам. Будут услышаны ваши молитвы, засияют на обоих концах реи два слабых огонька — это они и есть, божественные Диоскуры, они предвещают вам спасение.
Есть, затем, в море и свой Пан: это — Протей, пастух стада причудливых морей и сам великий чудак. О его образе трудно говорить: он его меняет беспрестанно, подобно самому морю, но чаще всего это — просто морской дед. О его странностях знает его дочь Идофея — дочь не особенно почтительная, но зато ласковая для пловцов. Такова же и Левкофея, тоже морская богиня, некогда обиженная женщина Ино… Кое-где в Элладе справляются вакхические таинства в ее честь, но в Аттике она более известна из Гомера как добрая спасительница Одиссея.
 |
П. Клодион. Нимфа.
Затем — кто испытывал неотразимость морских чар в ясный день, когда и солнце играет, и волна тихо плещет, и неудержимо хочется окунуться в эту голубую гладь, — тот знает тоже морское божество Главка. Есть еще другая тоска, роковая — когда тебя после долгой борьбы уже залили волны, и твои руки опустились, и в ушах звенит томный призыв к успокаивающей смерти. Это поют сирены на далекой пустынной скале, среди бушующих валов; не дай бог никому услышать их песнь!
И наконец, третья стихия — небо. Зовут его Ураном, но это имя не возбуждает в нас религиозного чувства. Богословы говорят, что его некогда выделила из себя предвечная Мать-земля, что он стал ее оплодотворяющим началом, произведшим с ней титанов и титанид, что под конец ей стало тесно от собственных порождений и по ее просьбе младший из титанов, Кронос, лишил своего родителя его оплодотворяющей силы — таков был первородный грех небожителей. Для нас эти домыслы необязательны; несомненный владыка неба — это Зевс, сын Кроноса. Его сущность далеко не исчерпывается его значением как бога природы, но здесь идет речь только о Зевсе-«тучегонителе», собирающем грозу на омраченном небе, о Зевсе-«громовержце», бросающем свой огненный перун на выступы земли, в высокие деревья и здания, во все слишком высокое, к вящему назиданию для смертных. Его прежде всего должно ублажать молитвой и жертвой… Жертвой! Но как? Небо — не земля и не море, его не коснется дарящая рука. Да, мы были бы вечно разобщены с царем эфира, если бы друг человечества, титан Прометей, не принес нам тайно небесного огня. Огонь стремится обратно в свою небесную обитель, он возносится к ней в виде летучего дыма — пусть же он унесет с собой и дым, и чад нашей жертвы. Огненная жертва — настоящая дань небесным богам.
В божественном небе божественны и его обитатели, и прежде всего, конечно, его великие светила, Гелиос-солнце и Селена-луна. О природе Гелиоса общепринятых убеждений нет. Многие думают и поныне, что это — божественный юноша, разъезжающий на золотой колеснице по небесной «тверди», и что тот ослепительный свет, который мы видим — именно сияние ее кузова. Загадкой является, как это он, заходя на западе, поднимается с востока; раньше думали, что он ночью совершает переезд обратно на восток по кругосветной реке Океан, но теперь достаточно удостоверено, что он вместе с прочими светилами погружается под горизонт и во время нашей ночи освещает обитель блаженных на отвращенном от нас облике нашей земли. Для нас Гелиос прежде всего — бог очищающий; как его ярые лучи обезвреживают своей палящей силой всякий тлен, так и его дух разгоняет всякую скверну, всякое наваждение ночных страхов. Мы встречаем его приветствием и молитвой при восходе и рассказываем ему привидевшиеся нам тревожные сны, чтобы он очистил от них нашу душу.
 |
Гера и Гелиос. Иллюстрация к «Сказаниям Ливия» (1885 г.).
Селену мы уважаем и любим за то, что она освещает нам ночи своим ласковым светом; по ней мы считаем дни нашей жизни, исправно начиная каждый месяц с новолуния и кончая им же. Он распадается поэтому на время растущей, время полной и время ущербной луны — приблизительно по десяти дней. Влюбленным предоставляется, сверх того, поверять ей свои радостные и горестные тайны: она, добрая, не откажет им в совете. О дальнейшей ее силе можно спросить колдуний, особенно фессалийских, которые своими песнями умеют сводить Селену с ее небесной стези и заставлять служить своим чарам, это — область нечестия, справедливо преследуемого в благоустроенных государствах.
 |
Н. Пуссен. Селена и Эндимион. Холст (ок. 1650 г.).
Полно чудес ночное небо… Вот «вечерняя звезда» Геспер, прекраснейшая из звезд, «сопрестольница Афродиты» — почему, знают те же влюбленные. Вот семизвездие Плеяд; это как бы небесные нимфы. Они как «голубицы» приносят Зевсу амброзию; они же и прекрасные богини, дочери титана Атланта, супруги богов, как та Майя, которая родила Зевсу Гермеса на вершине Киллены. Вот Большая Медведица, в нее Зевс обратил свою избранницу, нимфу Каллисто, которую перед тем ревнивая Гера превратила в дикое четвероногое того же имени. Не понравилась небесной царице эта почесть, оказанная ее сопернице, и она выговорила у бога кругосветной реки Океан, чтобы он не разрешил ей освежать себя погружением в его светлые струи. Вот Арктур, или Боот: он приставлен охранять Медведицу. Вот Орион: это страстный любовник, осмелившийся посягнуть на Артемиду. И много, много таких рассказов ходит про значение таинственных фигур, в которые собираются небесные звезды; но все это — «поэтическая религия», скорее игра воображения, чем предмет веры. Исключение составляют только небесные Близнецы — Диоскуры, Кастор и Полидевк: когда после морской бури тучи разрываются и на лоскутке ночной синевы показывается приветливый свет этих двух звезд — пловец с горячей благодарностью возносит к ним свои руки: он спасен этим появлением своих всегдашних заступников.
Говоря о небесных явлениях, нельзя умолчать и о ветрах: они тоже божественны. Их различают по направлению и соответственно характеризуют: «загорный» ветер Борей приносит стужу, но зато разгоняет тучи; в Аттике он пользовался особым почетом, так как дул из Фракии, на которую у этого государства были особые политические виды. Его противник, Нот, дует с раскаленных пустынь Африки и, проносясь над морем, забирает с собой его влагу, которую и опускает в виде дождя. Западный, Зефир, в Греции не имеет обязательно того значения весеннего ветра, которое ему придали римляне; это, скорее, — ветер страстный и бурный, так же, как и его противник, восточный Евр. Повелевает ветрами Эол; сам Эол не бог, но боги ему подвластны.
 |
Нот. Иллюстрация к «Словарю античности» (1895 г.).
 |
Зефир. Иллюстрация к «Словарю античности» (1895 г.).
С римской религией в ее древнейшем виде мы знакомимся по списку праздников, который составлен был еще в то время, когда ни одно греческое божество не получило места среди римских. Первое место занимают в нем праздники Юпитера и Марса, затем идут праздники земледельческие и винодельческие, за ними уже пастушеские: приносились жертвы кормилице-земле, богине плодородия Церере, богине размножения стад, божеству изобилия, Юпитеру как покровителю виноделия, покровителю стад, совершались праздники в честь морских богов, в честь Тибра, в честь бога огня Вулкана, наконец, справлялся ряд домашних праздников: богини дома Весты, Пенатов, умерших и т. д.
В то время как греки представляли себе всякое божество личностью, наделяли его ярко определенною индивидуальностью и около каждого бога создавали целый цикл глубоких и поэтических мифов, римляне старались выяснить себе все сколько-нибудь значительные явления, действия, свойства и затем, признав за каждым из них своего бога, стремились только узнать, как именно к этому богу обращаться, чтобы вернее и легче склонить его на свою сторону. Римская религия была отмечена характером задушевности и искренности, но не отличалась возвышенностью, идеальных элементов в ней немного, совершенно чуждо римлянам и обожествление героев. Идея, что земные преступления суть проступки пред божеством и что божество примиряется только с наказанием преступника, была распространена и у римлян, но человеческих жертвоприношений, общих другим народам, у них не было — только слабые следы таких жертвоприношений можно видеть в некоторых примерах казни уже обвиненных преступников и в тех случаях, когда в битве какой-нибудь великодушный человек бросался на верную смерть, которая должна была привлечь на сторону его войска милость богов.
Римская религия была основана главным образом на привязанности к земным благам и уже в гораздо меньшей степени на страхе пред грозными силами природы. Боги внушали римлянину и страх, но не тот, который охватывает душу при мысли о всемогущей природе или вседержащем божестве. Римлянин искал от своих богов помощи, но прежде всего помощи в своей действительной, трудовой жизни. Римлянин как бы вступал в договор с божеством и ждал, что боги будут к нему благосклонны в каждом случае, когда он со своей стороны точно и добросовестно исполнит пред ними свои обещания и обязательства. Римлянин и старался их исполнить, но и тут он оставался точным и деловитым: ни излишняя роскошь богослужения и жертвоприношений, ни излишняя фантазия в поклонении не были в духе римлян.
Для исполнения всего нужного по отношению к богам у римлян издревле существовали жрецы и особые их коллегии для служения Марсу и Юпитеру — «Марсов возжигатель», «скакуны», «куриальные возжигатели» и «возжигатели Юпитера», получившие впоследствии первое место. Наряду с жрецами у римлян существовали еще авгуры, понтифики, фециалы: это были совершенно самобытные латинские учреждения, представлявшие собою коллегии сведущих людей, специально занятых общими богослужебными порядками, изучением способов, как лучше всего сноситься с богами, понимать их волю и знамения. Эти люди не служили богам, не приносили жертв, но они учились истолковывать, что предвещают те или другие явления, наблюдавшиеся при жертвоприношении; когда угодно божеству начало того или другого предприятия. В частности, авгуры занимались гаданием по полету птиц, понтифики были хранителями точных знаний — мер, весов, счисления времени, почему впоследствии на них было возложено вообще наблюдение за богослужебными порядками, фециалы хранили международные договоры и законы. Ни один жрец, ни один понтифик не мог никогда претендовать на какое-либо значение в делах управления, они могли советовать лишь тогда, когда их спрашивали, и были обязаны наравне со всеми гражданами повиноваться должностным лицам.
 |
Юнона с диадемой. Мрамор (ок. 200 г. до н. э.).
Римская религия, в противоположность греческой, не только не содействовала развитию художественной и философской деятельности, но подавляла их. Неолицетворенные римские боги не нуждались в художественных изображениях, и когда такие изображения появились, они были встречены первое время с осуждением. Отсутствие всякого творчества, всякой фантазии в сфере религиозной было причиной, что и впоследствии фантазия не развивалась и римская поэзия и римская философия никогда не поднялись над уровнем посредственности. Но римская религия именно потому, что была низведена к обыденным понятиям, была для всякого понятна и доступна. Она удовлетворяла глубоким духовным потребностям простых людей и благодаря своей простоте и наивности держалась твердо даже и тогда, когда греки утратили всякую веру, разрушенную тем самым развитием наук, искусств и философии, которое было призвано к жизни прежде всего творчеством в области религии. Насколько греки остаются недосягаемым образцом всестороннего развития человеческого духа — настолько римляне велики строго самобытным развитием своего духовного уклада. Римская религия не была исключительна и не препятствовала усвоению и чужих богов: уже в самой глубокой древности у римлян распространилось поклонение разным латинским богам, а затем и греческим — Аполлону, Гермесу, Геркулесу, Асклепию, Артемиде-Диане.
 |
Статуэтка бога Лара. Бронза (I в. н. э.).
И если читатель утомился, присматриваясь к отдельным частям этой божественной природы, пусть он теперь соберет свои впечатления, пусть сосредоточит свое чувство благоговения на двух великих господствующих началах — отце Зевсе и матери Земле. В них основной, изначальный дуализм греческой религии. Там — оплодотворяющая, здесь — оплодотворяемая сила; их влечение друг к другу — та предвечная святая любовь, тот Эрот, который создал всю жизнь живого мира, первообраз и оправдание также и человеческой любви.
так защищает Афродита у Эсхила смертную любовь к Линкею Гипермнестры, нарушившей строгий наказ своего отца. Да, небо оплодотворяет землю — светом и дождем; оно — вечно мужское, она — вечно женское начало. Греческий язык вполне отчетливо выразил это отношение — у него υρανοσ мужского, γαία женского рода — гораздо отчетливее, чем латинский (coelum — ср. р.) и славянский (небо — ср. р.); хотя, с другой стороны, «земля» во всех индоевропейских языках женского рода. И если что-либо способно доказать непостижимость египетской религии для нашего чувства, то это то, что там, наоборот, земля — бог, а небо — богиня. Почему, однако, Эсхил называет мировым оплодотворителем Небо (Урана), а не Зевса? Он мог смело назвать и последнего: и индийские, и латинские, и германские аналогии доказывают нам, что первоначальное значение имени Ζευσ и есть «небо».[16] Когда-то дуализм Зевса и Земли чувствовался особенно сильно в греческой религии; на нем основаны ее древнейшие и прекраснейшие мифы, и еще знаменитый догмат Сивиллы в Додоне признает его:
Но как для непосредственного чувства человека родившая и вскормившая его мать физически ближе, чем косвенный виновник его жизни, отец — так и из обоих космических родителей жизни отец рано одухотворился, в непосредственной близости к сознанию людей пребывала только она, мать-земля.
Она древнейшая в сонме олимпийских богов; много храмов построила ей Греция, просто как Матери (Μετερ) — в Афинах, в Олимпии — задолго до того, как из Малой Азии был принесен культ родственной, но все же варварской богини, Великой матери богов, или Кибелы. Изображали ее полногрудой женщиной материнского облика, лишь верхней половиной своего тела возникающей из своей родной стихии.
И эллин питал истинно сыновние чувства к этой своей родительнице и кормилице — и любовь, и почтение — в такой степени, которая непостижима для сознания современного человека. Конечно, и мы способны пойти в бой за родную землю; но что этот «физический патриотизм» в сравнении с тем, который воодушевлял эллина при мысли о его матери-земле, с тем, который нашел себе выражение в дивных стихах Эсхила:
 |
Богиня-мать. Малоазийская статуэтка (I тыс. до н. э.).
Земля — это больше, чем народ, ибо она — зародыш жизни всех потомков ныне живущего народа. Эллину этот глубоко правильный и благодетельный догмат был дан его непосредственным религиозным чувством.
Удивительна ли после этого та гордость, которую испытывали афиняне при мысли, что они «автохтоны», т. е. что их предки были в буквальном смысле рождены той землей, которую они поныне населяют? Эта мысль обязательно встречается в каждом хвалебном слове в честь Афин, и в стихах, и в прозе — видно, как она была дорога гражданам Аттики. И не случайно был афинянином и тот мыслитель, который облек ее в форму философского учения, — правда, распространяя ее на все человечество, — Эпикур. Мать-земля теперь уже отражалась, она более не производит ни людей, ни других живых существ, кроме низких пород. Но в пору ее плодовитой молодости было иначе: тогда она произвела и первых людей непосредственно из своего лона. И тотчас после этого акта рождения в ней произошло то же явление, что и в теле родительницы-женщины: избыток соков обратился в молоко, повсюду возникли бугры, из которых полились живительные струи для новорожденного.
И понятно также, что под любовной опекой своей матери, окруженный ее участливыми детьми, эллин никогда не чувствовал себя одиноким: он не знал того безотрадного чувства покинутости, которое так часто испытывает современный человек как заслуженную кару за свою неблагодарность и свое нечестье. Приведем один пример среди многих. Напомним участь Филоктета. Брошенный своими товарищами на пустынном острове Лемносе, хромой, с вечной болью незаживающей раны в ноге — казалось, что могло быть несчастнее? А между тем посмотрите, как он после десяти лет томления в этой пустыне с ней прощается — причем понимать каждое слово следует бесхитростно, в его буквальном смысле.
Но это чувство осиротелости было только одной карой матери ее отступникам-сынам; страшнее была другая.
Прямою противоположностью эллинам был древний Израиль. Ведомый богом Саваофом, он пришел чужестранцем и завоевателем в свою «обетованную страну». Он не знал сыновних отношений к этой земле, которая никогда не была ему матерью — ее населяли злые духи. И это свое властное, хищническое отношение к земле он привил и тем религиям, которые отчасти от него пошли, христианству и исламу; земля из матери стала рабой — покорной, но и мстительной. Правда, христианство еще не дерзнуло быть палачом земли — слишком могуч был в нем другой, античный корень. Но поистине ужасным было опустошительное действие ислама. Пусть читатель справится в античных источниках, какими цветущими землями были в эпоху греко-римской культуры Малая Азия, «страна пятисот городов», Сирия, северная Африка — и пусть он вспомнит, чем они стали теперь. Поистине эта огромная область «богом сожжена»; античные боги ее любовно берегли.
Деметра Элевсинская, мать Коры, владычица таинств — кем была она с точки зрения той религии природы, которая, если не совпадала вполне с древнегреческой религией, то, во всяком случае, составляла значительную ее часть? Вдумчивый эллин несомненно ответил бы: «это — мать-земля», — как это и сделал Еврипид устами своего пророка Тиресия:
Но это толкование, как и вообще религиозные толкования в Древней Греции, не было обязательным, и какой-нибудь другой богослов мог бы оспорить его довольно вескими соображениями, ссылаясь и на миф, и на земледельческий характер культа. В мифе Земля тоже выступает, но, скорее, как противница Деметры: это она производит, «угождая Аиду», тот волшебный нарцисс, обладание которым отдает Кору похитителю; а если отождествлять мать-землю с Реей, матерью и Деметры, и Аида, и самого Зевса — как это делали многие, — то ведь и Рея выступала в мифе отдельно, как примирительница в споре своих детей. Земледельческий же характер культа заставлял видеть в Деметре богиню хлебопашества, т. е. той человеческой деятельности, которая насиловала мать-землю, заставляя ее против своей воли служить человеку своими дарами.
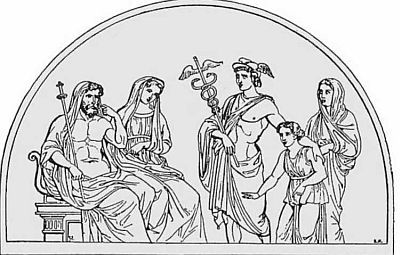 |
Аид, Персефона и психопомп Гермес. Иллюстрация к «Словарю античности» (1895 г.).
На деле греческая религия переросла старинную религию природы, почему Деметра и оставила далеко за собой тот символический образ, с которым она некогда была тождественна; но все же он и впредь оставался ей родственным. Мы стали бы бесплодно тратить время, стараясь разобраться в том, в чем уже эллины цветущей эпохи разобраться не могли; здесь достаточно будет отметить, что Деметра сознавалась как богиня, если не обязательно тождественная с матерью-землей, то, во всяком случае, родственная и поэтому тяготеющая к слиянию с нею.
Но мы должны пойти дальше: даже символический образ Матери-Земли не един, даже он существует в мифах и, в особенности, в культах в двух, так сказать, ипостасях: как Мать и как Земля. Понятно, что эти две ипостаси и подавно сознаются как родственные и поэтому тяготеющие к слиянию; но все же и мифы, и культы их разъединили. Мы здесь оставляем пока в стороне Землю, всецело коренящуюся в религии природы; займемся только Богиней-матерью. Ее культ принадлежит к самым запутанным проблемам древнегреческой религии. С одной стороны, мы должны различать чисто греческую Богиню-мать; ее нам представляет уже доисторическая критская культура II, если не III тысячелетия: это — женская фигура на вершине горы с копьем в руке, по обе ее стороны стоят львы, вблизи — символы критского Зевса, перед ней — адорант в экстатической позе. Так как Крит и позднее считался родиной Зевса и местом культа его матери Реи, то соблазнительно присвоить это имя безыменной, как и все доисторические фигуры, древнекритской богине львов, особенно, если согласиться с тем, что само имя Реи означает «горную» богиню; но этим создаются известные трудности. Эта Богиня-мать, но не под именем отличаемой от нее Реи, и в раннее историческое время пользовалась культом в Греции; в Афинах, как и в Олимпии, ей были посвящены старинные храмы, Μετροα, из коих афинский служил государственным архивом, и благочестивый Пиндар выстроил ей капище у своего дома, в котором он чествовал ее вместе с божествами природы, Паном и нимфами.
От греческой Богини-матери мы должны отличать азиатскую, чтимую в Греции и греками под тем же именем. В самом чистом, но именно азиатском виде, ее культ правился в Пессинунте, в той области анатолийской Фригии, которая в III в. была занята пришлыми галльскими племенами; но на религиозном сознании коренной Греции этот азиатский образ с окружающим его своеобразным культом долгое время действовал не непосредственно, а через свои сильно эллинизованные претворения в греческой Азии. С чрезвычайной опаской подходим мы к этому вопросу: свидетельства о культе матери в греческих колониях Анатолии многочисленны, но очень лаконичны. Они большей частью устанавливают только наличие в данной общине нашего культа, ничего не говоря ни о его характере, ни подавно о его филиации с пессинунтской матерью, с одной стороны, и с ее культами в коренной Греции, с другой. Оставляя в стороне тернистый и неблагодарный путь культо-исторического и культо-топографического исследования, которому здесь не место, ограничимся общей характеристикой религии этой азиатско-греческой матери, средней между чисто греческой и чисто азиатской — той, которую знала коренная Греция V и IV вв.
Эта азиатско-греческая мать, называемая иногда, подобно своему пессинунтскому первообразу, Кибелой, представлялась все превосходящей по своему могуществу богиней, как и подобало той, которая родила Зевса; это к ней относится молитва хора в «Филоктете» Софокла:
Таинственный символ заклания быка — точнее, растерзания быка львом — проходит через всю греческую религию от ее зародышей до позднейших времен, поскольку она находилась под азиатским влиянием; что он означает здесь, тщетно спрашивать — это было одной из тайн мистического культа. Непосвященные знали только, что торжествующий над быком лев сам был покорен Великой Матери: прирученный, он ластился к ее ногам, смирно лежал на ее коленях, — но еще чаще пара или четверка этих хищников везла колесницу, на которой разъезжала их повелительница — Одна? В Греции — да; но если она и сидела в недостижимом величии, одинокая, на своей чудесной колеснице, то ее окружали демонические прислужники — корибанты. Кто они — опять тщетно спрашивать; их роль напоминает роль сатиров в оргиастическом культе Диониса: но в то время как наше почтение к божественности сатиров приправлено доброй долей насмешливости, по отношению к корибантам никакой юмор неуместен: их впечатление — безумие и ужас. Не обрадуется тот, кого в безлюдии встретит Царица гор со своею шумною свитою корибантов: не скоро вернется к нему спугнутый их внезапным появлением разум. Правда, и здесь «ранивший исцеляет»: чтобы вылечить обезумевшего, прибегали к помощи корибантов. Сами они, конечно, на зов не являлись; их заменяли «корибантствующие», смертные жрецы или священнослужители Великой Матери. Обступив связанного и осененного покровом больного, они плясали вокруг него, сопровождая свою пляску оглушительной музыкой на кимвалах и тимпанах. Эта дикая пляска должна была вызвать в больном искусственный экстаз, а затем, по охлаждении пыла, вместе с этим новым безумием его покидало и прежнее — так, по крайней мере, надеялись.
 |
Тавроболия. Роспись на греческой амфоре.
Этой надежде культ Великой Матери был обязан значительной частью своей популярности. Как видно из сказанного, он был экстатическим: «оргии» Великой Матери упоминаются в литературе. Были ли они оргиями также и в нашем смысле слова? Об этом знали точнее справлявшие их, но слава их была не безукоризненна, и законодательница пифагореизма Финтия не допускала для порядочных женщин участия в мистериях Великой Матери. Действительно, оргиастический культ был в то же время и мистическим, т. е. участие в нем обусловливалось предварительным посвящением; это его сближало, с одной стороны, с элевсинским, с другой стороны — с дионисийским. С первым он разделял особу центральной богини, нередко отождествляемой с Деметрой; но больше точек сближения было со вторым. Уже упоминалось о сходстве корибантов с сатирами; но и весь оргиазм, весь орхестически-музыкальный элемент был общей чертой обоих культов. Еврипид полагал даже, что тимпаны от культа Матери попали в культ Диониса; и действительно, там они были исконны. Сама Мать часто изображается с тимпаном в руке.
Прибавим, раз речь зашла об изображениях, что она изображается сидящей на престоле; легко понять происхождение этого воззрения от представления о ней как об обожествленной Земле. Во всяком случае, это сидение и этот престол для нее характерны; посвященные ей обрядовые песни называются «престольными»: таковые для нее сочинял Пиндар, тот самый, который основал ее культ у себя в Фивах. На то же родство с обожествленной Землей указывает и ее головной убор — цилиндрический сосуд, первоначально — хлебная мера, характеризующий ее как богиню плодородия и урожая. Из этого сосуда развился со временем стенной венец; мать Кибела стала богиней-покровительницей укрепленных городов.
Таковы положительные черты, отличающие эту азиатско-греческую Кибелу, с одной стороны, от чисто греческой Матери, с другой — от чисто азиатской; на практике пограничная линия не везде проходила достаточно четко. Зато одна отрицательная черта резко отличает греко-азиатскую Кибелу V–IV вв. от ее пессинунтского первообраза; это — отсутствие рядом с ней ее пессинунтского спутника, Аттиса. Огромное значение этой разницы станет для читателя ясным, когда он познакомится с этой культовой личностью и с той своеобразной обрядностью, которая с нею сопряжена.
Но до Пессинунта нам еще далеко; вступая на почву Анатолии, мы первым делом сталкиваемся с культами Матери в ее прочно эллинизованной части, и прежде всего — в Троаде. Вышеприведенная молитва Софокла обращена именно к троянской Матери, хотя поэт и называет ее имя рядом с именем золотоносной реки, омывающей лидийскую столицу Сарды. И здесь нас положительно дразнят совпадения с далеким Критом, не объясняемые сколько-нибудь ясными для нас путями культового общения между обеими странами. Возвышающаяся над Троей гора Ида дала имя «Идейской матери»; но Иду, и притом в культовой близости с матерью-Реей, имеем мы и на Крите. Там — корибанты, здесь — куреты, тоже демонические существа, заглушавшие некогда своей шумной пляской и музыкой крик новорожденного Зевса; разницу между ними установить можно, но факт тот, что уже древние их отождествляли. Критскую мать зовут Реей, и она, как «Зевеса матерь самого», заняла прочное место в генеалогиях; положим, имя Реи для Идейской матери в Трое непосредственно не засвидетельствовано. Но, во-первых, если мы правильно истолковали это имя как «горная», то оно уже заключено в имени Идейской, так как Ида означает именно «лесистая гора» или «нагорный лес». А во-вторых, мы встречаем его в римском отпрыске Идейской богини в Трое, матери близнецов-основателей, Реи Сильвии: ведь и «Сильвия» — не что иное, как перевод греческого Ιδαια, «лесная».
Но вот что еще более поражает: Идейская мать, пусть не Рея, но зато Кибела, согласно свидетельствам греков исторической эпохи — главная богиня Трои; казалось бы, она должна была быть главной покровительницей своего народа в его борьбе с пришлым врагом. Об этой борьбе повествует «Илиада» — и вот, «Илиада» совершенно умалчивает об Идейской матери. Как это объяснить? Должны ли мы допустить, что культ Матери на Иде или под Идой, еще неизвестный Гомеру, был введен в эпоху, отделяющую его от V в.? Но ведь эта эпоха была эпохой усиленной эллинизации анатолийского побережья; возможно ли, чтобы результатом этой эллинизации было введение на Иде азиатского культа, между тем как в гомеровскую эпоху там нераздельно царили боги греческого Олимпа?
Последнее обстоятельство и дает нам, думается, ключ к разгадке. Гомер был великим эллинизатором: как он, лишь скрепя сердце, удерживает местами имя троянской реки Скамандр, оставшееся за нею и поныне, и предпочитает на «языке богов» называть ее Ксанфом, так он, мы можем быть уверены, и троянских богов представляет под их принятыми в Греции именами. С какими же греческими богинями отождествлялась азиатская Мать? Мы можем назвать даже нескольких. Во-первых, Деметру, что после сказанного неудивительно; это отождествление произошло в Кизике, мистерии которого были слиянием элевсинских мистерий с мистериями Великой Матери. Но Деметры Гомер почти не знает; о причинах много спорят, но факт несомненен. Во-вторых, Артемиду; уже давно установлено, что недевственная «великая Артемида Эфесская» — лишь греческая перелицовка местного материнского божества. Артемиду Гомер знает, и притом в ряду сочувствующих Трое богов, но особенно он и ее роли не выдвинул. — Наконец, в-третьих, Афродиту; с нею отождествлял азиатскую Мать историк Харон из Лампсака, что для нас особенно драгоценно ввиду близости Лампсака и Трои. И, конечно, внимательный читатель Гомера не станет сомневаться, что это и есть искомое божество: никто так любовно, так страстно не заступается за обреченный город, как именно она.
Итак, Афродита — Мать? И Мать Идейская? Да, именно Мать — мать Энея, прежде всего, того Энея, который пережил Трою и стал царем-родоначальником Энеадов, сначала под той же Идой, а затем и в других местах, кончая Римом. И именно на Иде; об этом нам расскажет другой Гомер — автор Гомеровского гимна только что названной богине.
 |
Афродита Книдская. Римская копия статуи Праксителя. Мрамор (ок. 340 г. до н. э.).
Не будем только требовать от него особой глубины религиозного чувства: Афродита в его эпоху неизбежно наводила людей на игривые мысли. Да что людей! Самого владыку Олимпа не пощадила она, внушая ему предосудительную страсть то к той, то к другой женщине, на великое огорчение его божественной супруге Гере. Это ей, однако, не сошло безнаказанно: Зевс ее самое заставил испытать такую же участь:
признавая в ней, несмотря на перелицовку, очевидно, не только Афродиту, но и исконную усмирительницу львов. Анхиза она нашла вдали от других пастухов, занятого игрою на кифаре. Он сначала, руководимый верным чувством, принял ее за богиню, но она его разуверила: нет, она дочь Отрея-фригийца, научившаяся говорить по-троянски от своей троянской няни; Гермес ее вырвал из хоровода подруг, чтобы она стала женой его, Анхиза, и родила ему дивных детей. И свершилось заветное дело, согласно страстному желанию обоих:
 |
Ф. Буше. Венера в кузнице Вулкана. Холст (1757 г.).
Афродита утешает его; не будет ему вреда ни от нее, ни от других, так как он любезен богам. Сына, которого ей предстоит родить, она отдаст на воспитание нимфам и через пять лет приведет к нему; но пусть он никому не говорит, кто его мать, иначе Зевс поразит его своим перуном. — Здесь гимн кончается, или, вернее, обрывается; кто его продолжал, мы не знаем, но разумеется, Анхиз не соблюл запрета той, которая удостоила его столь неслыханной милости: за кубком вина он разболтал тайну и был наказан, согласно предостережению. С этой поры он — тот расслабленный старец, которого представил Вергилий во II и III песнях своей «Энеиды».
После падения Трои Эней, сын Анхиза и Афродиты, согласно местному преданию, остался в Троаде под Идой; там и царствовали его потомки, а при них расцвел и культ их богини-родоначальницы, которая вне горизонта гомеровской поэзии, разумеется, сохранила свое исконное имя Матери — Матери Идейской, пожалуй, и Кибелы. Священным мифом этой Матери была ее любовь к пастуху Анхизу и его расслабление; кто этот Анхиз? Этимология на греческой почве (от ανχηι «близко») ничего не объясняет, и ученые, скорее, склонны признать ее «народной этимологией», само же имя — приспособленным к греческой речи фригийским именем. Как же оно звучало по-фригийски? Быть может, и на этот вопрос удастся ответить.
Поселки Энеадов под Идой влачили, по-видимому, довольно жалкое существование в раннеисторическую эпоху, и Идейская мать нам известна гораздо лучше из упоминаний греческих поэтов, чем по непосредственным свидетельствам о ее местном культе. Но не очень далеко от разрушенной Трои, на Пропонтиде, лежал довольно значительный ионийский город Кизик, о котором уже дважды была речь в нашем изложении. Он славился, во-первых, как один из анатолийских центров элевсинского культа Деметры; рассказывали, что Зевс дал его Коре в приданое по случаю ее свадьбы с Аидом, похитившим Кору именно здесь; о ее мистическом имени как Спасительницы уже говорилось. Этот культ элевсинских богинь в Кизике тем более замечателен, что для Милета, его метрополии, он вовсе не засвидетельствован; придется допустить, что он был занесен туда в историческое время прямо из Элевсина, через одного из, по-видимому, многих предшественников вышеупомянутого Мефапа.
 |
Лорд Дейтон. Елена на стенах Трои. Холст (1880 г.).
Причину его занесения нам объяснит, быть может, наличность в Кизике культа Великой Матери, о котором вскользь было упомянуто выше. В его исконности не может быть сомнения: его учреждение приписывается самому Ясону, посетившему со своими аргонавтами эту страну фригийских долионов, задолго, разумеется, до основания в ней города Кизика. Это обстоятельство заставляет внимательнее отнестись к кизикским мифам об аргонавтах; правда, древнейший источник — Аполлоний Родосский (III в. до Р. X.), но на его добросовестность положиться можно. Итак, рассказывается, что аргонавты на пути в Колхиду заехали в страну долионов на Пропонтиде и были радушно приняты ими и их молодым царем Кизиком, сыном Энея и Энеты (двойное созвучие с именем сына Анхиза и Афродиты-Матери на Иде). Все же, вследствие рокового недоразумения между обеими дружинами, возникла битва, в которой пал молодой царь. Ясон с аргонавтами должным образом почтил память погибшего, учредил годичное траурное празднество в его честь, и по этому поводу, можем мы добавить, соединяя две разрозненные у Аполлония ветви предания, учредил также культ Великой Матери, грозной владычицы безумия. Точно так ведь тот же Ясон на Лемносе искупил страшный «лемносский грех» женщин-мужеубийц учреждением у них мистерий кабиров, о которых речь была выше. Нельзя ли, кстати заметим, предположить, что и кизикский культ Великой Матери принял в себя кабирический элемент?
 |
Ж. Реньо. Суд Париса. Холст (1820 г.).
Связь культа героя Кизика с культом Матери нам кажется несомненной: они объединяются личностью мифического основателя Ясона. А если так, то интересно, что рядом с Матерью почитается и юный герой, погибший во цвете лет, и почитается плачем. Кизиком он называется, разумеется, только здесь, в том городе, который якобы был назван в его честь: его исконное имя, как спутника Великой матери, должно было быть другим.
Об этом кизикском культе Матери мы еще нечто узнаем и притом для нас очень интересное. Скиф Анахарсис, рассказывает Геродот, «объездив значительную часть земли и усердно приобщившись ее мудрости, возвращался в свою родную Скифию. Плывя через Геллеспонт, он останавливается в Кизике. Случилось, что как раз тогда кизикцы очень торжественно справляли праздник в честь Матери богов; и вот Анахарсис дал Матери обет, что если он здравый и невредимый вернется на родину, он справит в честь нее торжество по тому же уставу, по какому его справляли кизикцы, и отпразднует панихиду (т. е. „всенощную“). Когда, поэтому, он вернулся в Скифию, он удалился в так называемую Лесную (а это местность близ Ахиллова ристалища, и она изобилует всякого рода деревьями) — удалившись туда, он справил богине празднество во всей его полноте, имея в руке тимпан и увешавшись священными изображениями. Но вот один из скифов подсмотрел, что он делает, и донес царю Савлию; тот явился сам и, увидев, что Анахарсис действительно делает то, что про него говорили, убил его выстрелом из лука».
Греческий историк приводит это предание в доказательство нетерпимости, с которой скифы относились к чужестранным, особенно же к греческим, обычаям; мы бы его охотно спросили о другом. Был ли кизикский культ Матери мистическим? В пользу этого говорит аналогия, затем таинственность, с которой его справляет Анахарсис в Скифии (хотя тут возможно и другое объяснение), тимпан и священные изображения. Правда, пришлось бы допустить, что скифский путешественник в свою краткую и, по-видимому, случайную побывку в Кизике дал себя посвятить; но это вполне возможно. На приобщение кабирических элементов указывает одна подробность: обет Анахарсиса на случай невредимого возвращения домой — а возвращался он морем; мы знаем, что кабирические мистерии обещали посвященным именно счастливое плавание на море; этому обстоятельству они и были обязаны своей популярностью среди моряков. И еще хотели бы мы узнать, в каких отношениях находился этот мистический культ Матери с мистическим же культом Деметры и Коры; что заставило кизикцев, уже обладавших первым, еще послать в Элевсин за вторым? На этот вопрос мы никакого ответа не получаем и должны удовольствоваться самим фактом существования обоих. Деметра и траур по Коре — Великая Мать и траур по Кизику: там — воссоединение и «лучшая участь», а здесь?
Еще отметим, что и кизикская мать, подобно Идейской, была «горной»: она так и называется Идейской также и в Кизике (а насколько это считалось важным, видно из того, что Анахарсис в Скифии, где гор нет, справлял свое празднество в «Лесной»), но еще популярнее было ее прозвище «Диндимена», по имени горы Диндима, возвышающейся над Кизиком. Так же называлась и пессинунтская гора; ясно, что и имя горы вместе с самим культом было занесено в Кизик из Пессинунта, вероятно, задолго до основания там греческой колонии. Но если так, то как же могло явиться предание, что культ был учрежден Ясоном? Очень вероятно, что этот «Ясон» был не столько учредителем самого культа, сколько соединителем с ним тех кабирических элементов, о которых была речь; недаром Аполлоний причиной учреждения выставляет бурю, мешавшую отправлению аргонавтов. Другими словами, в «Ясоне» придется признать первого пророка-эллинизатора пессинунтского культа… А вторым, быть может, был тот, который перенес в Кизик культ элевсинской Деметры? Быть может; догадка дозволена, не следует только выдавать ее за факт. Мы еще не кончили нашего изложения; возможно, что в дальнейшем некоторые вопросы получат и более определенные ответы.
 |
Афродита и Пан. Мрамор (III в. до н. э.).
И вот, наконец, мы в Пессинунте; от Матери-Афродиты и Матери-Деметры переходим к их первообразу, к Матери-Кибеле, как гласит ее исконное имя. Пессинунт — город жрецов, подобно Мекке или Лхасе, управляемый старшим из жреческой коллегии, своего рода далай-ламой. Политические перевороты оказались бессильными перед этой сакральной организацией; даже дикие галлы, занявшие всю страну, преклонились перед таинственным обаянием святыни, покорившей их — быть может, своей непонятностью, но, быть может, и тем, что она напомнила им друидов их далекой родины.
Итак, величественный храм странной азиатской архитектуры и посад при нем, кругом горы — Агд, Диндим. Посад омывает речка по имени Галл, она после короткого течения вливается в реку Сангарий, сохранившую свое фригийское имя. Мы в самой родине религиозного экстаза, в самом сердце Анатолии, проявившем свою чрезмерную чуткость и в «пепузских святых» раннего христианства, и в мусульманском дервишизме. Но эта чуткость не была эллинской; и полезно предупредить читателя, что ему предстоит познакомиться с новым и отталкивающим проявлением религиозного чувства и в мифах и в обрядах.
Сексуализм сам по себе — неизбежное последствие антропоморфизма, соединенного с многобожием; мы имели его и в древнегреческой религии, но в его здоровой форме, соответствующей человеческому браку как условию деторождения. Эротизм в нем первоначально отсутствовал и был введен лишь поэтами в виде вящего очеловечения мифа. Не то имеем мы в семитических религиях: они — за почетным исключением древнего Израиля — широко отворяют двери эротическому сексуализму, и притом извращенному, как в его избыточно положительной форме религиозной проституции, так и в избыточно отрицательной форме религиозного скопчества. Здесь будет речь о последнем.
Сила Зевса во время его сна стекает на землю; оплодотворенная Земля рождает страшное двуполое существо, получившее от места своего рождения, горы Агда, имя Агдистис. Его разрушительная удаль заставила богов принять меры; по их постановлению, Дионис налил вина в источник, из которого чудовище утоляло свою жажду, последствием чего был глубокий сон опьяненного. Тогда Дионис тонкой веревкой привязал его мужской детородный член к его же ноге, так что оно, проснувшись, сильным и быстрым движением само себя оскопляет.
Из просочившейся на землю крови вырастает миндальное дерево; один его плод срывает Нана, дочь речного бога Сангария, и прячет в своем лоне. Миндаль внезапно исчезает, Нана же становится беременной и рождает дитя — Аттиса. Аттис расцветает юношей неземной красоты; Агдистис, теперь уже только женщина, влюбляется в него, делает его своим товарищем на охотах и вообще всюду берет его с собой. Но и царь страны, Мидас, обращает на него внимание и назначает его мужем своей дочери — Ии, как ее называют некоторые источники. Во время свадьбы врывается ревнивая Агдистис; при ее виде всеми овладевает безумие. Аттис схватывает свирель Агдистис, бежит в горы и там под сосной сам себя оскопляет. За этим самоизувечением следует смерть. Тогда Агдистис раскаивается в своей ревности: она просит Зевса вернуть жизнь ее любимцу. Это, однако, оказывается невозможным; единственное, что он может ей даровать, это — нетленность его тела: его волосы продолжают расти, его мизинец продолжает двигаться. Агдистис хоронит тело Аттиса в Пессинунте и учреждает в его честь, как бога, ежегодное празднество и жреческую коллегию — тех оскопленных «галлов» (местных, пессинунтских, названных так от реки), которых мы там встречаем.
Этот миф об Аттисе мы заимствуем из христианской апологии Арнобия (III в.), который, в свою очередь, ссылается на «Тимофея, известного богослова, почерпнувшего свои сведения, как он сам говорит, из заповедных старинных книг и из самой глубины таинств», а также и на «других не менее сведущих людей». Это значит, если принять во внимание распространенный у древних метод цитирования: «моим источником был позднейший компилятор, называющий в числе своих источников также и Тимофея». Для нас здесь традиция Тимофея имеет исключительный интерес; ее мы выделили из рассказа компилятора и представили в чистом виде.
Но и в этом чистом виде традиция Тимофея носит на себе следы согласовательской работы; самый явный — рассказ об исходе самого героя. Одержимый безумием, он бежит, оскопляет себя под сосной и там же умирает. Это — обычное в подобных случаях удвоение мотива, если автору традиции угодно было заставить Аттиса умереть, самооскопление было излишним; если он хотел, чтобы Аттис, в пример жрецам-галлам, жил оскопленным слугой своей богини, ему не следовало отправить его тотчас же на тот свет. Всматриваясь в эти два соединенные Тимофеем мотива, мы легко убедимся, что один из них греческого происхождения, другой — азиатского. В самом деле, сосредоточимся на первом. В прекрасного пастуха Аттиса влюбляется богиня Агдистис, она берет его с собою на охоту — не так ли и Артемида сопутствовала прекрасному охотнику Ипполиту? Но юношу не удовлетворяет любовь богини: он ей изменяет ради царевны и становится жертвой ревнивого гнева, лишая себя жизни под влиянием насланного богиней безумия — не так ли и Дафнис, променявший божественную нимфу на смертную царевну, стал жертвой ее ревности? Но Агдистис раскаивается в своей суровости: она ищет своего возлюбленного, ищет его, ищет… и находит наконец во власти смерти — не так ли и Деметра искала свою дочь, пока не нашла ее во власти царя мертвых? — «Она хотела вернуть ему жизнь, но Зевс воспротивился». Знакомый прием при рудиментарном мотиве: «неосуществленное намерение». Уже по этому одному мы можем догадаться, что первоначально Агдистис своею любовью вернула жизнь возлюбленному. Но это подтверждается и другими источниками: исходом Аттисовых мистерий было воскрешение их героя.
Не правда ли, какой прекрасный греческий миф мы обнаружили под неприглядной оболочкой пессинунтского сказания? И главное: какое сходство по исходу и смыслу с элевсинским мифом! Любовь побеждает смерть — любовь любовницы здесь, любовь матери там. И в обоих случаях эта победа содержит в себе утешительную уверенность.
Но кто же он такой, этот «известный богослов» Тимофей? Ответ на этот вопрос дает нам Тацит. Птолемей Первый призвал «Тимофея афинского из рода Эвмолпидов, которого он еще раньше выписал из Элевсина, чтобы сделать его руководителем обрядов»… Как видит читатель, дело и мастер подходят друг к другу: элевсинская реформа пессинунтского культа имела своим автором жреца элевсинской Деметры. Этим определяется и время реформы — Тимофей был современником Птолемея Первого (правил в 322–283 гг.); Пессинунт был тогда подвластен диадоху Лисимаху. И все дело представляется в следующем свете.
Как правитель фрако-фригийского царства, в котором греческая элита городов, особенно прибрежных, сожительствовала с туземным населением, Лисимах, верный заветам Александра Великого, пожелал объединить оба эти элемента общностью религии. Он обратился тогда к своему всегдашнему союзнику и свату, Птолемею Первому египетскому; тот прислал ему Тимофея Элевсинского, который перед тем в египетском царстве произвел религиозную реформу, служившую такой же объединительной цели. Тимофей нашел свой путь предначертанным: не могло быть сомнения в том, что общей религией должна была стать религия Великой Матери, которой уже поклонялись обе части населения — правда, по обрядности настолько различной, что общих элементов в этом поклонении было очень мало.
Греки во многих городах справляли мистическую службу своей горной Матери, но ей одной, без Аттиса и подавно без его оскопленных последователей-галлов; именно их и признавали фригийцы, имевшие свой религиозный центр в Пессинунте.
Надлежало найти средний путь. Было ясно, что греки не согласятся осквернить свой старинный культ Великой Матери обрядом оскопления, органически противным их религиозному чувству: уния — мы можем ее так назвать — должна была совершиться на почве принятия Аттиса, но без оскопленных галлов и, стало быть, без его самооскопления. Последнее следовало заменить смертью — остальное подсказывала элевсинская религия. За смертью, благодаря любви Матери, должно было последовать воскрешение, радостный и благоговейный конец «мистерий Аттиса».
Ибо само собою разумеется, что Агдистис — не более как прозвище Матери, владычицы горы Агда над Пессинунтом, вполне понятное там и непонятное в других местах. Отсюда искажения: Agdistis, Angdistis, Angistis, Angissis — все эти правописания в надписях встречаются. Кроме искажений, были возможны и перемещения, раз связь с горною Матерью была утрачена: далеко ли от Angissis до Anchises, до того пастуха, которого полюбила Идейская Мать-Афродита?
Пред нами предстал один из самых замечательных людей в истории античной религии, новый апостол Деметры элевсинской, Тимофей Эвмолпид. Он был много влиятельнее Мефапа: тот только освобожденную Мессению просветил таинствами своей элевсинской владычицы, этот же создал на почве таинств религиозную унию для всей Анатолии. А если припомнить, что он до того также эллинизировал и египетскую религию Исиды и что эти две богини, Великая Мать и Исида, были главными божествами греческого востока и остались таковыми и во всей вселенской империи, то можно сказать без преувеличения, что Тимофей Элевсинский был основателем религии эллинизма, этого моста между эллинством и христианством. И все, что мы узнаем об этом человеке, ограничивается немногими строками у Тацита, Арнобия и еще географа Стефана Византийского. Что его сочинение без остатка погибло, это нас не удивляет — такова была участь всех богословских сочинений «язычества». Но что и память о нем почти угасла, это скорее может поразить. С этим, однако, приходится мириться: его дело зато оказалось очень живучим. Присмотримся к нему, насколько это дозволяет завеса «Аттисовых таинств».
 |
Η. Пуссен. Триумф Флоры. Холст (1627 г.).
Великая Мать прежде всего и везде — горная богиня; в этом ее первоначальное значение. И ее праздник везде и всегда — весенний праздник. Теперь представим себе, что такое весна на горе, и исконный смысл таинств Матери на почве религии природы станет нам понятным. Здесь, на горе, грознее, чем где-либо, бушуют бури равноденствия, громче, чем где-либо, раздается безумный свист, вой и рев южного ветра, несущего с собой, вместе с тем, душистую влагу теплого моря и этим наполняющего душу сладким чаянием какого-то неведомого блаженства. Из этих двух чувств, безумия и чаяния, рождается основное состояние для мистического восприятия божества — экстаз.
Да, это царица гор, Великая Мать, разъезжает по своему царству в сопровождении шумной свиты, под звуки кимвалов, тимпанов и флейт; это ее львы оглашают гору своим рычанием — не забудем, что мы в Азии, — это они запускают когти в дрожащую плоть своей любимой добычи, дикого тура, чтобы отведать его горячей крови. Блажен, кто может душой приобщиться к блаженной свите! Путь указуют мистерии Великой Матери; они родственны мистериям Диониса, особенно же его фракийского двойника, Сабасия, почему и сливаются с ними очень легко. Великая Мать сопоставляется с Сабасием; для какого общего действия? Откуда нам знать! Греки, и среди них афиняне, поддерживали оживленные сношения и с фригийцами, и с фракийцами; частные религиозные кружки, уже начиная с V в., принимают их таинства, возбуждая этим насмешки не только комедии, но и серьезных государственных деятелей, вроде Демосфена, не упустившего случая уязвить своего противника Эсхина двусмысленной ролью его матери в распространении двусмысленных оргий фрако-фригийских божеств.
А там, в недоступной глуби Фригии, таинства Матери справлялись с жестокой, кровавой обрядностью. Не в виде ласковой женщины с символом плодородия изображалась горная Мать: ее кумиром был черный камень, хранимый в пещерном храме горы. И экстаз участников весеннего праздника принимал грозный вид исступления: острыми камнями, черепками, ножами они наносили раны друг другу и себе и в крайнем разгаре страсти доходили до самооскопления. Это было симпатическим чествованием любимца богини, Аттиса, впервые принесшего ей эту неслыханную жертву. Что это значит? Пытались объяснить это странное извращение религиозного чувства на почве религии природы: так и растительность гибнет перед зимней стужей. — Но ведь праздник справлялся весной? — Значит, перед летней засухой: мы ведь на юге. — Это было бы смертью; но при чем тут самооскопление? — Так и растительность летом гибнет в цвету, не давши плодов. — Нет, если бы она погибала до принесения плодов, то она и продолжаться бы не могла. Нет, на почве религии природы загадка неразрешима; ее смысл должен быть иным. А каким, это, думается, укажет нам девиз позднейшего герметизма: «Да познает мыслящий человек самого себя, что он бессмертен, и что причина смерти — любовь». Любовь продолжает жизнь в породе, обрекая смерти особь: если хочешь остаться лично бессмертным, не уделяй породе данной тебе искры жизни. Отсюда — половая аскеза и ее печать. Не поручимся, что так рассуждали оскопляющиеся в момент самого акта: тут, скорее, проявляли свою силу особенно действительные у исступленного внушение и заразительность примера. Но если в обряде был смысл, то, скорее всего, этот.
Но вот реформа Тимофея и эллинизация семитской обрядности; Великая Мать любит прекрасного Аттиса, он изменяет ей ради Ии — ее имя, к слову сказать, означает «фиалка» — она своим ревнивым гневом доводит его до самоубийства, до смерти… и это конец? Нет, только начало; хотите узнать конец, дайте себя посвятить. Обряды посвящения были таковы, что христианский апологет Фирмик Матерн в них признал учение дьявола: «В некотором храме человек, чтобы быть допущенным в святая святых и там принять смерть, говорит: я поел с тимпана, я напился с кимвала, я стал мистом Аттиса. Дурно, несчастный, сознаешься ты в допущенном грехе: ты впитал в себя снедь смертоносной отравы, ты под наитием нечестивого безумия вылакал чашу гибели; за такой пищей следует смерть и кара… Иная та пища, которая дарует спасение и жизнь». Видно, апологет вспомнил христианское причастие и усмотрел козни дьявола в его кощунственном предварении для мистов Аттиса. У них тоже полагалась священная трапеза, они ели с тимпана и пили с кимвала.
Тем временем, в эту святая святых, — по-видимому, пещеру-усыпальницу под храмом — внесена сосна с привязанным к ней изображением Аттиса: он ведь погиб под сосной. Фирмик и в этом обряде видит козни врага человеческого рода: «Нечестивый палач установил, чтобы его служба всегда возобновлялась с помощью древа: зная, что человеческая жизнь, прильнув к древу креста, будет скреплена узами бессмертия, он хотел обмануть обреченных гибели людей подобием древа. В фригийском культе Матери богов ежегодно срубается сосна и к середине ее ствола привязывается изображение юноши». Следует погребение Аттиса — и, как с правдоподобием заключают из других свидетельств, симпатическое погребение его мистов: они ведь после священной трапезы, по вышеприведенным словам Фирмика, для того и были введены в усыпальницу, чтобы там «принять смерть». Это и был момент «страха и трепета», о котором рассказывают посвященные: их зарывали в землю до головы, их отпевали, все среди глубокого мрака подземной усыпальницы.
Но послушаем опять Фирмика: «Еще один символ должны мы привести, чтобы обнаружить нечестие оскверненной мысли: необходимо развить весь ее порядок, дабы все убедились, что закон Божьего устава был извращен порочным подражанием дьявола. В определенную ночь изображение лицом вверх кладется на ложе и оплакивается жалобной песнью. Затем, после того как люди насытились притворным плачем, вносится свет. Тогда жрец намащает горло всех плакальщиков; а по окончании этого обряда намащения тот же жрец тихим шепотом произносит слова:
Что это? Идола хоронишь ты, идола оплакиваешь, идола выносишь из гробницы — и, несчастный, сделав это, ликуешь! Ты освобождаешь твоего бога, ты слагаешь лежащие члены истукана, ты исправляешь бесчувственный камень: пусть же твой бог отблагодарит тебя, пусть он воздаст тебе одинаковыми дарами, пусть уделит тебе самого себя: умирай, как он умирает, живи, как он живет. Да, и вот еще: горло намащается маслом. Кто не презрит этого обряда, убедившись в его тщете? Есть, значит, и у дьявола свои помазанники».
 |
С. Ботичелли. Минерва и кентавр. Холст (ок. 1480 г.).
Не все здесь ясно, но сосредоточимся на главном; а главное — это воскрешение Аттиса как залог воскрешения также и умиравших с ним мистов. Воскрешение кем? Фирмик этого не говорит, но мы извлекаем это из других свидетельств: самой Матерью, любовь которой побеждает смерть.
Двум христианским писателям обязаны мы восстановлением творения Тимофея: из Арнобия мы позаимствовали миф, из Фирмика — обрядность мистерий. Действительно, полемика Фирмика может относиться только к учрежденной Тимофеем греко-азиатской форме таинств, — исконно греческая не признавала Аттиса, исконно пессинунтская, признавая его, признавала в то же время его самооскопление и оскопленных галлов, о чем у Фирмика нет речи. Случайного умолчания быть не могло: враждебно настроенный против язычества христианин, конечно, не преминул бы упомянуть этот, для христиан сугубо отвратительный, обряд.
Все же должно предупредить читателя, что установленная нами трехступенность не исчерпывает всех разновидностей таинств ни во времени, ни в месте. Взаимные влияния различных центров друг на друга были неизбежны; есть даже основание предполагать, что и Пессинунт не остался в стороне от углубленной Тимофеем обрядности культа. Столь же неизбежны были, при отсутствии каноничности и церкви, и воздействия других мистерий и религиозных представлений: мы ведь видели, как под влиянием местных условий видоизменялся в различных своих центрах основной культ Деметры элевсинской.
Оглядываясь, однако, на представленную общую схему, полагаем, читателя должно было удивить одно обстоятельство, именно — само имя Великой Матери, а тем более Матери богов. Оно и древним давало повод к обильным насмешкам: сборщику пожертвований «для Матери богов» киник Антисфен ответил: «Ничего не дам; пусть боги сами содержат свою мать». Это бы еще ничего; но дело в том, что и в мифе и в культе эта Мать выступает не столько матерью, сколько любовницей. Это был большой соблазн, и пересмешник Лукиан в своих «Разговорах богов» не отказал себе в удовольствии его развить очень основательно. У него Афродита журит своего сына Эрота: «Дерзкий, ты самое Рею, богиню уже пожилую и притом мать стольких богов, влюбил в того фригийского мальчишку. И вот она по твоей милости безумствует: запрягши своих львов, взяв с собою своих корибантов, тоже довольно шалые существа, она с ними мчится взад и вперед по Иде, причем она с воем кличет Аттиса, из корибантов же кто ранит себя мечом в локоть, кто с распущенными волосами исступленно мечется по горе, кто гудит в рог, кто стучит в тимпан, кто звенит на кимвале, и вообще вся Ида оглашена шумом и безумием».
Видно, идейский миф поступил в духе эллинского богопонимания, заменив Великую Мать — Афродитой и пастуха Аттиса — пастухом Анхизом, причем от самооскопления любимца богини остался только один слабый след, его бессилие, да и то не в действительности, а в его опасении; тем же богопониманием была подсказана и реформа Тимофея, сохранившего, однако, поневоле издревле установленные имена. Но что сказать об исконном пессинунтском культе? Следует помнить, что там не только Мать была «матерью», но и ее сопрестольник Аттис «отцом» — таково значение имен Attis, Attes, Atys — и еще более — его другого имени Papas. Видно, это древнейшее понимание родительской четы было оттеснено перенесением на «отца» того обряда, который был в ходу у его почитателей. Старший галл всегда носил имя Аттиса: это было в духе восточного отождествления посвящаемого с его богом. А раз Аттис-человек был скопцом, то и о его образце-боге пришлось допустить то же самое. Матерью же «богов» пессинунтская Кибела стала вследствие своего сближения с критской Реей, матерью Зевса и его братьев и сестер.
Итак, здесь Мать-любовница; а там, в Элевсине, Деметра-мать. Не будем торопиться с выводами; наш круг еще не закончен. Оставляем пока анатолийскую религию; но прежде чем оставить, доведем ее до принятого нами исторического предела, т. е. до I в. до Р. X.
Решающая реформа Тимофея, как мы видели, должна была состояться около 300 г. по почину Лисимаха, тогдашнего царя фрако-фригийской области по обе стороны проливов. Состояла она в проникновении религии Великой Матери религией Деметры элевсинской; очень вероятно, что базисом для реформы послужил город, в котором оба культа существовали рядом, самый крупный из старинных городов в царстве Лисимаха, Кизик, роль которого в культуре античного мира была вообще очень велика. Правда, и Пергам не исключен: и он имел свой храм Великой Матери (Μεγαλεσιον), а его святилище Деметры и Коры восходит как раз к эпохе Лисимаха. Но царство Лисимаха было недолговечно: сам он пал в 281 г., вслед за тем нагрянули кельты, занявшие весь северо-запад Анатолии с пессинунтской областью включительно. Наступил сорокалетний хаос, из которого лишь мало-помалу выделяется и достигает политической самостоятельности царство Атталидов в Пергаме, основанное казначеем Лисимаха Филетером. Атталиды постепенно расширяют свою область, занимают Иду, наносят галлам (кельтам) поражение в верховьях Каика, навязывают им свой протекторат. К концу III в. пергамские цари уже прочно держат в своих руках наследие Лисимаха, между прочим, и как покровителя культа Великой Матери. С Римом, победителем Ганнибала, они поддерживают дружбу: когда торжествующий город решает и у себя учредить культ Великой Матери, он обращается к пергамскому царю. Черный камень переносится из Пессинунта в Рим. Это вряд ли обошлось без смут, но мы о них ничего не знаем. Мы можем себе представить дело по аналогии перенесения чудотворных икон в христианскую эпоху: благодать не оставляет своего первоначального места, пессинунтский храм и впредь остался анатолийской Меккой. Наступил II век, время высшего расцвета Пергама за счет униженной Сирии Селевкидов; Великая Мать тоже процветала под соединенными ласками Пергама и Рима, тем более что и идейский центр ее культа был дорог Риму, потомку старинной Трои. А к последней трети столетия отношение становится еще непосредственнее: пергамское царство, под именем «провинции Азии», переходит во власть Рима. Последствием был новый подъем культа Великой Матери около 100 г. до Р. X.
Прошли те времена наивной и восхищенной веры, когда люди искали в замкнутой долине Нила таинственных истоков мистицизма, ревниво охраняемых молчаливой кастой жрецов и лишь путем посвящения или предательства ставших уделом также и чужеземных гостей. Чем более разбирались древние записи, смущавшие и подстрекавшие фантазию сторонних зрителей загадочностью своих прихотливых письмен, тем более трезвого, холодного света проливалось на сущность египетской религии. Развеялись соблазнительные и жуткие призраки египетской ночи; то, что нам показал ворвавшийся свет еще только утреннего солнца, оказалось довольно бесцветным, житейско-практическим, убогим богопониманием, вряд ли даже составлявшим предмет тайного учения. С одной стороны, неопределенные и малоотличимые друг от друга местные божества, произвольно сплетаемые в троицы или девятерицы по местным соображениям соседства, — божества, награждающие своих поклонников и карающие врагов; с другой — ряд других с определенными функциями, управляющих путями солнца или нарастанием Нила и принципиально недоступных просьбам и угрозам людей.
Что могла дать эта религия ищущей душе чужеземных народов и особенно греков? То, что она им действительно дала: почти ничего. Уже одно то, что Египет представлял себе небо женским и землю мужским началом, делало понимание египетской религии природы невозможным для эллина с его исконным и основным дуализмом оплодотворяющего неба и оплодотворяемой Матери-земли. Вольно было Геродоту — с доверчивостью любознательного ребенка прислушивавшегося к рассказам не очень сведущих, как оказалось, толмачей — объявлять чуть ли не весь греческий Олимп сколком с египетского пантеона; на самом деле общение Эллады с негостеприимной страной фараонов дало ей папирус и другие полезные товары, но не откровения о богах и религиозных началах мироздания. Ра и Птах, Нейт и Себек так и остались у себя дома.
Одно только божество, выделяясь из их среды, оплодотворило греческую религиозную интуицию — правда, лишь после того, как оно само было оплодотворено ею; это божество, которое мы и поныне называем его эллинизованным именем, не будучи в состоянии произнести исконно-египетского, — Исида. Она, в то же время, единственная, о которой имеется настоящий миф, а не только мифообразная формула; правда, связным пересказом этого мифа мы опять-таки обязаны греку Плутарху, между тем как Египет нам его сохранил в отрывках, подобно растерзанному телу Осириса; но так как эти клочки укладываются в целое, которое нам дает Плутарх, то мы и относимся с полным доверием к его знанию и добросовестности. Своим же исключительным воздействием на эллинское религиозное сознание Исида была обязана, в низменных сферах, тому, что была волшебницей среди богов и учительницей магии; а в более высоких — тем ее качествам, о которых пойдет речь ниже.
Итак, Исида — дочь отца-земли и матери-неба, Геба и Нут; это антифизическое сплетение жреческой теологии не важно, важно то, что она — мать молодого солнца Гора. Как таковая, она богиня восточного небосклона; богиней западного стала ее сестра Нефтида, их братьями были дневное, надземное солнце, Осирис, и ночное, подземное, Сет — Тифон. Братья и в то же время мужья: Исиды — Осирис, Нефтиды — Сет.
Это — в плоскости религии природы; а в плоскости истории — Осирис был древним царем Египта, мужем Исиды и братом остальных. Но брак Сета и Нефтиды был бесплоден, что легко объясняется в плоскости религии природы; Нефтида устроила так, что Осирис совокупился с нею, приняв ее за Исиду, и родила ребенка. Родив, она, однако, из страха перед мужем, бросила сына; Исида, зная о происшедшем, его отыскала и воспитала; это был Анубис, отныне ее верный страж.
Сет возненавидел своего брата и решил его погубить; для этого он воспользовался следующей хитростью. По размерам тела Осириса (которые он, надо полагать, узнал от Нефтиды) он заказал ларец; затем, устроив у себя пир и пригласив к нему и брата, он объявил, что подарит ларец тому, кому он придется впору. Стали пирующие поочередно в него ложиться; когда очередь дошла до Осириса, друзья Сета подбежали и заколотили ларец, после чего бросили его в Нил.
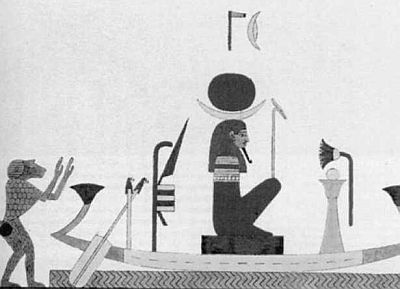 |
Осирис с символом луны над головой. Роспись пирамиды в Дендере.
Узнала о случившемся Исида; отрезав свои волосы и одевшись в траурные ткани, она отправилась искать своего мужа. Тем временем Нил отнес ларец в море, а море выбросило его у Библоса (египетского) на берег; на месте, куда он был выброшен, быстро выросло дерево-эрика и охватило его своим стволом. Библосский царь срубил дерево и, не заметив находившегося в нем ларца, сделал из него столб для своего дворца. Исида после долгих блужданий «по божественному наитию» пришла и в Библос.
Пропустим подробности, слишком уж напоминающие службу Деметры у Метаниры и, по-видимому, уже после эллинизации Исиды заимствованные из элевсинского мифа; конец был тот, что Исида, выслужив столб, извлекла из него ларец и из ларца — труп Осириса. Она ласкает, оплакивает его; но что-то ее отзывает, она должна его бросить, а тем временем злой Сет подоспевает и находит тело своего брата. Чтобы предупредить его — не то оживление, не то похороны, он разрывает тело на четырнадцать частей и разбрасывает по всей земле. Приходит Исида; новое отчаяние, новые поиски; она находит разрозненные части, собирает их; Нефтида присоединяется к ней, они вдвоем оплакивают погибшего. Но этого мало: Исида научилась волшебству, своими магическими средствами она возвращает покойному и целость, и жизнь.
Тем временем подрос и Гор, сын Осириса и Исиды; он требует к ответу убийцу своего отца. Ответ в плоскости истории происходит перед судом, но в плоскости религии природы в пространстве, — в «день ужасов», в виде поединка Сета и Гора. Сет превращается в разных чудовищ; ему удается вырвать глаз у Гора (намек на затмение солнца), но и у него его противник вырывает ядра. К сражающимся является Исида; своими магическими средствами она возвращает сыну его глаз, но когда она таким же образом исцеляет и его врага, своего брата, возмущенный Гор отсекает ей голову… эта «ужасная черта» не встретила доверия со стороны благочестивого Плутарха, но мы тем более должны считать ее исконной. Гермес-Тот, в свою очередь, исцелил Исиду, и при посредничестве богов спор между всеми участвующими был улажен.
Знакомый с греческим мифом читатель признает тут первообраз или, по крайней мере, параллель с трагической историей Атридов: Осирис — Агамемнон, Сет — Эгисф, Гор — Орест; Исида соответствует Клитемнестре, и для этой параллелизации мотив ее обезглавливания сыном особенно драгоценен.
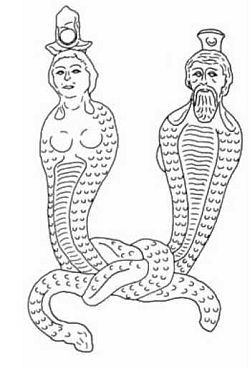 |
Исида и Гарпократ. Египетский рисунок.
В египетской религии миф об Осирисе был прототипическим для обрядности похорон умерших в видах их оживления на том свете. Исида указала для этого путь; соблюдая примененные ею магические практики, всякий покойник становился Осирисом, с каковой целью ему и давалась в качестве путеводителя на том свете знаменитая книга «о выходе с дня» («Книга мертвых», как ее со времени Лепсиуса принято называть).
Внимательный читатель не мог не заметить, что в пересказе Плутарха встречается явное удвоение: Сет дважды злоумышляет против брата, Исида дважды его находит, дважды оплакивает. Прибавим тут же, что древнеегипетский миф этого удвоения не признает: у него Исида только раз спасает Осириса, воссоединяя его тело. Вероятнее всего, дело обстояло так: Исида находит труп Осириса в ларце, она хочет возвратить ему жизнь, но для этого ей надо научиться магии. Спрятав дорогое тело, она отправляется к Гермесу-Тоту и становится его ученицей (на это имеются намеки в мифах). Опытной волшебницей она возвращается туда, где спрятала труп Осириса, — но его тем временем нашел и растерзал Сет. Она вторично его ищет и т. д.
Так, вероятно, передавал дело источник Плутарха; но при всем том удвоение остается удвоением. И читатель не затруднится припомнить, что мы такое же удвоение на том же, так сказать, месте рассказа нашли и в мифе об Аттисе. И там мы установили его происхождение и смысл: причиной возникновения был вариант, введенный Тимофеем элевсинским в подлинный пессинунтский миф, а целью введения было желание дать ему приемлемую для эллинского сознания форму. Как увидит читатель, то же самое случилось и здесь и притом по почину того же Тимофея.
Заговорив о чествуемом в Александрии Сараписе, Тацит следующим образом рассказывает о происхождении этого культа. Когда Птолемей I устанавливал богослужение в новооснованной столице своего царства, ему явился во сне юноша неземной красоты и роста и потребовал, чтобы он перенес с Понта его кумира на благо своему царству, после чего, окруженный огнем, вознесся на небо. Птолемей сообщил свое сновидение египетским жрецам; но так как они Понта и вообще чужих земель не знали, то «он обратился к Тимофею афинскому из рода Эвмолпидов, которого еще перед тем выписал из Элевсина, чтобы сделать его руководителем обрядов» — а именно: как мы имеем право дополнить, основателем александрийского Элевсина и воспетых Каллимахом таинств. Тимофей, на основании рассказов бывалых людей, устанавливает, что разумелся понтский город Синоп и его пригородный храм Аида. Отвлеченный другими заботами, Птолемей не сразу воспользовался указанием своего советника; тогда тот же сон приснился ему вторично и уже в угрожающей обстановке. Пришлось повиноваться; Птолемей посылает сначала в Дельфы и после полученного там благословения — в Синоп, к царю Скидрофемиду. Не сразу согласился царь расстаться со своей святыней; но тут и ему приснился страшный сон, подтвержденный болезнью и другими явными признаками божьего гнева. Народ, узнав о происходящем, сплошной массой обступил храм, чтобы не допустить похищения кумира. Тогда сам бог покинул храм и через пораженную ужасом толпу проследовал на египетский корабль, который после невероятно быстрого плавания на третий день приходит в Александрию. Здесь и был построен величественный храм новому богу, как Сарапису, «на месте старинного храма Сараписа и Исиды».
Мы узнаем здесь обычного типа «ареталогию», т. е. храмовую легенду, имеющую целью прославить «доблесть» (αρετε) чествуемого бога; такая же точно рассказывалась и про перенесение в Рим пессинунтского кумира Великой Матери. Чудесные прикрасы нетрудно выделить; в результате получится важная религиозная реформа, произведенная родоначальником новой династии египетских царей.
 |
Исида с младенцем, бог Анубис и фараон. Египетский рисунок.
Таковые в Египте обычно отмечали свое восшествие на престол учреждением нового культа; египтяне ничего не могли иметь против возобновления старинной традиции. Но Птолемей преследовал еще другую, более важную цель: он хотел под знаком объединяющей религии сплотить между собою оба элемента своего народа, греческий с туземным. Для этого он обратился к Тимофею Элевсинскому с поручением насадить в Александрии его родные мистерии; но культ чисто греческой Деметры, охотно принятый подданными-греками, ничего не говорил чувству египтян. Тогда был сделан дальнейший шаг: по свидетельству добросовестного Плутарха, «эксегет Тимофей с его заседателями и Манефон-себеннит доказывают Птолемею, что синопский кумир, который ему был привезен, представляет собою не кого-либо иного, а именно египетского бога Сараписа». Итак, Птолемей образовал комиссию из представителей греческого и египетского жречества для учреждения нового, общего для обеих наций культа; представителем греческого был тот же Тимофей, учредитель элевсинских таинств в Александрии, успевший за время своей деятельности в этом городе присмотреться и к египетской среде, и египетский жрец Манефон, написавший по-гречески историю своего народа и, стало быть, освоившийся с пришлой, греческой частью александрийского населения. Их общим делом были культ и религия Сараписа, кумир которого был привезен из греческого города Синопа, имя же было заимствовано из недр египетского символизма, обозначая «ставшего Аписом — Осириса».
Так мы, следуя древней традиции, представляем себе возникновение этой самой влиятельной ветви эллинистической религии, оставляя, по необходимости, побочные вопросы в стороне. Нечего говорить, что о нем существует целая литература; нечего говорить также, что и установленные главные вехи не остались неоспоренными. Но что можно сколько-нибудь разумно возразить против древней традиции? «Религии не создаются по приказу». Не создаются, но очень часто реформируются, и лютеране это знают лучше, чем кто-либо; возможно, что и у царя Птолемея был свой Вартбург, куда он отправил Тимофея, Манефона и их заседателей. — «Не стал бы Тимофей учреждением мистерий Исиды создавать конкуренцию им же перенесенным мистериям Деметры элевсинской». Но здесь нет места конкуренции; Сарапей стоит рядом с Элевсином александрийским, как Мегалесий рядом с храмом Деметры в Пергаме или как соответственные святыни в Кизике. — «Понтский Синоп назван по недоразумению; на деле Сарапис был взят из египетского Мемфиса, холм которого, освященный храмом этого бога, назывался по-египетски Sen-Hapi („домом Аписа“), а по-гречески Σίνορίον». Созвучие очень интересное; действительно, оно объясняет нам то, что до сих пор оставалось непонятным, почему кумир нового бога был взят именно из отдаленного Синопа на Эвксине. — А в противовес этим несостоятельным возражениям сколько подтверждений! И аналогия пессинунтского культа, и явные элементы элевсинской религии в мифе об Осирисе—Сараписе, и указанное предательское удвоение. Прибавим и одно хронологическое соображение. Кумир александрийского Сараписа приписывается славному греческому ваятелю Бриаксиду, деятельность которого относится к середине IV в.; между тем учреждение его культа в Александрии состоялось полустолетием позже. Сколько гипотез вызвало это мнимое противоречие! Допускались самые невероятные хронологические натяжки, оспаривалось авторство Бриаксида, измышлялся никому не известный Бриаксид Младший — между тем как древняя традиция никакого противоречия в себе не содержит. Бриаксид и не думал о Сараписе: он, главный в Анатолии художник, изваял для синопцев их Плутона, которого затем Птолемей перевез в Александрию. Самый вид александрийского Сараписа, известный нам по многочисленным копиям, не оставляет никакого сомнения в том, что его художник имел в виду чисто греческого Аида—Плутона.
Итак, кумир — греческого, имя — египетского происхождения; этим обе нации были удовлетворены. Имя имело для египтян решающее значение: из него они путем этимологических хитросплетений выводили свои богословские построения, им они пользовались для своих магических практик; от имени они бы никогда не отказались. Напротив, особенностью греков было именно то, что они видели в имени лишь безразличную, меняющуюся ризу божественного естества. Пусть им предложат поклоняться богу с негреческим именем Сараписа: они не затруднятся это сделать, видя в нем своего родного бога Плутона.
Так Птолемей разрешил религиозную проблему, поставленную ему его призванием на обновленный эллинизмом престол фараонов; решение было блистательным. Это доказала, во-первых, поразительная живучесть нового культа, культа Исиды и Сараписа: он пережил все остальные культы в Египте и был истреблен лишь императором Юстинианом в VI в., да и то только по видимости. Это доказала его еще более поразительная притягательная сила, проявленная в прозелитизме, его быстрое распространение по греко-восточному, греческому, греко-римскому и римскому миру. Это доказало, наконец, его обаяние среди чутких к мистическим восприятиям умов новой Европы; ведь не египетская богиня с непроизносимым именем, сопрестольница Себека, Птаха, Хатор и др., заворожила эти умы, создавая «жриц Исиды» вплоть до последних времен, а богиня эллинистическая, Исида Тимофея, эллинистическое претворение Деметры элевсинской.
 |
О. Ренуар. Диана. Холст (1867 г.).
Было бы, однако, ошибочно утверждать, что Исида до этого претворения была совершенно чужда внеегипетскому и специально греческому миру. Морские гавани, места прихода и ухода иностранных судов, были естественными местами оседлости также и для иностранных «колоний» в нашем смысле слова. Как в египетском Навкратисе была эллинская колония, отгороженная довольно прочной стеной от остального египетского мира, так, наоборот, в афинском Пирее жила колония египтян. Разница, правда, состояла в том, что Навкратис был самоуправляющейся общиной, имевшей, естественно, и свои собственные культы, между тем как египетская колония в Пирее жила среди прочих жителей этого города. Но таким иностранным поселенцам предоставлялось при соблюдении известных условий образовать корпорации, которые были общинами в общине. И вот мы читаем в одной случайно сохранившейся надписи, относящейся к 333 г. — как раз накануне основания Александрии: «По предложению (оратора) Ликурга, сына Ликофрона, из рода Бутадов и вследствие признанного законным прошения китийских (на Кипре) купцов, чтобы им было разрешено приобретение участка земли для постройки храма Афродите, постановляется: разрешить китийским купцам приобретение участка земли для постройки храма Афродите на тех же основаниях, на каких и египтяне построили храм Исиде».
Итак, египетская «колония» в Пирее еще до птолемеевской эллинизации имела храм своей излюбленной богини; не следует, однако, преувеличивать значение этого факта. Современная ему афинская литература, очень живо откликнувшаяся на введенные частным образом чужеземные культы Адониса, Сабасия, Котитто, совершенно молчит об Исиде; очевидно, внутри египетской общины поклонников, при их строгой отчужденности от «варваров», эта богиня не имела той жажды и силы прозелитизма, которую приобрела после реформы Тимофея. Зная отношение эллинов, и специально афинян, к чужеземным культам, и египтян к неегиптянам, мы можем утверждать, что пирейский храм Исиды, — вероятно, наглухо замаскированный гражданскими пристройками, — ничем не возбуждал внимания посторонних; египетского кумира с его непривычными скульптурными формами и не видел афинский глаз, как никакое афинское ухо не слышало литургических причитаний в ее честь. А если и слышало, то ничего не понимало: причитания были на египетском языке.
Теперь все изменилось: в Александрии, гостеприимном греческом городе, в роскошном Сарапее рядом с кумиром бога, изваянным рукою эллина Бриаксида, стояла его супруга Исида, в которой каждый эллин должен был признать свою Деметру — действительно, чтобы это дополнить, раскопки на Делосе доказали, что Исида Тимофея первоначально изображалась в виде Деметры, пока для нее не нашли специально греко-египетской формы. Вся литургия была на греческом языке — для египтян был выстроен особый Сарапей в Мемфисе, более приноровленный к их религиозным нуждам — и вперемежку с переделанными по египетским образцам молитвами слышались пэаны — да, именно пэаны Деметрия Фалерского, ученика Аристотеля и бывшего правителя Афин, ныне советника царя Птолемея; пэаны, сочиненные им в честь новых богов в благодарность за исцеление от болезни глаз. Эта Исида, конечно, уже иначе действовала на религиозное чувство. Первым делом она привилась среди греческого населения самой Александрии: следовать примеру великого афинянина Деметрия ни для кого не было зазорно. А затем — Птолемеи поддерживали морские сношения с собственно Грецией, их флот ходил по Архипелагу — Исида получила новое значение как охраняющая на море богиня, значение, какого за ней не знали боявшиеся моря египтяне. Операционным базисом Птолемеев на Архипелаге были Киклады; и вот Делос, по-видимому, первый заводит у себя Сарапей — в III в., прежде, чем Птолемеи потеряли свою власть на море. Политика их была антимакедонской; это их особенно сблизило с Афинами, которые были главным предметом завоевательных стремлений македонских царей. Птолемей II оказывает им помощь против Антигона Гоната; благодарные афиняне основывают новую филу в честь его, Птолемаиду, и, по-видимому, в то же время строят — уже не в Пирее, а в самих Афинах, недалеко от Акрополя — храм в честь Сараписа и Исиды.
Другим средством распространения культа было наемничество. Как популярна была военная служба у Птолемеев, видно из стихотворений Феокрита. Из греческих наемников многие, конечно, оставались в Египте, получая земельный надел в тамошних военных поселениях — лучшее средство эллинизаторской политики, которым располагали греческие цари Египта; но многие возвращались на родину и там, понятно, не переставали служить той богине, которая их охраняла в чужой стране. Так возникли культы Исиды на Крите, в Этолии и, по-видимому, во многих других местах.
Деметра элевсинская, как мы видели, не делала разницы между свободными и рабами, всех одинаково принимая в свой храм посвящений; эту свою гуманную черту она, естественно, передала и александрийской Исиде. Отсюда возник — мы это можем удостоверить специально для беотийских культов — один обычай, несомненно, увеличивший популярность богини в низших слоях общества: обычай отпущения рабов на волю путем посвящения их Исиде. Это делалось таким образом: сумма денег на выкуп, собранная или самим рабом, или его покровителями, или в видах юридической фикции объявленная самим хозяином, вносилась последнему от имени Исиды, которая, таким образом, становилась как бы госпожой отпускаемого. Это не стесняло его свободы, а только скрепляло ее, так как хозяин в случае нарушения оной подвергался не только светскому, но и духовному взысканию; но понятно, что освобожденный таким образом становился в особенно близкие отношения к своей госпоже, делался особенно ревностным ее слугой.
Одновременно с восточным греческим миром был завоеван и западный. Кирена была более или менее подвластна Птолемеям, Сиракузы же через своего тирана Агафокла вступили с ними в родственные отношения. Это случилось еще в III в.; из Сицилии же богине нетрудно было перекочевать и в Южную Италию, в ее главную гавань Путеолы и дальше. Посетителям Помпеи памятен тамошний внушительный — не по размерам, а по загадочной архитектуре и не менее загадочным фрескам — храм Исиды. Он был построен уже после землетрясения, незадолго до гибели города, но на месте более древнего, заложенного еще во II в. до Р. X. А обосновавшись в Южной Италии, Исида стала настойчиво стучаться и в ворота Рима, пока не добилась своей цели.
 |
Похищение Европы. Фреска (I в. н. э.).
Чего же искали и что нашли новые поклонники египетской богини и ее супруга в их полувосточной, полугреческой службе?
Начнем с того, чего они не нашли.
Не нашли они, во-первых, той особенности египетской религии, которая уже давно возбуждала их насмешки и с которой они никогда бы не примирились: обоготворение животных в виде ли придания божественным изображениям животной или полуживотной формы, или в виде прямого поклонения разным священным баранам, котам, крокодилам и т. д. Надо, впрочем, сказать, что специальный культ Исиды и Осириса уже в своей позднейшей египетской форме был довольно свободен от этих уродливостей. Правда, Исида была для египтян «небесной коровой» и вначале изображалась не то полной коровой, не то с коровьей головой; но до александрийской эпохи даже эта самка Минотавра не дожила. Она успела потерять и коровью голову и сохранить только рога по обе стороны своего солнечного диска в виде особого головного убора; таковой знали ее мемфисцы, между тем как александрийцы видели в ней только свою родную Деметру, без всякого намека на ее бывшее коровье естество. Сарапис оставил себя как Аписа (т. е. быка) в Мемфисе; Александрия по всему миру распространила его таким, каким его — синопского Плутона — изваял Бриаксид. Их сын Гор — тот неизменно представлялся с головой кобчика, поскольку ему не давали головы павиана, что было еще менее утешительно; зато Александрия этого бога совсем оставила в покое в его взрослом подобии и ограничилась Гором-младенцем, по-гречески Гарпократом, который был представляем обыкновенным человеческим младенцем либо у матери на руках, либо отдельно. В первом случае получилась красивая и знаменательная группа, богиня-мать с божественным младенцем; греку предоставлялось вспомнить о Деметре с ее питомцем, дитятей Метаниры, или Иакхом, пока не наступили времена, признавшие за этой группой еще более священное значение — времена, продолжающиеся и поныне. Самого Гарпократа египетский реализм не постеснялся бы изобразить прямо сосущим свой палец, но ради греческой благопристойности пришлось ограничиться приложением этого пальца к губам, причем получился новый, красивый символ: символ молчания, приличествующего посвящаемому в таинства Исиды.
Не нашли они, во-вторых, и той разветвленной заупокойной магии, которая составляла славу египетской Исиды как волшебницы среди богов и внешними символами которой была сложная мумификация покойников и даваемая им на тот свет «Книга мертвых» из ста с лишним глав. «Книга мертвых» не была переведена на греческий, а греки — поклонники Исиды были хоронимы по своей родной обрядности, т. е. или погребаемы в земле, или сжигаемы. Это было очень важной реформой: признавалось, что сохранение тела не было условием для благоденствия души на том свете. Конечно, давления и тут не производилось никакого: если в самой Александрии грек — поклонник Исиды считал более надежным, чтобы его по смерти мумифицировали на египетский лад, это было дело его и его родственников; мумии с греческими надписями в самом Египте сохранились. Но через море этот обычай за Исидой не последовал: культ богини в прочем греко-римском мире мы должны себе представить без мумий и сопряженной с ними загробной магии. Это не значит, впрочем, что Египет вовсе обошел Грецию этим роковым даром: магия попала в Грецию, мы это еще увидим, и притом благодаря обаянию Исиды. Но это было второй волной, пошедшей от Египта, и александрийская религия Тимофея в ней неповинна.
Зато вот что они нашли.
Во-первых, каждый грек, откуда бы он ни происходил, нашел в Исиде свою родную богиню, в Сараписе — своего родного бога. Что Исида была Деметрой, это мы уже видели; но она же была Афродитой Морской для коринфского купца, которого благословляла в опасный путь через Архипелаг; она же Герой Вершительницей охраняла брачную жизнь замужних женщин, она Артемидой облегчала их родильные муки, и так далее; даже с Великой Матерью она дала себя отождествить, когда прозелитизм также и этой анатолийской богини повел к столкновению с ней. Столь же всеобъемлющим божеством был и ее супруг Осирис-Сарапис. Кумир, как мы видели, изображал его как Аида-Плутона; но этот бог не пользовался в Греции особенно распространенным культом и даже в самом Элевсине играл довольно второстепенную роль. Там мужским членом троицы был, как мы видели, Дионис; и действительно, Диониса признал в Осирисе еще Геродот задолго до учреждения александрийского культа. Это значение осталось за Осирисом-Сараписом и впредь, причем орфики могли припомнить, что и их первозданный Дионис-Загрей был растерзан титанами, как Осирис — Тифоном, и молиться на том свете, чтобы «Осирис уделил им холодной воды» памяти и сознания. Но, кроме того, он был по своему первоначальному значению Гелиосом-Солнцем, и это значение со временем опять станет преобладающим — недаром он, явившись во сне царю Птолемею, в пламени вознесся к небесам. Он же и Посейдоном охраняет пловцов во время их плавания; он Асклепием исцеляет ищущих его помощи больных; он, наконец, превышает всех остальных богов своей силой, будучи Зевсом, супругом Исиды-Геры: «един Зевс-Сарапис», читаем мы много раз на передающих его любимое изображение резных камнях. «Един Зевс-Сарапис» — стоит запомнить эту формулу: она характерна и для этой эпохи, стремящейся уже к единобожию в иной форме, более простой и откровенной, чем та, в которой осуществила эту идею и исконная греческая религия и позднейшая религия Деметры. Сохранилась легенда, что в самый момент возникновения александрийского культа кипрский царь Никокреонт, обратившись к новому богу с вопросом, кто он, получил от него ответ: «Небо — моя глава, море — мое чрево, в землю упираются мои ноги; мои уши реют в воздухе, мои очи сияют солнцем». Это не очень наглядно, но идея Сараписа-всебога выражена ясно.
После древнегреческой радуги божественных проявлений, после собирания богов под укромной сенью деметриных таинств эта теокрасия — «смешение богов» — была следующим неизбежным шагом. Культ Исиды первый его совершил; при данном настроении эллинизма это был один из залогов его успеха.
Во-вторых, верующие нашли в культе Исиды и хорошо организованное, сильное и умное жречество, естественное наследие фараоновского Египта. Жречество было, оно требовало значительных затрат, и необходимостью изыскать соответственные средства объясняется поразительный прозелитизм культа Исиды. Часть правды этим высказана, но интереснее другая. При многочисленности жреческого персонала было возможно гораздо более интимное, личное отношение жреца к посвящаемому, чем в древнегреческих культах с их немногими жрецами и жрицами; то, что там было случайным явлением, здесь могло стать правилом. Мы нарочно не привлекаем самого подробного и яркого описания культа Исиды, которое сохранилось, — одиннадцатой книги «Метаморфоз» Апулея: будучи написана к концу II в. по Р. X., эта книга изображает нам культ богини в его последней римско-вселенской фазе и, несомненно, содержит элементы, чуждые эпохе эллинизма. Но позволительно будет сослаться на слова героя о посвятившем его жреце, на его сыновнюю к нему нежность и сыновнее почтение — несомненно, представление о жреце как о духовном отце впервые осуществляется в культе Исиды.
Кроме того, многочисленность жреческого персонала допускала и большую торжественность религиозных церемоний. Эпоха эллинизма вообще склонна заменять всенародную соборность виртуозностью специалистов, — и в искусстве, и в агонистике, и в религии. И в этом отношении жреческое богослужение с народом в качестве зрителя, а не участника, пожалуй, соответствовало новым требованиям. Геркуланские фрески, относящиеся именно к эллинизму, в связи с литературными свидетельствами открывают нам многое. Служба Исиде была прежде всего постоянной: была утренняя служба «открытия дверей» храма, была и пополуденная служба. Случайно сохранился стих из потерянных «Жриц» Эсхила:
Если присутствующие приглашаются соблюдать благовещее настроение, в то время как жрицы Артемиды, мелиссы (пчелы), будут открывать ее храм, значит, это открытие было богослужебным актом. Да, мы многое знали бы лучше, если бы сохранилось больше творений этого питомца элевсинской Деметры. Но и теперь мы можем сказать, что и другой питомец той же Деметры, Тимофей Элевсинский, знал, что делал, вводя лишь такие обряды, которые имели параллели себе в исконно греческом богослужении.
 |
Палладий. Бронза (VI в. до н. э.).
Все же они были, по-видимому, в культе Исиды значительно сложнее. В закрытый еще храм входили прислужницы, «будили» богиню приветственной песнью, причесывали, одевали и затем лишь открывали храм, чтобы она могла принять своих почитателей. Завеса распахивалась; взорам верующих представлялась богиня. Без сомнения, утренняя служба состояла в значительной степени в исполнении пеанов — они так и называются — в честь нее, вроде тех, которые сочинял Деметрий Фалерский, поэт-философ; знаем еще, что молитвы сопровождались потрясанием систра, звонка особой конструкции, по своему значению вряд ли многим отличавшегося от того, которым поныне сопровождается католическая литургия.
Это была ежедневная служба, но кроме нее Исида имела свои ежегодные праздники. Не будем предвосхищать того, что нам подлинно известно только для эпохи римской империи: мы не можем быть уверены в том, что веселый всенародный праздник «корабля Исиды» существовал уже в интересующую нас эпоху. Но зато, несомненно, существовал праздник мистерий Исиды; и эти мистерии и были тем третьим и главным, чего в ее культе искали верующие.
Главным оно было, конечно, и для Тимофея, влившего дух своего родного элевсинского культа в мистический культ египетской богини. И здесь душа посвящаемого настраивалась созерцанием священной драмы, героями которой были Осирис и Исида, а содержанием — страдание, смерть и воскрешение первого, горестные поиски и самоотверженный подвиг последней. Посвящаемый переживал вместе со страдальцем странствие через ужасы мрака к блаженству вечного света; «я дошел до пределов смерти, я коснулся своей стопой порога Пересефоны; пройдя через все стихии, я вернулся обратно; среди ночи я увидел солнце, сверкающее белым светом; к богам и неба и подземной глубины я подошел и вблизи сложил им дань своего благоговения» — так говорит герой Апулея; и кто читал изображение элевсинских таинств в «Лягушках» Аристофана, тот знает, что в кратком рассказе Апулея, по крайней мере, столько же греческого, элевсинского, сколько и египетского.
Такова была религиозная реформа Тимофея, проведенная им по почину царя-эллина Птолемея Спасителя, при дружелюбном содействии слуги Исиды, эллинствующего жреца Манефона. Ее последствия были неисчислимы. Благодаря ей, Исида действительно завоевала весь культурный мир: но это была эллинизованная Исида: египетские украшения, которые она взяла с собою с берегов Нила, так же мало изменили ее эллинское естество, как и «канопские» узоры третьего помпеянского стиля — его эллинскую основу: в своеобразных, но все же не древнеегипетских льняных ризах — жаждущих мистического откровения поклонников утешала все та же Деметра Элевсинская, богиня тайн о синем покрове.
И все же разница была — разница крупная, решающая. Боги греческого Олимпа чуждались подземной тьмы; мы видели — прощаясь с жизнью, грек переходил под власть других богов и других законов. Здесь не то: Сарапис главой витал в эмпирее, а стопами попирал подземные глубины; отдавшийся ему при жизни поклонник и здесь и там пользовался его неизменным покровительством. Основное различие в греческом пантеоне, различие олимпийских и хтонических богов, собиралось исчезнуть из сознания верующих, готовя путь Тому, Чья все превосходящая власть одинаково объемлет и земной, и загробный мир.
Мы изучили вклады Анатолии и Египта в религию античного мира. Переходя теперь к третьей греко-восточной области, к Сирии, мы должны прежде всего заметить, что ее роль как оплодотворительницы античной религии почти вся еще впереди. В эпоху эллинизма она сама является полем усиленной эллинизации со стороны своих царей Селевкидов; но, покоряясь им внешне, она в то же время ревниво бережет про себя своих презираемых западным миром кровожадных Ваалов, в ожидании того, еще далекого момента, когда этот мир, униженный и расслабленный, и их призовет к себе.
Только одно сирийское божество уже с давних пор сумело доставить себе доступ в круг эллинской религии, использовав чувство ее носителей, в котором заключалась их и сила, и слабость — чувство красоты: это была Астарта с ее любимцем Адоном. Но, быть может, и это исключение лишь подтверждает правило: дело в том, что для этой четы Сирия была только переходной областью, родиной же — древняя Вавилония. А так как вавилонская религия к тому же и лучше известна, чем сирийская, то с нее целесообразнее будет начать.
 |
Похищение Елены. Иллюстрация к «Метаморфозам» Овидия (XV в.).
В древневавилонском пантеоне богиня Иштар занимает особое место, как богиня самостоятельная и яркая, а не бледное женское дополнение к мужскому божеству. В силу коренного астрально-природного дуализма вавилонской религии и роль Иштар двойная: она и душа одной из семи планет, той самой, которая поныне, после двойной лингвистической метаморфозы, сохранила ее имя — вечерне-утренней звезды Венеры, — и богиня земного плодотворения и его условия, чувственной любви. В этом втором своем естестве она чествовалась безудержным половым разгулом, сакральным выражением которого была религиозная проституция; но созданный ею буйный урожай весны обречен гибели, разрушительное время года срывает одно украшение за другим у вянущей природы, снимает с нее под конец зеленую ризу и отдает обнаженную богиню во власть смерти. Так возник в сознании вавилонянина образ юного бога природы, Таммуза, любимца Иштар. Причина его гибели именно в плодотворении — «причина смерти — любовь», можно сказать и тут. А царица любви — Иштар: это она своими ласками обольстила Таммуза, она стала причиной его гибели.
И вот Таммуз покинул свет дня, стал жителем преисподней, где царствует Нергал и его грозная супруга Эрешкигаль. Тут начинается для нас один из любопытнейших памятников вавилонской религии, «Сошествие Иштар», как его принято называть. «Стала мыслить Иштар о стране без возврата»; отправляется туда, находит стража у первых врат, посылает его к царице Эрешкигаль: «Пришла Иштар, твоя сестра». Закручинилась владычица мрака, жалеет она богиню и ее неотвратимую судьбу. По ее приказанию страж пропускает Иштар через семеро врат, снимая с нее последовательно украшение за украшением, под конец даже ризу стыда; обнаженной является она к Эрешкигаль. Та заражает болезнью ее глаза, чресла, ноги, сердце, голову, всю ее — и с этого мгновения прекратилось всякое плодотворение на земле, вся живая природа заснула. Испугались высшие боги; создав слугу, они посылают его к Эрешкигаль с властным словом. Эрешкигаль проклинает слугу, но переданное им слово исполняет; по ее приказу прислужник Намтар окропляет Иштар живой водой, ведет обратно через семеро врат, возвращая ей у каждых последовательно отнятые украшения. Конец гимна плохо сохранился и загадочен, но все же видно, что и Таммузу уделяют живой воды, что он воссоединяется с возлюбившей его богиней. Опять весна на земле.
И красиво и странно сплелись в этом мифе оба естества астрально-природной Иштар: мы узнаем богиню плодотворения, обрекающую гибели особь ради продления жизни породы, но узнаем и лучезарную звезду, спускающуюся через рубеж небосклона под землю, где предполагается царство мрака. Умирающая и воскресающая природа странно раздвоена в Таммузе и Иштар как natura naturata и natura naturans; первая в своем мужском, вторая в своем женском естестве, что уже совсем странно. Но мы, может быть, неправильно поступаем, рассуждая по-нашему в вавилонской атмосфере. Во всяком случае, Таммуз — символ расцветающей и увядающей природы. «О, пастырь! — поется в жалобном гимне в честь него, — ты — семя, не отведавшее влаги в борозде, зародыш, не принесший плода в поле, деревцо, не посаженное у орошающей струи, деревцо, корни которого подрезаны, лоза, не отведавшая влаги в борозде».
Одно хотели бы мы узнать: видели ли вавилоняне в воскрешении Таммуза залог возможного освобождения также и человека из «страны без возврата»? Ученые-ассириологи склонны это допустить; однако воскрешение мертвых упоминается в богослужебных гимнах, но только как проявление силы соответственных богов, не в связи с воскрешением Таммуза, не как последствие освободительного подвига самой Иштар. И, думается, этим обусловлено также и то обстоятельство, что культ Иштар и Таммуза не имеет мистического характера. Конечно, вся религия вавилонян гораздо более подчинена жречеству, чем греческая, но о специальных посвящениях в таинства Таммуза мы не слышим. Религиозная мысль еще не прорвала своей природно-мифической пелены: служба Таммузу, справляемая храмовыми проститутками — только симпатическая служба умирающей и воскрешающей природе, вне связи с возможной для человека «лучшей участью» за пределами смерти. Такой «лучшей участи» для смертных людей Вавилон вообще не признавал.
Покорившие Вавилонию пришельцы семитского племени сами прониклись ее религией и стали посредниками между нею и своими западными соплеменниками, населившими Сирию с Финикией; им они принесли культ Иштар и Таммуза. Его сущность была сохранена, только имена были заменены другими. Иштар стала Астартой, хотя это имя не было обязательным; Таммуз же был обозначаем нарицательным Adon, что значит «Господь». Немногочисленны свидетельства об этом культе: сирийцы и финикияне не оставили нам такой богатой литературы, которая могла бы идти в параллель с клинописной вавилонской; что же касается греческих, то они тоже не очень обильны, позднего происхождения и возбуждают подозрение в том, что переносят в Сирию обратно определившиеся уже в Греции особенности культа и мифа.
Как бы то ни было, можно признать за достоверное, что одним из центров культа Адона и Астарты был город Библ в Финикии. Адон был ранен вепрем на охоте в роще Ливана и умер от раны; на память об этом библийцы ежегодно справляют «оргии» с плачем и ударами в грудь, после чего приносят ему заупокойные жертвы как мертвому. А на следующий день они выносят его изображение (из усыпальницы?) на воздух, объявляют его живым и чествуют отрезанием своих волос и религиозной проституцией. В эти дни будто бы и протекающая мимо Библа река, тоже носящая имя Адона, окрашивает свои волны в багровый цвет.
Местом столкновения и слияния финикийского и греческого элементов был остров Кипр; здесь финикийская Астарта превратилась сначала в «кипрскую богиню» (Киприду), а затем в Афродиту; здесь была помещена и родина ее любимца. Миф о нем получил следующую форму. У кипрского царя Кинира была прекрасная дочь, по имени Мирра. Воспылав нечестивой любовью к своему отцу, она путем обмана достигла своей цели, но под конец обман обнаружился, Кинир с мечом в руке бросился преследовать оскверненную осквернительницу — но боги, по просьбе Мирры, превратили нечестивицу в дерево, то самое, с которого сочится благовонная смола, носящая ее имя. Через десять месяцев кора дерева лопнула и выдала младенца — Адониса. Воспитанный пастухами, он и сам стал пастухом. Божественной красотой он покорил сердце самой Афродиты, и она сделала его своим товарищем и любимцем. Однажды он отправился на охоту. Исход был для него роковым; вепрь, встретившись с ним, ранил его в бедро, и он от этой раны умер. Безутешно было горе Афродиты; оплакав своего любимца, она спустилась за ним в преисподнюю и добилась его частичного возвращения себе. По решению Зевса, он отныне треть года должен был проводить в преисподней, треть с Афродитой, а треть, где захочет сам — но он, конечно, и эту треть подарил своей божественной подруге.
Из Кипра культ Адониса рано проник в Грецию как колониальную, так и коренную. Самым ранним свидетельством о нем мы обязаны Сапфо (VI в. до Р. X.); она сочиняла обрядовые песни для праздников Адониса, из которых нам сохранен маленький, но содержательный отрывок:
В пятом веке мы встречаем Адонии уже в Афинах; справляют их там плачем и жалобами суеверные женщины к великому неудовольствию властей — пришлый характер праздника живо чувствуется в этом к нему отношении представителей государства. Вообще, нигде в Греции до падения ее самостоятельности Адонии не получают официального характера: справляют их частные кружки вроде того, для которого Сапфо писала свои богослужебные песни. И притом преимущественно, если не исключительно, кружки женщин: вторая после Сапфо даровитая стихотворица греков, Праксилла, тоже писала адонические песни, и из них тоже сохранился отрывок — наивный плач умирающего Адониса:
из которого мы заключаем, что в Греции праздник Адониса справлялся не весною, как в Вавилоне праздник Таммуза, а летом или ранней осенью.
Но тот же культ — вряд ли из Финикии, а скорее, непосредственно из Вавилона — проник и в семитскую Анатолию, главным образом, в Лидию, и там существенным образом изменил местный миф и культ Великой Матери и Аттиса. Имена остались местные; но была введена одна подробность, сближающая Аттиса с Адонисом: его самооскопление было заменено смертью на охоте, и притом именно от поранения клыком вепря. В этом, действительно, отличие лидийского Аттиса от того фригийского, о котором была речь выше. И это проникновение должно было состояться в очень ранние времена; оно успело повлиять на легенду о лидийских царях и создать тот ее вариант, который мы знаем, благодаря пересказу Геродота. Здесь Аттис является сыном царя Креза, и гибнет он от руки Адраста («Неизбежного», т. е. бога смерти) во время охоты на вепря.
Но это мимоходом; не в первый раз мы встречаем слияние Афродиты с Великой Матерью. Возвращаемся к настоящему Адонису. Мы проследили его судьбу в древнем Вавилоне, в семитской Сирии и в Греции эпохи независимости; теперь перед нами последний вопрос: роль культа Адониса и Афродиты в религии эллинизма.
Она именно такая, какой мы ее ожидаем при греко-восточном характере этого эллинизма: Адонис, не допущенный до тех пор в греческий пантеон, принимается в него теперь, его культ из частного становится государственным. Доказательств мы ищем прежде всего в царстве Селевкидов, взрастившем во времена оные религию Адониса и передавшем ее собственно Греции. К сожалению, оно мало дает о себе знать в нашей литературе; жаль, что не сохранилось почти ничего от придворного поэта Селевкидов Эвфориона! С другой стороны, мы знаем эллинизаторские тенденции Селевкидов, их нелюбовь ко всему варварскому, особенно в религии. Но культ Адониса был достаточно эллинизован своим долгим сожительством с эллинской Афродитой: в этой греческой — уж, конечно, не финикийской, — форме его можно было принять в цикл государственных культов. И действительно, он был принят; мы заключаем это, правда, из очень немногословного свидетельства, оно состоит буквально из одного только слова, но это слово вполне доказательно. Это — имя месяца Λδονισιος в Селевкии — неизвестно, какой, но, конечно, основанный Селевкидами. Значима форма — Λδονίσίος, не Λδονίος; отсюда видно, что чествовался греческий Адонис, а не семитский Адон.
Этого мало; ничего не поделаешь. Красноречивее наши источники для третьего из греко-восточных царств, для птолемеевского Египта — точнее говоря, один источник, но зато первостепенный, — лучший поэт эллинизма, Феокрит. Он навестил Александрию в правление Птолемея II Филадельфа, в 60-е годы III века, был свидетелем праздника Адониса, справленного царицей Арсиноей в ее дворце — праздника царского, а стало быть, при тогдашней форме правления, государственного — и описал виденное им в одной из своих прелестнейших идиллий, в «Сиракузянках». Описал он его в форме драматической: две землячки поэта, поселившиеся в Александрии сиракузские мещанки, приходят посмотреть на праздник. С трудом протиснувшись через толпу, они входят во двор царских хором; их взорам представляется открытая спереди зеленая беседка, в ней два серебряных ложа, на одном лежит кумир Адониса, на другом кумир Афродиты. Деловитые хозяйки, они обращают свое внимание первым делом на расписные материи, которыми устланы ложа:
Потом лишь приковывает их взоры и лежащий поверх спускающихся с ложа тканей кумир:
То же скажет вскоре затем и певица богослужебного гимна:
Само ложе — высокое, из черного дерева с золотыми и серебряными украшениями; ножки облицованы барельефами из слоновой кости, изображающими похищение молодого Ганимеда орлом.
Перед ложами — столы с угощениями для блаженной четы:
Наше внимание привлекают особенно упомянутые «садики» Адониса — это их техническое имя — в серебряных корзиночках, характерная принадлежность именно нашего праздника. Принято было украшать ложе Адониса быстро взращенными цветами и злаками — это достигалось, вероятно, тем, что их поливали вином вместо воды — которые, разумеется, так же быстро и вяли, не дав плодов: символ скоротечности жизни самого Адониса. Можно при этом вспомнить слова из вавилонского гимна Таммузу: «Ты — зародыш, не принесший плода в поле» и т. д.
И наконец, сама беседка, осеняющая эту красивую сцену. И здесь, согласно эллинскому вкусу, природа украшена искусством, приличествующими скульптурными изображениями:
В Александрии, как вероятно и везде, где праздник Адониса приходился в жаркую пору года — день горя следовал за днем радости; последний поэтому представлял не воссоединение любящей четы, а ее блаженную жизнь до разлуки. Поэтому и особенной литургической службы не было: народ приходил посмотреть на беседку и уходил, и только певицы сменяли друг друга у лож, состязаясь из-за награды, назначенной для лучшей. Нашим мещанкам посчастливилось: как раз после их прихода очередь дошла до прошлогодней победительницы. После принятого призыва богини она продолжает:
Относящиеся к описанию лож и беседки стихи мы уже привели; заключение же гимна следующее:
Праздник Адоний, значит, по крайней мере, двухдневный — но, конечно, ничто не мешает предположить, что драгоценное сооружение, описанное нами, не на один только день было рассчитано, и что мы только случайно вместе с нашими мещанками попали на последний. Как бы то ни было, «завтра» предстоит праздник разлуки, а с ним и плач по Адонису, тот самый плач, который мы имели в виду выше, приводя относящиеся к нему отрывки Сапфо и Праксиллы.
Как видит читатель, и эти эллинистические Адонии не имели мистического характера: все, кому угодно, смотрят на беседку блаженной четы, все слышат посвященный ей гимн, все «толпой» выйдут завтра на морской берег — почему именно туда, мы не знаем — оплакивать ее разлуку. И радость, и плач имеют только симпатическое значение: залогом воскресения также и чествующих обряды Адоний не служили, почему мы никогда не слышим о «мистах Адониса» наподобие мистов Деметры, Аттиса или Исиды. Благочестивые люди приходили на праздник Адониса и уходили с него, прощаясь с ним так, как это делают наши мещанки.
Все же для оценки религии эллинизма и этот государственный праздник Адониса имеет свое значение, так же, как и мистерии Деметры, Аттиса и Исиды. Об этом значении и придется теперь поговорить.
Оставим в стороне коренную разницу между культом Адониса, с одной стороны, и Аттиса и Сараписа, с другой, — а именно ту, что первый не был мистическим, между тем как оба последних открывали свою завесу только для посвященных; ведь и по сю сторону завесы эти два культа представляли достаточно интересного для обыкновенных смертных. Возьмем то чувство, которое находило себе удовлетворение одинаково во всех трех — чувство «симпатии» в отношении божества, т. е. непосредственного переживания его судьбы. В чем заключалось его содержание?
Думается, если читатель сравнит вышеприведенные выписки из «Сиракузянок» Феокрита с прочитанным раньше гимном Каллимаха в честь Деметры, он будет поражен сходством религиозного настроения. И здесь и там повышенная участливость, тот же, можно сказать напрямик, религиозный сентиментализм. И именно вследствие этого совпадения здесь и там, при совершенно ином характере религиозного чувства в гимнах Древней Греции, этот религиозный сентиментализм поставлен в счет не Каллимаху, а именно религии эллинизма. Не будем считать его преходящим явлением: мы найдем его в гимнах и размышлениях католической церкви, имеющих своим предметом страдания Спасителя и печали Богородицы.
Мы могли это удостоверить для культа эллинистической Деметры и Адониса, так как случайно сохранились стихотворения Каллимаха и Феокрита; и, конечно, мы не сомневаемся в том, что нашли бы его и в гимнах в честь Аттиса и Сараписа — пеанах Деметрия Фалерского, например, — если бы они до нас дошли; явление это, таким образом, и всеобщее в нашу эпоху и, как доказывает только что приведенная справка, очень живучее. Сравним же на этой почве древний культ Деметры, хотя бы и эллинистической — с этими тремя новыми, хотя и эллинизованными; найдем ли мы разницу?
Там Деметра тоскует по Коре; здесь Великая Мать — по Аттису, Исида — по Осирису-Сарапису, Афродита — по Адонису: тоска — мотив общий, вызывающий симпатию участников празднества. Да, только там это была святая тоска матери по утраченной дочери — здесь тоска любовницы по тому, с кем она делила сладкие, но слишком земные утехи чувственной любви. Элемент эротизма — законный где угодно, но только не в религиозном чувстве, и совсем отсутствовавший в чистых мистериях Деметры, сильно расцветал в этих новых культах. Это не предположение; читатель сам мог прочесть свидетельство:
Вот на какие мысли и чувства наводило поклонников созерцание блаженства божественной четы, предложенного их благоговейным взорам.
Тут, правда, напрашивается одно возражение, и даже два. Во-первых, можно сказать, что и в исконно греческих мистериях этот элемент имелся налицо, если не в элевсинских, то в орфических: ведь и Орфея любовь к невесте, к Эвридике, заставила спуститься в преисподнюю. Это верно, и мы охотно пользуемся этим красивым мифом в подтверждение нашего догмата, что «любовь — привратница бессмертия». Но миф об Эвридике — не содержание орфических мистерий, а только рамка, и не тоска Орфея, а страдания первозданного Диониса предлагались симпатии верующих.
А во-вторых, можно попытаться выделить хоть таинства Исиды из этого круга: она была все-таки не любовницей, а супругой убитого Осириса-Сараписа. И все же на практике эротизм не был исключен, и мистерии Исиды стали не менее соблазнительны, чем мистерии Кибелы и Аттиса. Овидий в своей легкомысленной «Науке любви» прямо рекомендует их искателям игривых приключений:
 |
Силен с младенцем Дионисом. Римская мраморная копия с оригинала скульптора Лисиппа (IV в. до н. э.).
Практика была очень красноречива; и мы имеем право утверждать, что религиозный эротизм вырос на почве именно этих эллинизованных восточных культов. Появилось полное соблазна мнение, противоположное тому, которое некогда создало религиозное скопчество: мнение, что чувственный экстаз — лучший путь к религиозному экстазу.
Ясно, что мы не можем проследить всего подповерхностного развития религиозных практик, да еще тайных. Мистерии Диониса в породившей их варварской стране сопровождались половым разгулом; это было понятно, так как они имели первоначально значение приворожения плодоносности к земле. Греция, приняв мистерии, очистила их от этого нежелательного элемента; можем ли мы поручиться, что это ей удалось вполне? Но, во всяком случае, в самих мистериях, поскольку они были греческими, этот эротизм не находил почвы; с перенесением в греческий мир этих восточных культов, он ее получил. Как религиозное скопчество, так и религиозная хлыстовщина выросла в соблазнительной укромности восточных таинств. Сравним нижеследующее надгробие нашей эпохи (I в. до Р. X.) в честь одной такой духовной особы, причастной к культу и Великой Матери, и Афродиты с Адонисом — надгробие, имеющее к тому же автором философа, хотя и эпикурейской школы — Филодема:
Надо ли настаивать на том, что и здесь эллинский дух покрыл тлен восточной распущенности обычным белым левкоем своей неотъемлемой красоты? Он остался верен себе; и все же это была опасная, роковая приправа. Сами ревнители культов это поняли, и позднее, уже в эпоху империи, постарались их очистить; принцип «развратом спасешься» так и не удалось вырвать из сознания людей. Он заразил и раннее христианство, и молодой церкви стоило немалого труда его искоренить — насколько она его действительно искоренила.
Кем-то когда-то было пущено в оборот положение, будто древние греки пренебрежительно и презрительно относились к физическому труду; и с тех пор эта нелепость невозбранно гуляет по страницам руководств и изложений, черпающих свои материалы из вторых и десятых рук. Конечно, и здесь нет дыма без огня; огнем, и притом очень ярким, было мнение писателя-аристократа Платона и некоторых других о неблагоприятном влиянии на умственность человека ремесленной работы, приковывающей его к станку и в то же время направляющей его помыслы на одну только наживу. Но, не говоря уже о том, что здесь говорится не о всяком физическом и особенно не о земледельческом труде — кто же позволяет нам видеть в словах Платона мнение Греции вообще? Почему не противопоставить им гомеровского Одиссея, с такой же гордостью ссылающегося на свою выносливость среди жнецов, как и на свои бранные подвиги? Одиссея, собственной рукой смастерившего и свое брачное ложе, и свою спасительную ладью? Почему не вспомнить о Гесиоде, посвятившем своему легкомысленному брату Персу поэму «Труды и дни» с основным мотивом «Работай, о Перс неразумный!» и знаменитым стихом:
Мать-земля, наделившая свою любимицу Элладу столькими драгоценными дарами, не избаловала ее плодородием: народ должен был добывать свое скудное пропитание таким трудом, о котором понятия не имеют жители благодатных равнин. Приходилось строить каменные террасы по склонам гор, чтобы спасти от зимнего размыва плодоносный слой, которого никто, бывавший в тех краях, не назовет «черноземом»; приходилось в удобных местах рыть бассейны в каменистой почве, чтобы сберечь драгоценную небесную влагу на бездождные месяцы; приходилось посредством каналов отводить струи рек, чтобы обеспечить полям необходимое орошение — афинский Кефис так и не достигал моря, будучи весь разобран на каналы.
Как видно отсюда, труд человека довольно-таки основательно нарушал божественную жизнь матери и ее родных детей; как отнесутся они к этому вторжению? Необходим был договор, указывающий человеку его права и обязанности; необходима была служба божеству взамен той службы, которую оно согласилось служить человеку; другими словами, необходимо было освящение труда религией. И оно состоялось, притом в такой мере, как ни у одного другого народа; если обилие явлений, отчасти упомянутых выше, позволяет рассматривать античную религию как религию природы, то те, к которым мы переходим теперь, дадут полное право видеть в ней религию труда. Но, заметим это с самого начала, не просто труда, а труда радостного.
Всего менее нарушал человек уклад природной жизни в своем охотничьем быту; ведь в сущности человек-охотник немногим отличается от льва, волка, коршуна и прочих хищников, жизнь которых составляет одно целое с жизнью прочей природы. Немногим — а все-таки кое-чем: тем умом, той сверхприродной сообразительностью, которая навела его на изобретение сетей, стрел, дротов, на приручение собак, на целый аппарат охоты, грозящий истреблением живым тварям леса и гор.
Пусть же он получит закон своей деятельности от той богини, которой он служит как охотник — от Артемиды. Она — могучая заступница всякого зверья, всякой птицы; ее сердцу одинаково дороги детеныши всех живых существ, будь то даже детеныши хищников. Она предоставляет человеку вволю пользоваться взрослыми особями, но не дозволяет ему разрушать породу — и Эриннии настигают ослушника. Священны поэтому гнезда птиц, священны беременные самки; если охотнику досталась таковая — он обязан «отпустить ее Артемиде».
Вообще то гуманное отношение к животным, которым древние эллины так выгодно отличались от своих потомков, — сказалось, между прочим, в прекрасной пословице «есть и у собак свои Эриннии» и было в значительной степени вызвано тем, что они чувствовали над собой взоры Артемиды, внемлющей жалобному крику мучимой твари и обрекающей обидчика каре страшных богинь преисподней, блюстительниц великого договора, которым живет мир. И еще в эпоху земледельческого быта это право животных на хорошее обращение было подтверждено в самых священных греческих таинствах, в Элевсинских: одна из заповедей Триптолема гласила: «Не причиняй обид животным».
Как видно, те благодетельные меры, которые в новейших государствах были лишь сравнительно недавно выработаны гражданским законодательством и соблюдаются со всем известной добросовестностью, были подсказаны эллину религией как непосредственное последствие его сыновних отношений к Матери-земле.
 |
Артемида Эфесская. Античная копия с оригинала (IV в. до н. э.).
И само собой разумеется, что за счастливый улов человек должен был воздать благодарность той же Артемиде… вообще, если читатель хочет получить надлежащее представление о всей целомудренной прелести отношений охотника к этой богине-покровительнице, пусть ознакомится с молодым охотником Ипполитом в одноименной трагедии Еврипида. Но пусть тот же человек не думает, что если он от охотничьего быта перешел к другому, то он может забыть о девственной богине лесов. Так поступил Эней Калидонский; собрав обильный урожай со своей нивы, он почтил начатками прочих богов, но обошел своим благочестием Артемиду. Она напомнила ему о себе, послав чудовищного вепря на его посевы и дав повод к трагедии Калидонской охоты, в которой она играла такую же роль, как Афродита в трагедии Троянской войны.
И все-таки кровопролитие на охоте, хотя бы и законное, беспокоило чуткую совесть эллина, и он чувствовал потребность по возвращении домой подвергнуть себя религиозному очищению — и не только себя, но и своих охотничьих собак:
Переходя от охотничьего быта к скотоводческому, человек почувствовал потребность и эту отрасль своего труда посвятить богам, и ее облечь в форму богослужения. Первый долг благодарности должен был быть уплачен тому богу, который дал руководимому им человечеству достигнуть этой более высокой ступени его культуры; это Гермес, бог Аркадии — той страны, которая, оставшись и в историческое время преимущественно скотоводческой, лучше других сохранила традиции скотоводческой эпохи. Это он похитил с Олимпа первое коровье стадо и дал его смертным — похищение же это имело первоначально глубокий смысл, подобно похищению огня Прометеем, и лишь дурная слава, которой покрыли себя аркадцы в историческое время как бродяги и воры, позволила певцам обратить и это благодетельное деяние их бога в ловкую воровскую проделку — ведь «много певцы измышляют, чему и сами не верят». В других местах пастухи воздавали честь Аполлону: он сам некогда, искупляя убиение Пифона (или киклопов), согласился в течение целого года быть пастухом фессалийского царя Адмета; хорошо жилось при таком пастухе и стадам, и их владельцу. Пана мы уже знаем; и его родиной была Аркадия, где этого бога считали сыном Гермеса. Но необходимыми помощниками всех этих богов были «влажнокудрые нимфы весенних лугов», доставлявшие влагу пастбищам в знойные летние дни; им пастухи тоже воздвигали непритязательные капища и чествовали их молитвами, приношениями и жертвами.
И еще чествовали — и их, и прочих пастушьих богов — игрой на лире или свирели и песнями. Лиру изобрел Гермес, найдя однажды высохший остов черепахи — прекрасный резонанс для струн, как он сразу сообразил. Ею он выкупил у Аполлона похищенное стадо, и с тех пор ею владеет Аполлон, наравне с кифарой, которая, в сущности, была лишь усовершенствованной лирой. Свирель — по-гречески сиринга — была инструментом Пана. Пастушья жизнь с ее привольем располагала к игре; она и тешила душу играющего, и была полезна стаду, которое, прислушиваясь к знакомым звукам, не подвергалось опасности заблудиться; но из нее развилась особая отрасль труда — труда умственного — и поэтому о ней речь будет дальше.
Скотоводство и родственное с ним пчеловодство давало человеку естественную, бескровную пищу — и для него, и для богов: молоко, мед и, в-третьих, вода — таков состав древнейшего «нефалического» (т. е. трезвого, бесхмельного) возлияния. Долго ли оставалось от человека скрытым, что козы, овцы и в особенности коровы могут его кормить также и своим питательным и вкусным мясом? Не без содрогания использовали это открытие; ведь для того нужно было зарезать свою кормилицу, пролить ее кровь. Отголосок этого страха сохранился и в историческое время в обрядности праздника так называемых Буфоний (т. е. «быкоубийства» — именно «убийства», а не «заклания»). Быка подводили к жертвеннику Зевса, на котором находилась посвященная богу растительная жертва; когда неразумное животное принималось ее есть, присутствующий тут же жрец его убивал ударом топора и тотчас бросался бежать: за его отсутствием судили топор; положенные части быка приносились в жертву Зевсу, остальные служили пищей людям. В историческое время просвещенные люди много смеялись над этим странным обрядом с его наивным лукавством; но справедливее оценить чуткость, сказавшуюся в основном чувстве — что нельзя без греха проливать кровь прирученного животного.
И наконец оседлый, земледельческий быт. Он предполагает собственность и ее охрану, прочное поселение и государственный строй; человеческий труд получает свое высшее освящение в общегосударственном богослужении. Цикл государственных праздников был установлен в греческих городах, между прочим, в Афинах в эпоху, сравнительно близкую к исторической, по соглашению с Дельфами, верховными руководителями Эллады в религиозных делах; отсюда — преобладающая роль Аполлона и Артемиды, в честь которых названо и большинство месяцев. Но при всем том эти праздники — апофеоз труда, и притом в такой возвышенной, благоговейной, прекрасной форме, какой не знает ни один народ мира.
 |
Ф. Ригетти. Меркурий. Бронза (ок. 1610 г.).
Богиня земледельческого труда — Деметра, — собственно, одна из разновидностей Матери-земли, указание на которую она сохранила, по-видимому, в своем имени (Δεμετερ, «почва-мать»). Для эллина она была символом зреющей нивы, в волнах которой мы и поныне можем ее чувствовать. И поэтому у этой «матери» есть «дочь» — Кора (Персефона), символ тех зерен, из которых взойдет нива будущего года. Как из этого таинства возрождаемого хлеба вещий ум эллина вывел дальнейшее таинство бессмертия души, об этом речь впереди; на этом изумительном синтезе основано самое священное из празднеств Деметры — Элевсинии с их мистериями; но все же это был первоначально праздник посева, почему ему и предшествовал праздник пахоты (προεροσια). Священным было и преполовение бытности Коры у ее подземного властелина; но еще священнее праздник самой жатвы. И тут ум эллина не остановился на одном физическом значении акта: даровательница урожая предстала перед ним как основательница оседлой жизни вообще с ее прочным браком и семейственностью — он видел в ней свою «закононосицу» (τηεσμοπηοροσ), первоначальный праздник жатвы стал для него глубокомысленным праздником семейной жизни вообще, Фесмофориями, празднуемым исключительно хозяйками.
За работой землепашца — работа виноградаря, важность которой на юге очень велика; посвящена она Дионису. В сущности, Дионис испытал в Греции развитие, противоположное развитию Деметры: та из скромной богини зреющей нивы развилась в богиню-закононосицу и в богиню тайн загробной жизни; Дионис пришел в Грецию как бог творческого экстаза, приносящий своим посвященным также и весть о бессмертии их души; но в гражданском культе пришлось и его праздник приурочить к человеческой работе — и ему поручили виноделие, родственное даруемому им экстазу, но первоначально от него независимое.
Правда, забота о благословении Диониса растущей, цветущей и плодоносной лозе было делом частного культа; государство заботилось о винограде лишь с момента его снятия. Цикл праздников Диониса открывался веселыми Осхофориями, т. е. «ношением гроздьев». Носили их избранные от отдельных фил — всех было десять — эфебы, и притом из храма Диониса в Афинах в храм Паллады в Фалере: гроздья были даром от Диониса богине-покровительнице страны. Остальные праздники были приурочены к различным стадиям брожения молодого вина; то были сельские Дионисии в декабре, Ленеи в январе и Анфестерии в феврале. Все они были обставлены отчасти веселой, отчасти серьезной обрядностью и расцвечены прелестными мифами и легендами; но прекраснейшим из всех дионисийских праздников были учрежденные тираном Писистратом Великие Дионисии в марте. Учредитель понял чествуемого бога в его первоначальном значении как бога творческого экстаза: вино отступает на задний план, первенствует песнь и в ее области — песнь из песней, трагедия. Друг человеческой культуры должен преклониться перед Великими Дионисиями: они дали повод к возникновению величайших произведений аттического гения, творений Эсхила, Софокла и Еврипида.
На пороге исторической жизни Греции новый культ, резко несовместимый с всегдашним чувством меры и предела, проник в нее из страны буйных сил и бурных страстей, из Фракии, — культ Диониса. Первоначально это было, вероятно, магическое воздействие на плодородие земли, и в необузданной варварщине половой разгул как симпатическое средство побуждения земли к плодородию не был ему чужд; при переходе, однако, на почву «благозаконной» Эллады, этот элемент должен был отпасть; осталось, как характерная черта новых таинств, исступление, достигаемое при помощи оглушительной музыки тимпанов, кимвалов и флейт и главным образом — головокружительной «оргиастической» пляски. Особенно подвержены чарам исступления были женщины; вакханки составляли поэтому главную свиту нового бога; в своих «небридах» (ланьих шкурах), препоясанных живыми змеями, с тирсами в руках и плющевыми венками поверх распущенных волос — они остались незабвенным на все времена символом прекрасной дикости, дремлющей в глубине человеческой души, но прекрасной лишь потому, что красотой наделила ее Эллада.
В исступлении пляски душа положительно «выступала» из пределов телесной жизни, преображалась, вкушала блаженство внетелесного, слиянного с совокупностью и с природой бытия; на собственном непреложном опыте человек убеждался в самобытности своей души, в возможности для нее жить независимо от тела и, следовательно, в ее бессмертии; таково было эсхатологическое значение дионисизма. Он завоевал всю Грецию в VIII–VII вв. в вихре восторженной пляски. Эрвин Роде убедительно сравнивает с этим явлением «манию пляски», обуявшую среднюю Европу после великой чумы XIII в. Конечно, умеряющая религия Аполлона постаралась сгладить излишества нового культа: Дионисовы «оргии» были ограничены пределами времени и места, они могли справляться только на Парнасе и притом раз в два года (в так называемых «триетеридах»). В прочей Греции дионисизм был введен в благочиние гражданского культа; его праздники приурочивались к работе винодела, и лишь в играх ряженых и поэтическом преображении Дионисова театра сохранились следы первоначального исступления.
По-видимому, это укрощение первобытного дионисизма вызвало новую его волну из той же Фракии, отмеченную именем Дионисова пророка Орфея. И эта волна подпала умеряющему воздействию Аполлоновой религии; результатом этого воздействия были Орфические таинства, состоящие из трех частей: космогонической, нравственной и эсхатологической.
Космогоническая часть орфического учения примыкала к более старинному мифу о победе Зевса над титанами и основанном путем насилия царстве богов. Чтобы иметь возможность передать его из запятнанных насилием рук в чистые, Зевс делает матерью царицу подземных глубин Персефону, и она рождает ему первого Диониса — Загрея. Но мстительные титаны завлекают младенца Диониса к себе соблазном его отражения в их зеркалах и, завлекши, разрывают на части, которые и поглощают. Сердце спасает Паллада и приносит Зевсу; поглотив его, он вступает в брак с Семелой, дочерью Кадма, и она рождает ему (второго) Диониса. От испепеленных титанов же произошел человеческий род.
Здесь к космогонической части, в которой первобытная фракийская дикость так странно преображена греческим глубокомысленным символизмом, примыкает нравственная. Раз мы происходим от поглотивших первого Диониса титанов, значит, наше душевное естество состоит из двух элементов — титанического и дионисийского. Первый тянет нас к телесности, к обособлению, ко всему земному и низменному; второй, наоборот, к духовности, к воссоединению в Дионисе, ко всему небесному и возвышенному. Наш нравственный долг — подавить в себе титанизм и содействовать освобождению тлеющей в нас искры Диониса. Средством для этого служит объявленная в Орфических таинствах посвященным «орфическая жизнь».
Из нравственного учения вырастает эсхатологическое. Живой Дионис, сердце Загрея, жаждет воссоединения со всеми частями его растерзанного тела. Целью жизни каждого человека должно быть поэтому окончательное освобождение той его частицы, которая в нем живет, и ее упокоение в великой сути целокупного Диониса. Но путь к этому очень труден. Титанизм является постоянной помехой, соблазняя к новому воплощению. И вот мы рождаемся и умираем, и вновь рождаемся, все снова и снова замыкаем свою душу в «гробу» ее «тела», все снова и снова воплощаемся — между прочим, и в звериных телах, и нет конца этому томительному «кругу рождений», пока мы, наконец, не внемлем голосу Диониса, не обратимся к «орфической жизни». И тогда мы спасемся не сразу. Трижды мы должны прожить свой век безупречно и здесь, на земле, и в царстве Персефоны, пока, наконец, не настанет для нас заря освобождения, воссоединения и упокоения.
Пребывание в царстве Персефоны перед новым воплощением понимается как время очищения от грехов жизни; ее обитель — для большинства людей чистилище. Кто безгрешно провел земную жизнь, тот и на том свете проводит жизнь в блаженстве, во временном раю — пока голос необходимости не призовет его обратно на землю для новых испытаний. Но есть и такие, которые запятнали себя «неисцелимыми» злодеяниями; для них нет очищения, они терпят вечную кару в аду. Вот почему каждую душу после смерти ждет загробный суд; строгие и неподкупные судьи должны определить, в которую из трех обителей ей надлежит отправиться.
Орфические таинства, в отличие от Элевсинских, не были прикреплены к какому-нибудь городу: повсюду в Греции, особенно в колониальной, на западе, возникали общины орфиков, жившие и справлявшие праздники под руководством своих учителей. Конечно, от личности последних зависели и чистота, и духовный уровень самого учения; и если с этой точки зрения большинство «орфеотелестов», пугавших простой народ ужасом загробных мучений, и вызывало подчас насмешки просвещенных, то с другой стороны серьезные проповедники учения сумели поднять его на такую высоту, что не только поэты, подобно Пиндару, но и философы подчинялись его обаянию. Великий Пифагор сделал орфизм центральным учением своего «ордена». И через пифагорейцев, и независимо от них подпал орфизму и Платон; правда, в специально догматической части своего учения он не делает ему уступок, но в тех фантастических «мифах», которыми он украсил своего «Горгия», «Федона» и в особенности последнюю книгу «Государства», сказывается в сильнейшей степени влияние орфической эсхатологии. И оно им не ограничилось: отчасти через широкое русло платоновской философии, но более посредством подземных струй, лишь ныне отчасти раскрываемых, она вливается и в христианство. Церковь иногда старалась воздвигнуть против нее плотину Евангелия, — иногда же и нет, находя, что те или другие частности (например, учение о чистилище) не противоречат ему и даже, пожалуй, им рекомендуются. Как бы то ни было, орфизм в значительной степени скрасил христианские представления о загробном мире: без Орфея и Данте немыслим.
Из прочих отраслей земледельческого труда древоводство вообще было посвящено тому же Дионису как «Дендриту», богу приливающих весенних сил; но маслину афинянин посвятил своей богине-покровительнице, Палладе Афине. Она ведь ее подарила своему народу в тот знаменательный день, который решил его участь. Посейдон, желая показать свою силу, ударом трезубца извлек источник морской воды из скалы Акрополя; но Паллада показала людям, что не сила, а благость — высшее проявление божественности; по ее мановению там же выросла бессмертная маслина, почтенная прародительница вековых маслин в долине Кефиса. Почтенны, впрочем, и они: их зовут «мориями», т. е. древами рока, ибо рок настигает того, кто коснется такого дерева святотатственной рукой:
Спартанцы соблюли этот завет в Пелопоннесскую войну: как люди благочестивые, они не тронули священных морий Паллады. Впрочем, не удивительно, что в Афинах культ Паллады как богини-покровительницы всего государства, затмил ее культ как покровительницы маслины: на роскошном празднике Панафиней оливковое масло играет роль только приза победителям в состязаниях, которым государство дарило в красивых глиняных амфорах, тоже афинского производства, с символическим изображением и надписью «Я — с афинских состязаний» — на вечную память.
Палладе же был посвящен и труд ремесленника в его полном объеме — на то она была Афиной-Эрганой («ремесленницей»), имела как таковая свою ограду на Акрополе перед Парфеноном и свой ежегодный праздник в октябрьское новолуние. Но из всех ремесел одно было ей как богине особенно близким: это было самое выдающееся по художественному совершенству среди женских ткацкое мастерство. Зато на ежегодном празднике Панафиней ей посвящался на Акрополе сотканный лучшими афинскими мастерицами пеплос, и его передача в храм Афины была центральным актом всего торжества.
Из других ремесел она особенно опекала гончарное, гордость Аттики:
говорится в случайно сохранившейся гончарной молитве ей. Как покровительница этого ремесла, она легко могла унять и вредоносных бесенят, о разрушительной деятельности которых сказано там же, в следующем за молитвой проклятии:
Такие же бесенята, вероятно, имелись и в других ремеслах, только мы о них не знаем.
Зато в кузнечном ремесле Паллада имела товарища: искусным кузнецом считался тот, кого научили этому искусству «Гефест и Паллада Афина». Гефест как бог вулканического огня был тут необходим. Афины особенно его уважали; они воздвигли ему прекрасный храм — вероятно, тот самый, который сохранился поныне и обыкновенно называется «храмом Тесея», — и чествовали его вместе с Палладой ежегодным праздником (Гефестиями и Халкиями, т. е. «праздником кузнецов») в конце октября, перед наступлением зимы, когда было особенно уместно вспомнить о благодетельной силе огня. Впрочем, богом огня был для эллинов также их благодетель Прометей; и он по праву говорит про себя в одноименной трагедии Эсхила:
Это не повело к расколу: афиняне почитали обоих, и притом схожим образом. Центром праздников обоих богов огня был ночной факельный бег.
Торговля, как в известном смысле и поныне, имела своим покровителем Гермеса: бог-странник, знаменитый жезл которого — керикейон, жезл со змейками — обеспечивает странникам безопасность на больших дорогах, естественно призывался и владельцами торговых караванов. Отсюда, однако, значение Гермеса распространилось в двух направлениях. Вообще торговля распадалась у древних на две отрасли: во-первых, на крупную ввозную и вывозную (εμπορικε) и, во-вторых, на мелочную на местах (καπελίκε): первая была в почете, вторая не особенно. Покровительство Гермеса также и второй с ее органическим мошенничеством не могло не уронить значения самого бога; во всем своем величии он являлся как покровитель первой, соединенной с опасностью для жизни, притом не только в сухопутной, но и в морской ветви. И здесь нужен был Гермес как оплот против пиратов; но все же чаще приходилось торговцу-мореходу подвергаться опасности со стороны самого моря — и поэтому усердно молиться всем его божествам, о которых была речь выше.
А так как благодаря устроению эллинской земли морская торговля была много значительнее сухопутной, то работа торговца почти совпадала с работой судовщика. Ее важность была огромна в Элладе: «Труды и дни» Гесиода ограничивают свою тему земледелием и судовым промыслом. И равным образом в системе греческих праздников мореходство занимает следующее по значению место непосредственно после земледелия. Понятно, что самым удобным временем для праздников мореходства было начало и конец сезона, дни непосредственно после весенних бурь и перед осенними. В Афинах это были Дельфинии в начале апреля и Пианопсии в октябре: оба эти праздника были поставлены в красивую связь со знаменательным для города Паллады, хотя и не торговым плаванием — а именно с плаванием Тесея и обеих его обреченных Минотавру седьмиц юношей и девушек на остров Крит. С трепетом провожали их отцы и матери, с трепетом ждали их возвращения — понятно, что обрядность обоих праздников сохранила память об этих чувствах.
После ноябрьского ненастья наступала тихая, ясная погода, во время которой труженики Посейдона могли вернуться к своему промыслу и привести домой отрезанные бурей в чужих гаванях суда. И греческая религия природы не затруднилась объяснить это странное явление. Дело в том, что в это время священная птица морского бога, алкиона, высиживает своих детенышей в своих плавучих гнездах — почему эта птица и поныне называется по-русски «зимородком»; так вот ради нее Посейдон и сглаживает своим трезубцем морские волны, чтобы они не заливали надежды его любимицы. Отсюда красивая греческая притча об «алкиониных днях» как о затишье после бури; отсюда также и греческое имя декабря — посейдеон.
Возвращаясь, однако, к Дельфиниям и Пианопсиям, может показаться странным, что эти два главных праздника мореходства посвящены не столько Посейдону или Гермесу, сколько богу, ничего общего как будто не имеющему с торговлей и морем, — Аполлону. Это, несомненно, стоит в связи с тем, что весь цикл праздников, как мы видели, был установлен греческими общинами при содействии и с благословения Дельф; вполне понятно, что их жреческая коллегия отвела своему богу первенствующее место во всем цикле. Это сказывается в особенности в обрядности только что упомянутых Пианопсий. Они были не только праздником завершения мореходства: совпадая с концом также и земледельческих работ, они были самым значительным праздником труда вообще. И первое место в их обрядности занимало нечто поразительное по своей осмысленности: в торжественной процессии миловидный мальчик, оба родителя которого были живы (αμπηιτηαλεσ), нес масличную ветвь, увешанную плодами, булочками, кувшинчиками с елеем, медом и вином, одним словом, дарами и Деметры, и Диониса, и Паллады; это была «иресиона». И нес он ее к храму Аполлона как хозяина праздника, как бога труда. При этом участники шествия исполняли веселые песни, из коих две нам сохранились; одна гласит так:
В тот же день и в частных хозяйствах происходили свои приношения иресионы — и, конечно, здесь-то и зародился этот обряд, на почве религии Деметры, а не Аполлона. Иресиона прикреплялась к стене дома, которому она служила охраной до следующего урожая; что с ней делали потом, мы не знаем, но есть основание предполагать, что ее с молитвой сжигали на домашнем очаге.
Мы говорили до сих пор главным образом о физическом труде; само собой разумеется, однако, что и умственный имел в Элладе свое религиозное освящение. Вначале его главным проявлением и как бы совокупностью была поэзия — точнее говоря, раз мы на греческой почве, хорея, т. е. соединение поэзии, музыки и пляски, триединая зародышевая ячейка позднейших обособленных искусств.
 |
Хоровод муз. Иллюстрация к «Сказаниям Греции и Рима» (1930 г.).
Афиняне гордились тем, что именно чистота их горного воздуха приспособляет их к умственному труду, к поэзии: там, на высоких склонах, проясняется ум, окрыляется душа, черпается творческое вдохновение. Его богини поэтому — горные нимфы; «нимфолептами» называют и прорицателей, получивших свой вещий дар от самих дочерей вещей природы. Горных нимф мы называем «ореадами» (от οροσ «гора»); но как вдохновительницы поэтов они удержали более древнее имя, родственное с латинским mons — имя муз. Имела и Аттика свой «холм муз», здесь, по местному преданию, они даже родились как дочери Гармонии; но это предание не могло соперничать с более старинными, освященными именами Гомера и Гесиода, согласно которым музы, дочери Мнемосины (Памяти), жили либо на Олимпе (Гомер), либо на Геликоне (Гесиод).
Музы покровительствовали всему умственному труду человека — αμυσοσ называли того, кто к нему был неспособен: «да не доведется мне жить среди амусии», — молился некогда Еврипид. Они покровительствовали человеку с первых же неуверенных шагов ребенка на его поприще, с уроков грамоты: в классной комнате стоял обязательно кумир муз, со своим свитком или складнем в руках они были в глазах малыша как бы образцом того трудного искусства, которому его обучали. И неудивительно, что свое первое достижение он посвящал именно музам, что он первым делом учился склонять священное имя: Μυσα, Μυσεσ в греческой грамматике, Musa, Musae в латинской были примерами «первого склонения».
Вырастет мальчик, посвятит себя умственному труду — музы и подавно станут его покровительницами. О поэтах известно всем; в пору античной религии они исправно перед проявлением своего искусства молились музам — в новейшее время их некогда живое имя стало лишь классическим привидением. К ним приобщали и других радостных божеств — Аполлона, Гермеса, Палладу (последнюю, отождествив со своей Минервой, специально римляне), — но главное место принадлежит все-таки музам. И не в одной только поэзии — «музыка» унаследовала их имя, и обе они вместе с пляской стали называться «мусическими» искусствами, в отличие от изобразительных, развившихся из ремесел. А когда египетский династ Птолемей Сотер в III в. до Р. Х. основал в Александрии первую в истории академию наук — он вполне правильно назвал ее Μυσειον, каковое имя в суженном значении поныне сохраняет «музей».
Но, можно спросить, получил ли также и умственный труд свое освящение в греческих праздниках, и если да, то где? Да, ответим мы, получил, и притом везде. Он явился главнейшим их украшением, главной причиной того, что они стали не только отдыхом, но и всенародной образовательной школой.
У римлян были божества, заведовавшие всеми отдельными действиями человека: они принимали его при рождении и сопровождали до могилы. Partula присутствует при первых родовых болях; Lucina заведует самим рождением; Diespiter дарует ребенку свет; Vitumnus — жизнь, Sentinus — чувства; Vaticanus, или Vagitanus, открывает рот и производит первый крик новорожденного; Leuana поднимает его с земли и представляет отцу, который признает его своим; Cinina охраняет колыбель; Rumina приучает его сосать грудь, которую древние называли ruma; Nundina — богиня девятого дня — напоминает, что через девять дней после рождения мальчик, очистившись, получив имя и снабженный амулетами, которые должны оберегать его от дурного глаза, действительно вступает в жизнь; рядом с ней Ceneta, Mana и Fata сулят ему счастливую судьбу.
Ребенок растет. В течение некоторого времени кажется, что боги меньше занимаются им, предоставляют его исключительно на попечение кормилицы. Но вот его отняли от груди — тотчас являются новые божества, которые окружают ребенка: Educa и Potina учат его есть и пить; Cuba следует за ним, когда он переходит из колыбели на кровать. Ossipaga укрепляет его кости, a Carna — мускулы. Ему нечего бояться упасть, когда он станет ходить: Statinus, Statilinus и Statina помогут ему держаться на ногах; Abeona и Adeona научат его идти вперед и возвращаться назад; Iterduca и Domiduca — ходить вне дома.
 |
Гений. Римская фреска.
Вместе с тем развивается и душа ребенка, и тоже при помощи разных божеств: Farinus разверзает уста и помогает испускать первые звуки; Fabulinus учит словам; Locutius — целым предложениям. Вслед за тем появляются у ребенка разум, воля и чувства: разум вместе с Mens, Mens bona, богиней ума и в особенности здравого смысла, вместе с Catius — богом сметливости; Consus — богом мудрых решений; Sentia — богиней мудрых советов. Воля образуется при помощи Volumnus, Volumna или Voleta, которые, по-видимому, играют ту же роль, что и божества, способствующие принятию решений; Stimula, которая возбуждает и увлекает; Peta — заведующая первым внешним проявлением воли; Agonilis, Agenoria, Peragenor — приводящие в исполнение задуманное действие; Strenia — возбуждающая мужество, необходимое для преодоления препятствий; Pollentia и Valentia — помогающие продолжать начатое дело; Praestana или Praestitia — закончить его. Чувства рождаются при помощи Lubia или Lubentina и Liburnus — божеств удовлетворения; Volupia — богини наслаждения; Cluacina, которая была, вероятно, божеством грубых страстей; Venilia — богини надежд, которые осуществляются, и противоположной ей Pauentia — богини смущения и страхов.
Особые божества заканчивают нравственное и телесное развитие ребенка, превращая его из подростка в юношу: Numeria учит его считать; Camena — петь; Minerva заканчивает дело богини Mens, укрепляя его память; Juventas — юность и Fortuna barbata — бородатая фортуна — оживляет тело юноши, вступающего в зрелый возраст.
Римское богословие не позволяет ни на одну минуту остановиться в этом бесконечном перечислении божеств. Тотчас за богами юности появляются божества брака: во главе их находится Juno Juga или Pronuba — в качестве богини, заведующей, по-видимому, вообще всем этим событием; потом Afferenda — занятая приданым; Domiducus, Domitius и Manturna — три божества, которые следуют друг за другом: первое, чтобы привести новобрачную к супружескому дому; второе, чтобы помочь ей решиться войти в этот дом; третье, чтобы заставить ее остаться там жить. Unxia — напоминает, что порог дома умащен благовониями, что составляет хорошее предзнаменование.
После свадьбы уже встречаем гораздо меньше божеств, потому ли, что римляне считали человека с этого времени более способным к самостоятельной жизни, или же просто потому, что до нас не дошли их имена. Время от времени, впрочем, попадаются божества отдельных моментов семейной жизни: Tutanus и Tutilina, — помогавшие во время нужды; Viriplaca, которой молились в дни супружеских размолвок; Orbona, к которой обращались бездетные родители.
К этому же периоду жизни относятся, без сомнения, и те боги, которые дают человеку почести, богатство, счастье и здоровье: Fessona — богиня утомленных людей; Pellonia — обезоруживающая врагов; Quies — доставляющая покой; Redicuhis, который первоначально был, вероятно, богом возвращения. Материальное благосостояние находится под покровительством богов выгоды и корысти (dii Lucrii), а в особенности Pecunia, Argentinus, Aesculanus — божеств денег, серебра и бронзы, и Arculus — бога шкатулок. Honorius был богом почести и общественных должностей.
У изголовья умирающего человека стояло столько же богов, сколько их было у колыбели новорожденного: Caecutus — лишавший света его глаза; Viduus — отделявший душу от тела; Mors — которая заканчивала дело смерти; Libitinа — участвовавшая в погребальном шествии; Nenia — в оплакивании покойника.
 |
Д. Веласкес. Кузница Вулкана. Холст (1630 г.).
Ко всем этим божествам следует причислить также и тех, которые, как говорит Варрон, касаются не самого человека, а различных вещей, имеющих отношение к нему, как, например, пищи, одежды и вообще всего необходимого для жизни.
Во главе их нужно поставить божества плодов земных: Janus и Saturnus, которые открывают покров земли и осеменяют ее; Seia Semonia или Fructiseia — питающая посеянное зерно в земле, и Segetia — после того как оно пустит росток; Proserpina, которая была первоначально богиней прозябания; Nodutus — заведующий ростом стебля; Vohitina — окружающая колос предохранительным покровом; Patelana — помогающая колосу развернуться; Panda — богиня колосьев, развернувшихся и открытых; Hostilina — выравнивавшая колосья. Затем идут Flora — богиня цветения хлебных злаков; Lactans — бог колосьев, зерна которых еще налиты молоком; Matuta — способствовавшая созреванию. Sterquilinus дает силу растениям, удобряя землю; Robigus и Robigo заботятся о том, чтобы ржа не испортила хлеба; Spiniensis уничтожает колючки и репейник. Призывают еще Runcina, когда хлеб снят или, вернее, когда он очищен от сорной травы; Messia — охраняющую жатву спелого хлеба; Tutelina — сберегающую его после жатвы; Noduterensis — заведующего молотьбой; Pilumnus, который мелет зерно.
Существовала особая богиня для плодов — Pomona, другая, Flora, для цветов, третья, Meditrina (относительно которой, впрочем, существует сомнение), для виноградной лозы. Уход за пчелами был поручен богине меда Mellona. Из божеств, покровительствующих скоту, известны имена троих: Pales — богиня овец и ягнят, Вubоna — быков, Epona (кельтского происхождения) — лошадей.
Кроме того, мы знаем богов различных местностей и частей земли, на которых живет или ходит человек. Ascensus и Cliuicola напоминают о спусках и тропинках по склонам холмов и гор, Jugatinus и Montinus — о вершинах гор и горных равнинах. Coltatina — богиня холмов, Vallonia — долин, Rusina — окружающей местности. Порог человеческого жилища охраняла Jana; Arquis был богом сводов, Forcutus — дверей; Cardea — дверного крюка; Limentinus — камня у порога, рядом с ним была его подруга — Lima. Внутри был Lateranus — бог домашнего огня.
 |
Пенаты. Барельеф на римской гробнице.
Список всех этих божеств был помещен в Indigitamenta — древних книгах понтификов. Это были не простые эпитеты, не отвлеченные понятия. Перечисленные выше боги действительно существовали по представлениям римлян. Они были вполне определенными существами; им поклонялись и молились, как божествам, действительно существующим отдельно друг от друга.
Вся римская религия сводится к обрядности; но эти обряды обставлены множеством мелочных подробностей, из которых ни одна не может быть опущена. Всякое жертвоприношение для того, чтобы быть действенным, должно быть совершено по определенному ритуалу, и единственную заботу молящегося составляет то, чтобы точно выполнить все правила. Правда, закон римской религии так строг и сложен, что точность в исполнении его составляет немалую заслугу. Если нужно испросить у неба какую-нибудь милость, то прежде всего приходится осведомиться, к какому богу в данном случае следует обратиться. И это уже немалое затруднение: в римском Олимпе, весьма густо населенном, трудно разобраться. А между тем, знать, какой бог может прийти к нам на помощь, по словам Варрона, так же важно, как знать, где живет булочник или столяр, когда мы имеем в них надобность. При этом недостаточно знать атрибуты бога, к которому хочешь обратиться, нужно также знать и его настоящее имя, иначе он может не услышать молитвы. А это чрезвычайно трудная наука — знать настоящие имена всех богов, и есть даже богословы, которые утверждают, что никто этого не знает. На этот счет существует так много сомнений, что даже к самому главному богу обращаются с такими словами: «Могущественный Юпитер, или как там твое имя, то, которое тебе больше всего нравится». Установив имя бога, нужно еще знать точные выражения молитвы, которую следует произнести. Если насчет какого-нибудь пункта окажется сомнение, то обращаются за разъяснениями к понтификам. Эти последние представляют собой нечто вроде юрисконсультов по религиозной части, поставленных специально для наблюдения за точным выполнением всех подробностей культа. У них есть книги, где все предусмотрено, и в которых собраны молитвы на всевозможные случаи. Некоторые из этих молитв чрезвычайно пространны. Римлянин, молясь, всегда находится под страхом, что мысль его плохо выражена, и поэтому он старательно повторяет по нескольку раз одно и то же, чтобы быть вполне понятым. Чтобы недоразумения были уже совершенно невозможны, он присоединяет к словам жесты. Когда он посвящает богу храм, то держит в руках дверь храма; произнося слово «tellus» (земля), он касается земли; он поднимает руки к небу, когда говорит о Юпитере, и бьет себя в грудь, когда речь идет о нем самом. Если и после всего этого боги не поймут его, то это уже, действительно, их вина. В своих отношениях к ним, как и во всем остальном, он очень почтителен и в то же время весьма осторожен. Он особенно старается о том, чтобы не взять на себя слишком много обязательств и чтобы не было никаких сомнений относительно того, что он обещает, а то, пожалуй, ему придется сделать больше, чем он собирался. Если бы, например, при совершении возлияния, забыли произнести слова: «Примите вот это вино, которое я вам приношу», то бог, пожалуй, мог бы подумать, что ему обещают все вино, находящееся в погребе, и тогда пришлось бы отдать его. Малейшее слово имеет огромное значение. Из-за одного пропущенного слова город несет значительные расходы и повторяет дорогостоящие игры. Вследствие этого молящийся не полагается на свою память: очень часто при нем находятся два жреца — один, который подсказывает слова молитвы, а другой, который следит за книгой, чтобы удостовериться, что ни одно слово из нее не пропущено.
 |
Юнона Соспита. Мрамор (II в. н. э.).
Римская религия нисколько не заботится о душевном настроении, в котором должен быть молящийся; она обращает внимание только на внешнюю сторону. Для нее самым благочестивым является тот человек, который лучше всего знает обряд и умеет молиться богам по законам своей страны: в особенности важно являться в храм в соответствующем одеянии и принимать там предписанные законом позы. Римская религия не только не поощряет истинной набожности, но, наоборот, относится к ней даже с недоверием. Римляне — народ, созданный для того, чтобы действовать. Мечтательность, мистическое созерцание чужды им и возбуждают в них подозрения. Они прежде всего любят спокойствие, порядок, правильность; все, что волнует душу, им не нравится. Их религия тщательно избегает всего, что может вызвать возбуждение, и в противоположность другим культам старается скорее успокаивать душевные волнения, чем вызывать их. Она вменяет в обязанность молчание во время священных церемоний, она запрещает даже думать. Она старается сделать молитву как можно более холодной: она лишает ее свободы, составляющей душу молитвы; она запрещает в порыве благодарности или религиозного экстаза прибегать к тем выражениям, которые более всего соответствуют данному настроению; она навязывает определенную формулу, которой нужно пользоваться даже тогда, когда эта формула стала уже непонятной. Каждый год арвальские братья брали бумажку с написанным на ней древним гимном, в котором они не понимали ни слова; но это нисколько не мешало им усердно повторять его до самого конца империи.
У римлян были весьма своеобразные представления об отношениях между человеком и божеством. Если кому-нибудь казалось, что один из богов разгневался на него, он смиренно просил у него мира, и можно думать, что между ними тогда заключался своего рода договор или сделка, одинаково обязательная для обеих сторон. Человек должен купить покровительство небес молитвами и жертвами; но со стороны бога было бы в высшей степени неловко, если бы он, приняв жертву благосклонно, не даровал просимой милости. Римляне были уверены в том, что благочестие дает право на счастье. В самом деле, вполне естественно, что боги любят больше тех, кто им воздает должное поклонение, а «если кого любят боги, тому все удается». Если обнаружится, что боги не исполнили всех условий договора, на них сердятся и с ними начинают дурно обращаться. Иногда возникает спор насчет подробностей договора, и тогда обе стороны, как ловкие сутяги, стараются поддеть друг друга. Раз договор заключен, справедливость требует, чтобы его условия соблюдались свято и ненарушимо: нужно отдать богам то, что было им обещано, это — священный долг, но не следует ничего преувеличивать. Все, что превышает установленное правилами религии, — грех, который называется «superstitio»; и истый римлянин к подобному «суеверию» отнесется с таким же ужасом, как и к нечестию. Он ведет аккуратно свои счеты с богами: он не хочет оставаться их должником, но и не желает также давать им больше, чем следует.
Обряды этого чисто формального культа были так многочисленны и так сложны, что было чрезвычайно трудно не пропустить чего-нибудь. И робкие люди приближались к алтарю с трепетом; римляне часто говорили, что религия и страх неразлучны. Зато к услугам граждан была тонко разработанная казуистика, при помощи которой можно было благополучно выбраться из какого угодно затруднения в деле религии. Известно, например, что религия устанавливала множество праздников, во время которых и земледелец, и вол должны были оставаться без дела, что не могло не отражаться вредно на полевых работах. Поэтому постарались сократить насколько возможно этот вынужденный досуг. Обратились к понтифику Сцеволе с вопросом, что можно делать в праздник. Он отвечал: «Всякое дело, вследствие неисполнения которого может произойти большой убыток». Сначала решили, что значит можно, не совершая греха, вытащить в праздник быка из канавы, в которую он упал, или подпереть дом, который грозит падением. Но впоследствии стали позволять себе расчистку рвов под тем предлогом, что иначе может произойти наводнение на лугах; купать скот, чтобы предохранить его от болезни, и даже кончать какое-нибудь начатое дело, приостановка которого могла его испортить. Существовали дни, когда запрещалось сражаться, но богословы прибавляли, что если враг сам нападет, то «все дни хороши для спасения своей жизни и защиты чести своего отечества».
Тот же дух господствовал повсюду. Ничто не причиняло столько беспокойств и тревоги, как советы или приказания, исходившие от богов. «Ответ гадателя, — говорит Цицерон, — наблюдения над жертвой, случайно услышанное слово, пролетевшая мимо птица, встреча с халдеем или с гаруспиком, блеснувшая молния, раскаты грома, удар молнии, даже самый незначительный, самый обыкновенный случай, если только мы почему-нибудь увидим в нем знамение, — все это смущает нас и тревожит. Сон, по-видимому, должен бы быть для нас временем отдыха, а между тем именно сны служат чаще всего поводом наших беспокойств и страхов». Римские богословы ухищрялись в облегчении этих беспокойств. Они установили как правило, что не следует с первого раза верить тому, что кажется проявлением воли богов: нужно ждать, чтобы знамение повторилось несколько раз. Кроме того необходимо, чтобы оно было замечено непосредственно тем, к кому относится; таким образом, стоит только сидеть дома и уметь вовремя закрывать глаза, и боги будут лишены возможности сообщить нам свою волю. Когда Марцелл решительно задумывал какое-нибудь предприятие, то он выходил из дома не иначе, как в закрытых носилках, чтобы не смущаться никакими ауспициями. Таким знамением, которого не просили у богов, можно было пренебречь: тот, кто случайно заметил его, имеет право не обратить на него внимания.
Не нужно слишком мучиться из-за греха, избежать которого вне нашей власти. Когда Катон Старший встает ночью, чтоб предпринять ауспиции, он знает, что при этом по закону должна быть абсолютная тишина вокруг него. «Но, — замечает он, — если какой-нибудь раб произнесет у себя под одеялом слово, которое я не услышу, то я не могу отвечать за это». Во время Самнитской войны консул Папирий выбрал удобный момент для сражения с врагом. Воины рвались в бой, и жрец-пулларий, который, по-видимому, поддался общему настроению, заявил полководцу, что священные цыплята дали самые лучшие знамения. Но в тот самый момент, когда битва готова была начаться, Папирию сообщают, что цыплята упорно отказывались от предлагаемой им пищи и что пулларий солгал. «Это его дело, — отвечал консул, — если он солгал, то и понесет за это наказание. Что до меня, то мне было доложено, что знамения были благоприятны, и я их считаю благоприятными». И в самом деле, пулларий был убит в самом начале схватки, а Папирий одержал победу. Если обряд требовал принесения в жертву какого-нибудь редкого животного, которое трудно было достать, то делали изображение его из теста или воска, которое и предлагалось богу.
 |
П.П. Рубенс. Юпитер и Меркурий с крестьянами Филемоном и Бокием. Холст (1620–1625 гг.).
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |