"Тавро" - читать интересную книгу автора (Рыбаков Владимир Михайлович)
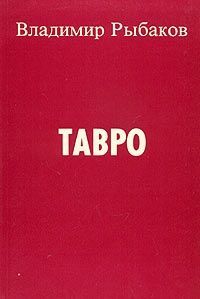 |
Владимир Михайлович Рыбаков Тавро
Глава первая
Святослав Мальцев стоял на Елисейских полях, так поместив свое неловкое в быстротекущей толпе тело, чтобы глаза могли обстреливать город то в сторону Триумфальной арки, то по направлению к Обелиску на площади Согласия. То, что во Франции называлось зимой, сыпало медленный дождь на его ушанку и московское пальто. Скоро Мальцеву придется в шестой раз видеть, как день, лишенный горизонтов, уйдет из Парижа.
Мальцев прислонился к фонарю. Еще три дня назад он продал часы, обручальное кольцо: или его обманули, или золото действительно мало стоило в этой стране… — в кармане у него оставалось два франка.
Мимо него торопились, нервно-медленно продвигались вперед толпы автомобилей. Он увидел: парень, выпустив руль, небрежно прижался лицом к шее сидящей рядом девушки. Мальцев отвернулся, и мысль, рожденная паршивенькими чувствами, стала словами:
— Хорошо живут, сволочи.
Толстое пальто медленно впитывало воду, падающую с французского неба, и озноб, охвативший Мальцева, был скорее нервным.
Нужно было куда-то идти, как-то жить в этом мире… Он прошел мимо светящегося английского ресторана, свернул в какую-то боковую улицу и остановился у витрины гастрономического магазина. Мальцеву куда ближе и понятнее был Лувр, чем эта витрина, загроможденная яствами и вместе с тем изысканная до непонятного. И она олицетворяла этот чужой, холодный для него мир.
Месяц назад Святослав Мальцев вышел из Мурманска в море на борту уже знакомого до мелочей рыболовецкого траулера.
Не бросалось в глаза, что после каждого рейса он тратил на берегу все до копейки — это делал весь экипаж, кроме двух чеченцев, собиравших деньги на невест. Можно было бы придраться к тому, что Мальцев брал с собой в кубрик толстое, хорошего качества пальто. Могли спросить: а зачем? Ответ был давно готов и обдуман: без блажи нет настоящего человека — посмотришь перед сном на дорогую материю и вспомнишь подругу, дорогу на танцы, подумаешь о качке не палубы, а тел.
В рейс, ставший для него последним, Мальцев отправился безо всякой надежды, злым. Оставшиеся после получки тридцать рублей он отдал проститутке Тане (с которой до того додружился, что и спать с ней не мог). Она всплакнула, взяла деньги — для нее мелочь — и сказала на прощанье банальщину:
— Ты хороший. Я буду тебя ждать не так, как других.
Устраиваясь на работу, Мальцев знал, что ему, родившемуся за границей, не выйти и через десять лет из внутренних вод; да и лицо его не кричало о благонадежности, а борода, с которой Мальцев не желал расстаться, доказывала любому начальнику отдела кадров, что ее хозяин может совершить непредвиденное. Но рабочих рук не хватало, и на малый траулер Мальцева все-таки взяли. Когда шла рыба, люди работали зачастую по двадцать часов. Потом наступали дни пустых сетей. Команда изнывала. Мальцев валялся на койке, вспоминая странное свое прошлое и обдумывая опасное будущее. За год до демобилизации его из армии мать добилась разрешения вернуться на Запад. Она уехала, уплатив квартплату за полтора года вперед. Святослав часто с усмешкой гадал: вернется ли его мать после долгой жизни-житухи в Советском Союзе во французскую компартию или не вернется? Ведь она могла себя по праву считать старой коммунисткой.
Дембельнувшись, Мальцев вернулся в Ярославль. Дверь квартиры отворилась без романтического скрежета, и он как был, в шинели, повалился, не смахнув с покрывала пыль, на материнскую кровать.
Ему хотелось, чтобы мать вернулась в компартию: змея кусает себя в хвост, человек ест сам себя.
Пыль, поднятая телом, еще оседала, а Мальцев уже видел себя парижским пацаном, идущим в школу по улице де Птит Эколь, будто не существовало ни времени, ни памяти; видел себя убегающим из интерната, видел мать, приучившую его пить молоко (и прочую детскую гадость) за здоровье Сталина. Все в той стране Франции было умытым. Стены домов страдали только чистой старостью, нищие были наглыми, а честные люди — столь обеспечены, что могли быть добродушными. В общем, для Мальцева, — меньшее зло на земле.
После множества суток беспробудного пьянства, налитого стремлением к свинству, пришло письмо из Ярославля в Ярославль. Без обратного адреса и без подписи. Письмо сказало Мальцеву, что в трубе газовой плиты лежит его французский паспорт. Он там действительно и был — синий, республикански-опасный. На его имя и фамилию, но чистый, без виз и других важных помарок. Святослав вновь рухнул на материнскую кровать, в которой спала какая-то девица с трикотажной фабрики. Спала так, как спят молодые женщины в выходное субботнее утро: тело не подчиняется ни будильнику, ни гудку — только мужскому прикосновению. Мальцев сказал, обращаясь к спящей:
— Дура ты! А старуха моя — вот это женщина. Достала в Москве для меня паспорт. Непонятно, как французы его дали: двойного гражданства у нас ведь нет. За этот кусок картона мне грозит в случае чего не меньше трех лет тюряги или другого санатория. Сжечь, съесть или сохранить? А? Спишь? Спи.
Голова с похмелья не болела, рядом лежал завтрак, просыпаясь бубнила что-то женщина, — решение можно было отложить.
Уже когда Мальцев работал грузчиком в городской хлебопекарне, пришел из Парижа от матери первый вызов. За отказом шел другой отказ. Знакомые евреи приходили весело прощаться, обещали прислать открыточку из покоренного Каира, а он все ждал.
Затем пришла весть, что мать повесилась.
Мальцев вытащил извещение из ящика, когда возвращался с ночной смены, неся в себе не дающую сна усталость. Перечитав извещение несколько раз, пока смысл слов не стал ясен, Мальцев бросил в стены сгустки ругани, проклятья неслись по подъезду. Ему хотелось, чтоб по всей земле прокатилось, дошло до спокойного уха последнего дурака.
Все обрушилось. Не будет больше Франции. Никто его больше не вызовет в эту, ставшую ненавистной своей внезапной недосягаемостью, страну. Он зря отравлялся свободой. Веревка, выдержавшая там, в Париже, тело матери, опутала его по рукам и ногам здесь, в Ярославле. Мальцев уже догадывался, что от свободы нет противоядия. Все эти годы он старался выжить, а яд выползал из всех пор, требовал честности, открытости. Он же запихивал его обратно в себя, скрывал от окружающих опасное знание, и в этой борьбе против себя, против свободы в себе, часто бывал жестоким: издевался над добротой, оскорблял искренность, старался искалечить надежду, где бы ее ни встретил.
Оказалось — все глупо, все зря. Теперь нет нужды в этой измотавшей его борьбе, теперь можно заорать, рвя голосовые связки, что ничего не вышло, что преступно были в нашей стране истреблены люди без числа. Заорать и пойти куда пошлют…
«Окаянная веревка… может, и не намылила… торопилась».
Мальцев в отчаянии и бешенстве ворвался к себе в квартиру, бросился к печке, чтобы, достав, изжевать, разорвать, уничтожить свободную французскую бумагу. Пальцы побежали по заслонке — и застыли вместе с образовавшимся в отчаянии решением.
Через неделю Святослав Мальцев, выписавшись из Ярославля, улетел в Мурманск.
Когда он впервые поднялся по трапу на борт траулера, море под ногами хмельно шептало ему об успехе. Оно продолжало его в этом уверять так же пьяно и нежно много времени спустя.
Ему успели в драках сломать нос и порезать бок, а он умудрился убить человека. Его взяли на «куклу»: милая потаскуха повела его по темным улочкам до безархитектурного подъезда; там поджидали четверо. Боясь попортить костюм, они решили покончить с добычей без поножовщины, голыми руками. После первого, неудачного из-за спешки, удара Мальцев без колебаний выхватил из кармана тяжелую свинчатку: левая рука ударила самого ретивого в лоб — подбородок приподнялся — и правая, с грузом свинца, пройдя короткое расстояние, сломала горло. Когда оставшиеся на ногах увидели мертвые глаза друга, они отступили и ушли. Мальцев убил бы их всех. Потому что переставал себя любить и ценить.
С борта траулера он по-прежнему рейс за рейсом видел горизонты из советской воды и неба. Московское пальто с зашитым под подкладку паспортом все еще ожидало удобного случая.
Но вот как-то рыба пошла да пошла. Траулер гнался за косяками, почему-то невзлюбившими территориальные воды СССР. И — ударил шторм.
Когда гонимое ветром и взбесившейся водой судно совершило преступление невольным переходом государственной границы? Плевать. Уходящий день делал шторм темным. Не светлее было у Мальцева на душе.
Слева по борту была Норвегия, и только моторы мешали течению погнать траулер к фьордам. Когда-то там ждали конунги и викинги на драккарах, ждало рабство. Теперь там Мальцева ждало, как он мечтал, наименьшее зло.
Шторм начал уставать. Мальцев, убедившись, что в такую погоду никто не высунет носа на палубу, потащил к корме давно припасенные старые сети. Его сбила с ног волна. Подумалось: смоет или не смоет? Когда ему удалось запутать сетью винт, вокруг уже была черная ночь. Ему мешали не только шторм, темнота и холод, но и навязчиво-липкое слово саботаж, связывавшее его движения сильнее, чем вода из моря.
Мальцев затрясся при виде буксира, спешившего к траулеру, к нему.
После схватки со страхом — некоторое время траулер бесновался — команда, вспомнив о редкости острых ощущений, об открывающейся возможности рассказать на берегу случившееся и о приближающемся норвежском береге, развеселилась.
Показывая пальцами на матросов буксира, орали друг другу:
— Гляди на того длинного! Верно, старый волк. Небось, на берегу качается. Без водяры пьян.
Рыбаки со стажем с насмешкой смотрели на молодых.
Капитан, грызя ногти, сказал:
— На берег не сходить, запрещено. Они, эти самые норвежцы, посмотрят, что у нас там с винтом стряслось, — и в путь.
Раздался свист:
— Вот-вот, попадаешь в первый раз за границу, так даже поглядеть не успеешь, а у них, говорят, бабы размером больше, чем в Сибири.
Мальцеву вдруг захотелось послать все свободы ко всем чертям, позубоскалить с ребятами и завалиться спать до утра. Захотелось быть как все… и он злобно усмехнулся невозможному. Известно ведь — от себя не убежишь. Грустная эта мысль владела им до прибытия траулера в маленький порт. Траулер, частица Советского Союза, болтался метрах в семи от Норвегии. Нужно было проплыть эти метры в ледяной воде, чтобы превратиться из государственной собственности в свободного человека. Семь лет мечты стояли перед семью метрами воды.
Мальцев вышел из кубрика на палубу, когда на вахте должен был стоять москвич Серов, потомственный алкоголик, человек, больше всего презирающий трезвых и работающих.
Мальцев был гол, его тело, казалось, светилось в черноте воздуха и воды: одежда, пальто, маленькая летная сумка, завернутые в брезент, дрожали в руке. Серов, закутавшись в офицерскую плащ-палатку, сладко сопел. Чувствуя, что теряет секунды, — тело могло одеревенеть, — Мальцев отчаянным, испуганным усилием воли заставил себя решиться. Перед тем как соскользнуть за борт, рука Мальцева впервые за все свое существование сделала на груди знак креста, а мысль, последняя мысль Мальцева в СССР, была обращена к спящему Серову: «Прощай, забулдыга, больше пей, да меньше думай!»
Пришел в себя Святослав уже в Норвегии. Вытащив из кармана пальто припасенную бутылку водки, он, не отрывая губ от горлышка, высосал ее. Мальцев праздновал и грелся. Он был как будто на свободе.
К нему никто не подходил, не арестовывал. Мальцев оделся, разорвал подкладку пальто, вытащил паспорт и стодолларовую бумажку — только за нее могли дать по закону, что остался позади, несколько лет лагеря! А тут хоть бы хны! Не может такого быть! Не может. Его должны остановить. Надеть наручники, узнать, не шпион ли он. И он тогда закричит, что требует политического убежища.
Кругом было тихо. Наверное, следят уже, фотографируют. Может, самому пойти в ближайший… как это у них называется? полицейский участок, что ли? Вообще-то надо.
Но Мальцев не хотел сидеть в тюрьме и часа, минуты даже. Видение захлопывающейся с лязгом двери, нар, особой темени камеры — в ней черно человеку, несмотря на яркий свет — накатилось, овладело им. Нет. Пусть следят. Пусть сами берут.
На автобусной станции было чисто. Люди спокойно занимались своими делами, и не мог Мальцев распознать шпиков. Он сжал рукой дрожащую челюсть. Меняя свою бумажку на местную валюту, сидя в автобусе, он ничего не видел и не чувствовал, кроме руки, которая, должна была вот-вот упасть на его плечо. Он жалел, что не пошел к полицейским, что выбрал свободу… Мальцев поискал другое слово, не нашел и чуть не заплакал…
Только уже в Осло, выйдя из французского посольства, где его встретили, как героя, поздравлениями, он впервые обратил внимание на витрину какого-то гастронома, мимо которого шли и шли люди. Витрина этого магазина была неестественной — слишком богатой. Мелькнула дикая мысль — для пропаганды, что ли? Эта мысль успокоила Мальцева. Так уж сделан человек… он любит понимать — и быстро. Непонятное раздражает; хотя неизвестное манит. В Осло все магазины были такими, но Мальцев не захотел вновь поднять этот наглый вопрос. К дьяволу!
И вот он вновь стоит перед витриной — на этот раз на Елисейских полях, — и вновь не понимает, откуда взялось такое обилие. Мальцев не мог уже заявить себе: этот магазин для капиталистов — цены были вывешены. А что такое франк, он уже примерно знал.
Французы с раскованными выражениями лиц — будто никто не ожидал подвоха от жизни — равнодушно шли мимо выставленного богатства. Мальцев все не мог отойти от витрины. Он думал о том, что за свободу есть досыта и вкусно с создания мира отдавали жизнь миллионы людей, за свободу излагать свои мысли вслух — одиночки. Наименьшее зло и есть всеобщее счастье. Нашел ли он его? Мальцев желчно расхохотался. Он пока был далек от возможности попользоваться тем, что выставляла эта витрина с копченым окороком посредине. Ему и ночевать-то было негде. Последнюю крупную бумажку Мальцев отдал совершенно пресной проститутке.
Был бы он эмигрантом, иммигрантом, политическим беженцем — ему помогли бы различные организации, дали бы и денег. А так французский паспорт давал ему право выбирать президента республики, но не передохнуть.
Руки болтались вдоль тела, но мысленно Мальцев сжал ими голову. Так он дошел до мертвого фонтана, бросил тусклый взгляд на большие дома-дворцы, торчащие по обеим сторонам улицы, и вышел к мосту Александра III. Устало растянул рот в усмешке. Этот мост в Париже носил имя самого националистического русского царя, монарха, как-то сказавшего: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Разве не смешно? Он вспомнил, что при Александре III был заключен франко-русский союз.
В каком-то учреждении, набитом иностранцами, ему предложили поехать на север страны и там, на автомобильном заводе, полировать на конвейере французское железо. То, что он француз, сказали Мальцеву, поможет ему очень быстро продвинуться по службе. Мальцев был слишком уставшим, чтобы рассмеяться им в лицо. Он повторил, что профессия его — сварщик, что он — специалист. Он не сказал, что закончил было истфак, — все равно не поймут.
Его пожелание было куда-то записано. Но деньги давали не тем, кто искал работу, а только людям, ее потерявшим, так что вышел он оттуда в парижский мир богаче не деньгами, а отчаянием.
Ирония судьбы: тепло душе и спокойствие нервам давал не французский паспорт, доказывающий, что он — свободный гражданин свободной страны, а московское пальто, тяжелое и верное, и вот этот русский мост, под которым он ляжет и забудется до никчемного утра.
До падения темноты на Париж оставался пустяк времени. Последний свет ударял в грязную воду Сены, скользил и, пробив насквозь двух бродяг-клошаров, прижавшихся спинами к парапету, уходил в камень, в город. Они сидели, эти клошары, в одинаково неподвижных позах. Возле каждого стояла пластиковая бутылка красного вина. Один был толст, другой — худ. Первый был нагл лицом, второй — грустен… Будто в них жили два характера нищеты.
Вода Сены стала блестяще черной. Мальцев, усевшись рядом с парижской нищетой, стал третьим бродягой-клошаром.
— Можно?
Открылся наглый рот толстяка:
— А чего спрашиваешь? Сел, ну и сиди. Только смотри, жопу не проморозь.
Рот лгал, из грубо говоривших губ выходил добродушнейший голос сытого человека.
Худой и грустный клошар тоже подал голос:
— Ну чего? Шум да шум. Могу я поспать в этом грязном городе?.. или мне на другой берег перейти?
У этого человека был сходный с лицом печальный голос.
Мальцев, встрепенувшись от неожиданной мысли, спросил:
— Полицейских не боитесь? Мы же в центре города сидим. Могут нас забрать? А если заберут, то что будет?
Сытый голос расхохотался:
— Откуда ты такой взялся? Не бойся. А если лягавый и пришкандыбает — он только вой со скуки подаст да и потурит нас на другой участок. Но редко это бывает, лягавые — они воды боятся. Ты новенький, сразу видно. Ничего, свыкнешься. Вот я…
— Давайте спать, а? Выпьем и будем дрыхнуть, — сказал грустный голос.
В наступившей ночи раздался звук проникающего в горло вина. Причмокивание было долгим. Затем опустилась тишина — оба клошара прыгнули без разгона в сон.
Мальцев закутал лицо шарфом, но не закрыл глаз — ему вполне хватало одной темноты. Он вновь мысленно сжал руками голову… и мышцы, послушно уловив веление, нудно заныли. Мальцев по-детски обиженно почувствовал боль в бессильно разбросанных руках.
Впервые за много лет по лицу Святослава Мальцева потекли слезы. Он вспомнил рыжую голову одного своего друга, с трудом терпевшего насилие, человека, любившего мечту о социализме с человеческим лицом и получившего за эту мечту семь лет строгого режима. Что он делает в эту минуту? Спит себе, небось, на положенном месте в лагерном бараке, переваривает баланду… мысль отдыхает, подсознание рисует и рисует сны о свободе, любви, быть может, о том социализме, которого он никогда не увидит… подсознание все может.
Мальцеву не было холодно. Дождь ушел вместе с днем. Еще влажный воздух тепло касался лица. Камень парапета немного студил тело, но это было такой чепухой… Слезы свободно текли. Жалость к себе была острой, болезненной. Происходило то, чего только и боялись когда-то жившие здесь галлы — небо падало на голову Мальцева. Судьба зло смеялась над ним, а жизнь, казалось, отнимала последние иллюзии.
Его друг, ставший зэком, спал в бараке и наверняка продолжал верить в социализм с человеческим лицом. А ставший свободным Мальцев лежал с двумя клошарами под мостом, носящим имя русского царя, и терял веру в себя, надежду, мечты, веру в ценность страдания. Французский документ в кармане позволял ему свободно разъезжать по миру, свободно переезжать с квартиры на квартиру, свободно говорить, орать, писать… свободно, свободно, свободно. Будь все проклято! Он, Мальцев, лежал здесь — и завтра, если полиция не заберет, нужно будет найти чего-нибудь поесть.
Было же еще не так давно существование, лишенное проблемы выбора. Была комната-квартира на улице им. Ленина. Ни съехать, ни переехать. А если разрешат — дадут то же. Квартира — собственность государства, ты — собственность государства, — и никаких забот. Была работа как работа. Главное — не перевыполнить норму, иначе снизят расценки. Работай как все, побольше перекуров, болтовни и поменьше пота. Усилия не вознаграждаются, покорность — иногда, но лучше, спокойнее, быть где-то между услужливым рвением и равнодушной покорностью. Частая смена предприятий пачкает трудовую книжку — начальники отдела кадров этого не любят и, кроме того, одно предприятие похоже на другое, завод — на завод, фабрика — на фабрику, расстояние между ними в десять тысяч километров ничего не значит: все — собственность государства, и ты — собственность в этой собственности, и все заранее предопределено. Те, кто знают или чувствуют, что они могут добраться хоть до первой ступени иерархической лестницы, — те карабкаются, скользят, топят и давят других, думая при этом, что живут, а не существуют. А может, желание быть рабом освобождает от рабства. Хорошо тому, кто не только не видит своих цепей, но и не подозревает об их существовании. Он — счастлив. Одному холодильник бы да денег собрать на отпуск. Другому — немного бы хрусталя в доме, и счастье с порога — да в комнату. Воистину счастлив человек, не знающий о существовании свободы.
А он, Мальцев, разве он не был счастлив… рыбалка, охота? Не стояло проблемы выбора. Не было веры в Бога или в коммунизм — все одно. Не было и безверия. Была крыша над головой. Был хлеб…
Да — был. Антисоветская это пропаганда говорит, будто хлеба нет. У нас в СССР последний раз помирали от голода в начале пятидесятых годов. После — нет.
Мальцев подумал это, будто спорил с кем-то. Ему, Мальцеву, дали проблему выбора, и он увидел свои цепи. Мысль стала словом, слово — действием, и вот — он здесь, у парижского моста, ночью, с двумя клошарами. Что говорить? Кому орать? И вечно-русское — что делать?
Вот как бывает: руки стынут на плитах набережной, и это же бессилие сильнее всякой силы сжимает виски отчаявшегося человека.
Мелькнула сквозь слабость мысль-зацепка: а может, вернуться? Ну посадят, ну отсижу, а там видно будет. Что будет видно? Что опять нужно бежать?
Клошары храпели ровно, без страдальческих присвистов нездоровых от безалаберной жизни людей. Спят себе в центре столицы, чтобы, проснувшись, поносить и поносить власть. Серегу бы сюда, вот где он пожил бы! Сержант Серега, как его называли соседи, уже более тридцати лет ежедневно скакал по улице детства Мальцева к Волге. Одна нога — протез, другая — от земли до культи — из воздуха, зато под мышкой отполированный костыль. На груди сержанта Сереги болтались медали и чем-то дышали ордена. Над ними смеялись: в конце шестидесятых годов не было человеку выгоды напоминать о своих былых подвигах на фронте.
Он спускался к пристани в своей бессменной гимнастерке и часами что-то говорил реке. Когда бывал болен или уставал — не спускался, усаживался на обочине и переговаривался с водой издалека.
Одна бабка из соседнего двора любила рассказывать, как избежал сержант Серега через год после окончания войны кары за то, что стал калекой. Тогда, говорила бабка, всюду ездили люди от советской власти и хватали бездомных инвалидов, портящих своим видом государству настроение. Голод был, страна отстраивалась, и эти горемыки были как-то ни к чему. Всех забрали, и никто назад не вернулся. А Серега — спасся. Он, как увидел тех людей в «газиках», шмыгнул за штабель дров, протез свой небрежно выставил, сушившийся на веревочке пиджачок на плечи накинул, стал как хозяин поленья перебирать. Те не заметили, уехали… Так и остался Сереженька единственным одиноким калекой района.
Мальцев не помнил, сколько раз забирали сержанта Серегу в отделение милиции. Никто не считал. Но раз Мальцев удивился необыкновенному: два румяных милиционера со смехом закидывали инвалида в воронок, и медали на груди дяди Сережи не зашумели, не звякнули, а как-то стонуще позвали друг друга. Тогда Мальцев был уже болен свободой — потому и услышал.
Мальцев пошевелился… чувство неприязни к сытым клошарам возникло неожиданно, но он был почти уверен, что звал и ждал его, это чувство. Вот сравнил сержанта Серегу с этими двумя сладко храпящими существами — и стало легче на душе и немного стыдно за слабостью.
Божественное сравнение. И проклятое. Именно появление сравнения было первым признаком заразного заболевания, называющегося свободоманией. Нет сравнения — нет сомнения. Был бы теперь Мальцев по-прежнему счастливым рабом, героическим рабом, готовым защищать собственные цепи, готовым по приказу надевать их на чужие тела и мысли, хотя бы этих самых французов. Не было бы поисков наименьшего зла, не было бы броска в свободу. Что с ней, кстати, делать?
Образ сержанта Сереги дал Мальцеву каплю бодрости, но беспомощность перед чужим миром все же не хотела уходить. Знание французского языка не помогало, и отсутствие иностранного акцента только подчеркивало нелепость житейской ямы, в которую он попал. Давеча Мальцев зашел в кафе и попросил соку. Ему дали чашку кофе. Откуда он мог знать, что нужно заказывать фруктовый сок, потому что слово «сок» на жаргоне означает, «кофе». На него тогда смотрели насмешливо и еще как-то странно оскорбительно.
А автобусы, чтоб им… Он стоял на остановке как бедный родственник и смотрел, как один за другим они проплывали мимо, не останавливаясь, перед его белыми от ненависти глазами. Откуда он мог знать, что нужно поднять руку? Он был свободен, а все вокруг издевалось над ним, унижало, оскорбляло…
Еще в старину говорили, что для путника нет страшнее неведомых мелочей.
Мальцев ушел в сон без снов. Короткое забытье не принесло ему сил, но рассвет цвета пролившегося на землю молока потребовал у тела движения.
Храпели клошары, уродливые и несчастные под видимым небом.
Нужно было что-то делать. Голод — не тетка.
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |