"Искатель. 1988. Выпуск №5" - читать интересную книгу автора
Владислав Петров ПОНИМАТЕЛЬ Фантастический рассказ
В студенческие годы я подрабатывал в организации, занимавшейся художественными переводами, — корректировал подстрочники. С тех пор в голове задержалось: «Глаза у него были как у арабской лошади, запряжённой в телегу». Такие глаза, наверное, были у меня, когда я уходил от Иры.
Вышел, а дождь как из ведра. И хорошо, что дождь: слёзы, текущие из моих арабских глаз, смывает. Чушь, конечно, какие там слёзы, но себя жалко. Хлопнул я дверью и будто что–то сломал в себе.
Я долго не решался зайти домой — топтался на лестнице и лепил улыбку. Скакун с грустными глазами приволок к жене телегу непонятой любви. Глупо и смешно.
— Устал я, — говорю прямо с порога. — Работы невпроворот.
И не вру, между прочим. Мне всегда хватает работы. Пишу всё: начиная с передовиц и кончая некрологами. Бывает, средненько, без души пишу, но зато сдачу материала никогда не задерживаю. Редактор меня ценит, хотя и не любит.
— Я блинов напекла, — кричит жена с кухни. — Раздевайся скорее, пока не остыли.
Разделся. Поел. Теперь самое тяжкое: обязательный час общения перед вечерним фильмом. Я не хочу ей лгать и не лгать не могу. И не в Ире здесь дело. Невыносимо каждый вечер говорить про одно и то же и делать при этом заинтересованное лицо: что в магазине давали, да какое платье жена Барсукова купила, да что завтра на обед готовить. А ведь я любил её, точно знаю — любил!
Час общения я сократил, сказал — голова болит. Жена знает: главное средство от головной боли для меня — душ.
Заперся, открыл воду. Сел на край ванны. Тяжко жить на свете пастушонку Пете.
Голову пришлось намочить, иначе зачем я в ванной два часа проторчал. Расчесался. Из зеркала глядит здоровенный бугай. Вот только глаза. Не нравятся мне эти глаза. Грустно–тупые глаза. Ну ладно, на сегодня налюбовался. Нарцисс…
Свет в комнате не горит. Значит, жена уже спит.
Достаю рукопись. Иду на кухню.
Если можешь не писать — не пиши. Вернее не скажешь. Однако я этому мудрому совету не следую: не писать могу, но всё равно ежевечерне расчехляю машинку. Не столько по зову души, сколько из природного упрямства, остаточного рвения, как любит говорить в таких случаях ответственный секретарь нашей газеты Амиран. Рвение осталось с тех времён, когда я ещё не мог не писать.
Просидел над машинкой час, не высидел ни строки, зато изрисовал с десяток листов. Точку в повести я поставил полгода назад. Можно клеть в папку покрасивше — и бегом по редакциям. Но одно останавливает: каждое слово выверено, а ощущения правды нет. Как тут быть? И я ежевечерне расчехляю машинку…
Спрятал рукопись. Покурил. На сегодня всё. Спать.
Засыпаю я в последнее время тяжело.
Выхожу из лифта. Редакционный коридор. Привет, привет, привет…
Отсиживаю случку. Пардон, так у нас именуются редакторские пятиминутки.
И наконец, за работу.
Пишу очерк. О человеке, у которого 21 июня сорок первого года была свадьба. А потом призыв, тяжёлое ранение в первом же бою, концлагерь. В сорок четвёртом во время восстания заключённых он, безоружный, бросился на пулемёт. В маленьком польском городке его именем названа улица. Его сын, которого он никогда не видел, сидел вчера напротив меня вот в этой самой комнате и рассуждал о перспективе покупки «Жигулей» в импортном исполнении.
Очерк не идёт. Трудно писать о герое, чей сын, скомкав рассказ о поездке на родную могилу, начинает деловито выяснять, нет ли для таких, как он, сынов героических отцов, льгот на приобретение автомобиля.
Очерк не идёт. Но я знаю, что его напишу. И не потому, что строкаж сдавать надо. Стыдно не написать.
А пока откидываюсь на стуле к прикрываю глаза. Что же всё–таки со мной происходит? Почему всё не так? И кто виноват в этом? Ах, как хочется найти виноватых!
И я нашёл уже: виновата жена, нечуткая, непонимающая. Кто ещё? На кого ещё выплеснуться?
Всё по–прежнему. И всё не так. Как будто вдруг потеряна точка опоры. Мне кажется: недавно со мной произошло что–то очень плохое, а что — не помню.
Или я просто устал?
— Чай будешь? — спрашивает меня Шурик, с которым мы делим редакционную комнату. — Если будешь, сходи за водой.
Вечно мы препираемся из–за этой воды. Шурик походы с графином по очереди возвёл в принцип, лишний раз ни за что не сходит. Это раздражает, но сейчас я даже рад, что он меня окликнул.
Выхожу с графином. В конце коридора замечаю Иру; с ней Валерия, секретарь нашего редактора.
Ира идёт к нам. Она с завидным постоянством появляется в нашей комнате. Три раза в день. По ней можно проверять часы. Она приходит покурить, хотя с тем же успехом может сделать это у себя в корректорской. Мне неприятно, что и сегодня она не изменила своей привычке. Зачем ей это? А может быть, надо опросить иначе: почему я придаю этому такое значение?
Возвращаюсь, на миг замираю перед дверью. Сейчас я стану не похож на себя. И как раз потому, что мне очень хочется быть собой. Насчёт телеги непонятой любви — блажь, но… Быть собой не получается.
А какой я? Где я настоящий? «Вот тогда мы прочувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недосягаемых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную планету, на которой остались знакомые поля и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог…» Это Сент–Экзюпери, «Планета людей».
А какой я? Этого вопроса достаточно, чтобы заблудиться в пространстве. А пока мы в нём ищем себя, нас настигают дела и делишки, которые ещё больше всё запутывают. Что остаётся делать? Как жить, чтобы не оказаться в офсайде? Сжать зубы и вслед за Сент–Элом повернуть на Меркурий?
— Какой я! Я — страстный! — орёт, подвывая, Шурик и тянется к Валерии.
Это первое, что я слышу и вижу, открыв дверь. Во всём десятке редакций, расположенных в нашем здании, нет, наверное, ни одной мало–мальски симпатичной особы женского пола, хотя бы раз не побывавшей у нас в комнате. Приходят они, конечно, не ко мне, а к Шурику.
— Принёс воду? Давай чай заваривай! — приказывает Шурик, не выпуская талию Валерии; и снова на всю редакцию: — О, Валерия, любовь моя, выходи за меня замуж!
Ира сидит у окна, молча наблюдает за ними. Мне она кивнула, как постороннему. Ну и бог с ней. Сажусь за стол и питаюсь писать.
Я никогда не сумел бы броситься на пулемёт, но в концлагере, верю, в подлеца не превратился бы. Легко рассуждать об этом, постукивая одним пальцем по машинке. Особенно если не вспоминать усвоенную через синяки банальную истину: настоящую цену словам определяют только конкретные обстоятельства. Мой одноклассник Лёня Карапетян довёл до гипертонического криза школьного военрука, на полном серьёзе доказывая бессмысленность подвига Александра Матросова, а через девять лет погиб в Афганистане, вызвав огонь на себя.
Визг. Это Валерия обороняется от Шурика. На пол летят бумаги, стаканчик с карандашами.
Открывается дверь. На пороге редактор.
Валерия вмиг выпархивает в коридор. Редактор — седина в бороду, бес в ребро — ревнив, как Отелло. Сейчас последуют санкции. Он выйдет, потом минут этак через пять позвонит и скажет деревянным голосом: «Александр Васильевич, зайдите ко мне». Обращение по имени–отчеству для него высшая форма иронии.
И точно: не успел Шурик привести стол в порядок, как зазвонил телефон. Шурик с ухмылкой — нет в нас почтительности к начальству удаляется. Мы с Ирой остаёмся наедине.
Она затягивается дымом по–мужски глубоко, улыбается.
— Так чего же это ты вчера испугался? — говорит она.
Я не знаю, как отвечать.
Вчера (я дежурил по номеру) у нас неожиданно слетел материал на полполосы. Я позвонил жене, чтобы рано не ждала, а тут всё переигралось в обратную сторону. Индульгенция на позднюю явку была, однако, уже получена.
— Зайдёшь? — спросила Ира, когда я проводил её до дому. После развода она живёт вдвоём с матерью; неделю назад мать уехала в санаторий.
— Зайду, — кивнул я.
И зашёл. А вскоре позорно бежал, убоявшись назревающего адюльтера.
Ира для меня нечто вроде Прекрасной Дамы. Каждому нормальному мужику, даже если сам он в этом не признаётся, нужна Прекрасная Дама. Если её нет, её стоит выдумать. Я выдумал Иру, и в этом не обманываюсь. Но адюльтер с Прекрасной Дамой — вещь противоестественная. И мне нечего сказать Ире.
— Так чего же ты вчера испугался? — повторяет она.
Хоть бы телефон зазвонил, что ли…
Ира хочет ещё что–то оказать, но… входит Пониматель. Слава тебе, Пониматель, спаситель мой!
На, фоне наших взаимных приветствий Ира исчезает незаметно.
Я не знаю газеты, которая не имела бы своего сумасшедшего. В «Вечёрку», например, захаживает Вождь Народов Мира, а к нам вот Пониматель. Он никогда не скажет: «Я тебя слушаю». Он скажет: «Я тебя понимаю», — наполняя это «понимаю» каким–то глубинным, реликтовым смыслом. Правильнее даже будет писать вразрядку: «п о н и м а ю».
Обычно Пониматель ждёт, пока заговорит собеседник, так ему легче п о н и м а т ь. Но сегодня он начинает первым.
— Времени у меня в обрез, — говорит он, — а я ещё не выбрал, кого оставить вместо себя. Я, конечно, вернусь, но это может случиться не скоро, а людей надо п о н и м а т ь постоянно. Ты справишься, если я выберу тебя?
— А куда ты собрался?
— Перечитай «Маленького принца» и всё поймёшь. Через несколько дней моя звёздочка появится надо мной. Экзюпери очень точно описал всё это.
Я хорошо отношусь к Понимателю. Для меня он нормальнее многих нормальных. Но всё равно с трудом удерживаюсь от улыбки: небритый, неухоженный Пониматель мало похож на Маленького принца.
— Так справишься? — переспрашивает он.
— Мне бы прежде, чем браться за других, в себе разобраться сначала. Может быть, лучше Толя? — применяю я запрещённый приём, попросту говоря, пытаюсь спихнуть Понимателя на Толю Ножкина. Правда, я уверен: Толя на меня не обидится, они с Понимателем друзья.
— Я поговорю с ним, — тут же соглашается Пониматель; он ни с кем никогда не спорит. — Только запомни: пока не поймёшь того, кто рядом, себя тебе не понять.
Возвращается Шурик. Привычно высказывается о шефе. Извлекает из стола дежурный бутерброд. Кто–то пошутил однажды, что по дороге на работу Шурик платит за провоз бутерброда, как за провоз багажа, — такой он большой. Бутерброд и в самом деле гигантский. Шурик наглядно опровергает ломоносовскую формулу: «Сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому». Еда исчезает в нём в невероятных количествах, но, мы знакомы уже пять лет, он остаётся всё таким же вопиюще худым.
— У Ножкина сидит Пониматель. Не дай бог сюда явится, начнёт мозги компостировать, — говорит Шурик с набитым ртом. — Толя с ним чуть ли не в обнимку, прямо близнецы–братья…
Когда–то, говорят, Толя Ножкин был неплохим журналистом, но с тех пор много воды утекло. Или он исписался, или семейные неурядицы его добили, но на моей памяти он не столько пишет, сколько мучает бумагу. Лишь изредка Толя преображается. На прошлой неделе, к примеру, он выдал отличный фельетон о строительстве Дворца муз. Но в газету фельетон не попадёт. Редактор сказал: «Так писать п о к а ещё рано. Подождём». Он большой любитель ждать, наш редактор.
Обычно за свои материалы Ножкин не борется, а тут пытался возражать, но куда там!… Шеф подрядился к нему в соавторы и три дня превращал фельетон в нечто глубокомысленно–тягомотно–бессмысленное. Толя переживал и… со всем соглашался. Что поделаешь: оказавшись в редакторском кабинете, он перестаёт говорить нормальным человеческим языком и вообще похож на кролика, приглашённого удавом на завтрак.
Ира утверждает, что Ножкин как личность уже исчерпался, но она же часто повторяет: «Толя — совесть редакции». И верно: Ножкин честен, как зеркало, и потому беспощаден к себе. Редакторского гневя (а гнев этот падает только на тех, кто даёт слабину) он боится не из трусости, а оттого, что знает за собой грех великой гордыни и, следовательно, способность наговорить шефу таких гадостей, что лишь дверью хлопнуть останется. И куда тогда деваться ему, журналисту, потерявшему перо, но ничем иным зарабатывать себе на жизнь не умеющему? Идти в нетребовательную безгонорарную многотиражку? А дома — семья, дома — больная жена, которую приходится возить в столицу (на одних билетах разоришься) на какие–то сложные процедуры.
Когда месяц назад мы отмечали сорокалетие Ножкина и, ясное дело, желали ему дожить до ста, не меньше, он тихо отвечал: «Мне бы, ребята, десятка полтора годков ещё, чтобы дочь поднять, и больше ничего не надо». Я знаю: в этих словах нет позы. Он именно так и думает, именно ради этого и живёт.
Хорошо знать, ради чего живёшь!
А ради чего живу я?
Ради работы? Я люблю её. Но покривлю душой, если скажу, что на ней для меня замыкается мир. Ради «вечной книги, которую я обязательно напишу» (строка из дневника пятнадцатилетней давности)? Нет, я давно уже понял, что мне не вытянуть «вечной книги». Ради будущих детей? Но сначала я заканчивал университет, потом жена институт, потом мы решили
Иногда найти нужный, единственно необходимый вопрос труднее, чем ответ на него. Но когда такой вопрос найден, он требует немедленного ответа, который сразу расставит все по местам.
Но ответ не находится.
И я — так бывает (но мне ещё рано, рано!), когда подходишь к пределу, за которым пустота, — вдруг понимаю, чувствую кожей, что должен ответить сегодня, сейчас.
И я, повинуясь нервному срыву, — так бывает, когда подходишь к пределу, за которым пустота, — звоню жене на работу и, дождавшись, пока её позовут, говорю:
— Я ухожу от тебя.
— Надолго? — Жена в хорошем настроении и воспринимает мои слова как шутку; одно время у нас были в ходу такие дурацкие шутки.
— Навсегда.
— Значит, к обеду не ждать?
Я не отвечаю, моя решимость растаяла. В трубке смеются сразу несколько голосов.
— У Ленки лень рождения, — объясняет жена. — Она такой торт принесла!
Следует пространный рецепт.
— Я не приду сегодня домой, — говорю я, вклиниваясь между тестом и кремом.
— Командировка? Как всегда, не вовремя! Неужели, кроме тебя, загнать больше некого?! — возмущается жена.
— Да, командировка, — говорю я, презирая себя, — дней на десять. Уезжаю через два часа.
Мы говорим ещё долго — о том о сём. Шурик успевает доесть бутерброд и принимается за пирожное, принесённое Валерией.
Я кладу трубку. Состояние полнейшего унижения.
— Шурик, можно, я у тебя поживу немного?
— Сколько угодно, — отвечает Шурик, отправляя в рот остатки пирожного; он живёт один и привык к просьбам подобного рода.
Силюсь вчитаться в начало очерка — два десятка скучно–правильных строк. Комкаю лист. Нет, сегодня я писать не способен. Выясняю у Шурика, когда можно к нему явиться, одеваюсь.
В коридоре стоит Пониматель.
— Почему же я, старый дурак, раньше… — бормочет он. Я очень боюсь. Его звёздочка тоже вот–вот… Вероятность десять к одному… Опасность велика…
Нет желания вникать в его лепет.
На улице сворачиваю к набережной. По широкому тротуару ветер гонит листья. Поворачиваюсь так, чтобы он дул в спину, — мне всё равно, в какую сторону идти. Иду быстро, будто спешу куда–то, но листья обгоняют меня, стайками перелетают через парапет и парашютируют к пенной грязной воде.
К Шурику я попал затемно.
— Ты извини, — мнётся он, открывая дверь, — я тебя не дождался, поужинал.
Шурик (факт общепризнанный) отлично готовит. Но мне есть не хочется, хотя от голода подташнивает. Или это от курева? Сколько я сегодня выкурил? Две пачки? Три?
— Мой руки и за стол, — приглашает Шурик. — И я, чтобы тебе скучно не было, тоже сяду.
Он садится напротив меня, прямо под большой, в чёрной раме фотографией матери. Она умерла в прошлом году. Незадолго до этого Шурик пристроил её вахтёром в наш, говоря официальным языком, «газетный корпус». Вся сморщенная, похожая на обезьянку, она сидела в маленькой стеклянной будочке у входа, в одиночку охраняя десяток редакций от посягательств извне. Когда в руки ей попадала наша газета, здание можно было растащить по кирпичику; но она не читала — она искала фамилию сына. Если находила, начинала промокать глаза.
В феврале сорок второго её вывезли из Ленинграда через замёрзшую Ладогу. Она стала санитаркой в больнице, где её отвоевали у дистрофии. И жила здесь долго в дощатой пристроечке, и сына здесь зачала, и отсюда он пошёл в школу. Получив квартиру в новом доме, она никак не могла поверить: «Неужто это нам, Шурик, такие хоромы?» Но пожить в «хоромах» ей не пришлось. Она угасла быстро, словно не желая обременять сына своей болезнью. За день до смерти в голове у неё помутилось; она металась по квартире, беспокоилась, а потом вдруг исчезла. Шурик всю милицию на ноги поднял, мы с ним ночь напролёт по больницам звонили. А она вернулась на следующий день сама, тихая и счастливая, легла и не проснулась…
— Ты ешь, ешь, — говорит Шурик.
А есть уже, в сущности, нечего. В кастрюльке, что он поставил передо мной, а после машинально придвинул к себе, просвечивает дно.
Я по привычке пытаюсь сострить…
На работу опаздываем. В открывшиеся двери лифта видим: в конце коридора стоит, уткнувшись в стену, Валерия. Она вроде бы смеётся. Подходим ближе — плачет.
— Толя умер, — говорит она.
— Кто?
— Толя умер…
Собираемся у редактора. Шеф молчит, отсутствующе перебирает бумаги на столе. Шурик, глядя перед собой, шёпотом повторяет глупую фразу:
— Это как же так? Как же так, братцы?!
Толя умер от инфаркта.
— Болезнь неравнодушных. Какой честный, какой порядочный был парень, — говорит шеф.
В коридоре встречается Пониматель. Необычно прямой, торжественно–печальный. Выбритый.
— Толя умер, — говорю я ему.
— Я знаю. Его звёздочка взошла в два часа ночи.
— Ночью шёл дождь, ты не мог видеть этого.
Затевать с ним спор — великий идиотизм, но мне трудно сдержаться. Никогда не спорящий Пониматель неожиданно твёрд:
— При чём здесь дождь? Я п о н я л это.
О, господи!
В середине дня едем к Толе домой.
Его жена безучастно сидит в углу, глаза сухие, воспалённые. Увидела нас, не заплакала. Девочка ещё ничего не понимает, удивляется, почему её не повели в садик. Берёт у Шурика — и когда он успел захватить? — плитку шоколада, с шелестом разворачивает её.
В квартире хлопочут соседи. Помогаем выносить из комнаты мебель, после бесцельно толчёмся на кухне. Я стою напротив двери, вижу: сползла накидка с зеркала в прихожей. Прилаживаю её на место, старательно убираю складки, опять снимаю, нахожу кнопки и прикрепляю, теперь уже намертво; Надо чем–то занимать себя, невозможно просто стоять и ждать.
Толю должны привезти вечером.
О какой опасности говорил вчера Пониматель? Неужели чувствовал? По ассоциации перескакиваю на кошек, которые будто бы предчувствуют землетрясение… Спрашиваю:
— В котором часу
— Было ровно два ночи, — отвечает соседка. — Галя закричала за стеной…
Вот тебе и дар кошек!…
Темнеет.
День испаряется окончательно, и… отключается электричество. Обыкновение новостроек, помноженное на закон бутерброда. Дверь на лестницу распахнута; слышно, как соседи звонят в управление энергоснабжения, кричат: «У нас в доме покойник, а вы!…»
Привозят Толю. Вокруг машины много народа, каждый что–то советует.
Толина квартира на восьмом этаже. В лифт не войти. «Нужно ногами вперёд», — говорит кто–то. Разворачиваемся. Идём по лестничным маршам. Впереди нас несут подсвечник с тремя свечами. Громадные тени на стенах. Ощущение чего–то совершенно ирреального. Мы с Шуриком несём сзади. При наклоне Толя начинает сползать, и мне приходится свободной рукой поддерживать его. Вдруг кажется: лоб его тёплый. Мелькает невероятное, за пределами здравого смысла: врачи ошиблись, он спит.
Мы идём, отбрасывая громадные триединые тени. Мы идём вверх. Мы уже на третьем, на четвёртом, на пятом этаже. Мы несём своего товарища. Но его смерть ещё не осознана нами. Когда это случится, каждый из нас — я верю! — поймёт в себе нечто, чего не понимал раньше. Я твёрдо верю в это.
Мы идём вверх. Мы уже на шестом, на седьмом этаже. Включается свет, бьёт по глазам. И я чувствую, как одеревенело плечо, как устала рука. И я вижу заострившееся лицо, складки, натёкшие к тонкой, почти как у мальчика, шее.
И я вижу: Толя Ножкин умер.
Но понимание себя не приходит.
Если умирает близкий знакомый, поневоле начинаешь вспоминать, когда ты его видел в последний раз, как он выглядел, что говорил. Но я не моту вспомнить, каким видел Толю в последний раз. Не запомнилось.
Ира сказала мне как–то: «Ты очень похож на Ножкина. Только у тебя нет опыта поражения». — «А это обязательно?» — невпопад спросил я. «Для таких, как ты, да. Вам это нужно, чтобы окончательно определиться: либо сломаться, либо утвердиться на ногах». — «И Ножкин, по–твоему, сломался?» — «Он уже исчерпался, сошёл на нет…»
При воспоминании об этом разговоре я всегда испытываю не совсем понятное мне самому раздражение.
Мы опускаем Толю на застланный ковровой дорожкой топчан.
Немного спустя в подъезде крик. Из М. приехали родители Толи, с ними деревенские родственники. Утром, говорят, должен прилететь старший брат офицер, несущий службу где–то в Сибири.
В квартире становится тесно. Уходим.
По дороге говорим о Толе. И другими — и знаю, я уверен, я чувствую другими глазами смотрим друг на друга. Каждый думает сейчас о себе, но думает так, что делается добрее к другим.
Я не знаю, как назвать это.
Пришли к Шурику. Поели. Сыграли в шахматы. Разговор всё время возвращается к Толе.
Мне надо писать «Памяти товарища». Утром мы договорились с Амираном, что оба напишем по варианту, потом выберем лучший, либо сделаем из двух один.
Редактор отвёл под некролог сто строк. Из–за этого с четвёртой полосы слетел мой материал о безалкогольной свадьбе. В типографии эти сто строк должны быть завтра к полудню. Когда редактор подпишет некролог в печать, в канцелярской книге, где у нас ведётся учёт сданного сотрудниками строкажа, против фамилии автора появится торопливая запись: «Пам. тов. 100 стр.».
Сто строк памяти о товарище. Журналистский долг. Всё правильно. Но отдашь его, и появится шанс–соблазн отгородиться от Толиной смерти, сказать себе: я сделал всё, что мог. А это не так. Главное — впереди, главное — несмотря ни на что, хранить вину перед ушедшим товарищем. Суть её проста: он — мёртв, мы — живы. Пока мы будем помнить это, мы будем немного лучше, чем есть на самом деле.
Пишу — не дописывая предложений, сокращая слова. Боюсь потерять, не успеть передать то, что чувствую, что мимолётно возникнув, пока ещё живёт во мне.
Я пишу «Памяти товарища».
Я пишу о себе.
Мне в редакцию рано. Надо отпечатать написанное к приходу Амирана.
В стеклянной будке, положив голову на руки, дремлет одноногий инвалид, наследовавший матери Шурика. Входя, случайно грохаю громадной металл и стекло — дверью. Страж не просыпается.
Появляется Амиран. Молча ждёт, пока допечатаю. Прочитав, поднимает на меня свои прозрачные глаза, говорит:
— Шефу не понравится. Но мы зайдём к нему в самый последний момент, когда менять что–нибудь будет поздно.
Без десяти двенадцать вступаем в редакторский кабинет. Шеф надевает очки. Читает. Мрачнеет.
— Мы не можем дать это. Так некрологи не пишут.
Амиран бесстрастно:
— Через пять минут некролог должен быть в цеху.
Шеф надевает очки.
— Надо переписать. Дадим в следующий номер.
Амиран, глядя в окно:
— Следующий номер юбилейный.
И верно: следующий номер юбилейный, пятитысячный для нашей газеты. Он готов к печати давно, уже с месяц. Его содержание никак не сочетается с некрологом. Жизни — жизненно, как говорится.
Шеф снимает очки.
— Но мы не можем совсем не давать некролог. Умер наш сотрудник, наш товарищ…
— Конечно, не можем, — поддакиваю я.
Шеф надевает очки. Внимательно изучает меня (появляется ощущение, что не все пуговицы застёгнуты), говорит назидательно:
— Некрологи публикуются, чтобы вызывать в людях память о человеке. Умер наш сотрудник, наш товарищ, и, значит, некролог, что вы написали, наша память о нём. Некролог — это статья, содержащая сведения о жизни и смерти человека…
Подобным образом редактор способен рассуждать бесконечно, поэтому Амиран всё тем же бесстрастным тоном прерывает его:
— Если через две минуты некролог не попадёт в цех, будут неприятности с типографией.
Шеф снимает очки, снова надевает, ставит, где полагается, закорючку подписи и вяло машет рукой: несите, мол.
Мы с трудом удерживаемся от смеха.
В нашей комнате импровизированное собрание. Шурик прикидывает, кто даст деньги «на Толю», в столбик пишет фамилии. Вдруг подскакивает, протягивает список.
Шестым в столбике значится Ножкин.
«Толю не вернёшь, а жизнь продолжается». Я всё жду, что кто–нибудь, исполнившись философичности, произнесёт эти слова, но пока мои ожидания не оправдываются.
А жизнь, как бы то ни было, продолжается. И надо работать. И я лишу тот самый очерк, что должен был написаться ещё при жизни Толи. Редактор сегодня осведомлялся о его судьбе. Я ответил: «У машинистки». Очерк и в самом деле сейчас печатается: я печатаю сам, доканчиваю восьмую страницу, без мудрствования и натуги. Если ничего не помешает, требуемые пятьсот строк лягут через час на стол Амирана. Каждая из них будет честна, правдива, и всё же вместе взятые, они не выразят того, что я мог, но не сумел сказать.
На девятой странице входит Пониматель. Садится рядом.
— Выбора теперь нет ни у меня, ни у тебя. Моя звёздочка взойдёт послезавтра. Ты должен успеть подготовиться.
— Должен? Кому должен?
— Толе должен, мне должен, себе должен! — в голосе Понимателя несвойственный ему металл.
— А если моя звёздочка тоже вот–вот?…
— Это случится не скоро. А «вот–вот» тебя позовут к редактору.
Заглядывает Валерия.
— К шефу!
Я недоуменно смотрю на Понимателя. Он усмехается.
Иду к редактору, не сомневаясь, что он собирается взять реванш за некролог, но нет: он вызвал меня по делу. Ему позвонили из стройтреста: на участке, где возводится Дворец муз, сегодня собрание. Мы курируем эту стройку. Мне вменяется в обязанность поприсутствовать, послушать и, может быть, написать. «Только без всяких ухищрений, это рядовой материал», предупреждает меня редактор.
— Это тема Ножкина, — говорит он напоследок. Что поделаешь: Толю не вернёшь, а жизнь продолжается.
Возвращаюсь к себе. На столе под стеклом фотография жены, попавшая сюда в стародавние времена. Вынуть её не поднимается рука. Была любовь… Была! И только это мешает драме обернуться фарсом.
Собрание идёт своим чередом. Поднимаются люди, читают по бумажкам: цитата в начале, цитата в конце. Лица постные, о деле ни полслова. И я вспоминаю, как Ножкин пытался взбаламутить это болотце. И забываю о собрании, начинаю думать о Ножкине.
Срок пребывания человека среди живых не есть единственно его жизнь: его секундомер включается, когда мать подумает о нём, ещё, может быть, не зачатом, и останавливается, лишь когда уходит последний из незабывших его. Я не помню, где моя память захватила это слово — «жизнесмерть». Оно красиво–неясно–страшноватое — точно обозначает предмет моего рассуждения. Я — один из творцов Толиной жизнесмерти. Я делаю это небескорыстно, с надеждой, что кто–то будет творить и мою жизнесмерть. Ибо я могу смириться с краткостью своего физического существования, но не могу и не хочу мириться с абсолютным концом. Если слаться, смысла в жизни останется не больше, чем в смерти…
— Это здорово, что прислали именно вас! — за спиной знакомый голос.
Поворачиваюсь. Так и есть — но так бывает только в кино: позади, согнувшись в три погибели, стоит сын героя моего очерка. Вот уж с кем я не чаял здесь встретиться.
— Это я — по поручению управляющего, конечно, — звонил вашему редактору. Я вам верю, что бы там ни говорили, вы сможете написать про наши дела как надо.
— А как надо? Мне никто ничего не говорил.
— Да? — Он глядит на меня подозрительно, но быстро светлеет лицом, словно осознав что–то. — Если вам нужно, мы получили чешскую сантехнику. Такие нежно–голубые тона…
— Нет, мне не нужно.
— Нет?… А итальянский кафель, бежевый такой, с поволокой?
— Нет, спасибо.
— Смотрите, а то разойдётся. Между прочим, десять метров пошло на дачу самому Г. В. Хороший кафель!…
Иду домой, точнее — к Шурику. Ветер. На душе кошки скребут. Интересно, Ножкина тоже пытались купить за импортный унитаз? Наверняка пытались. А он не продался. Но спасовал перед редактором. Нежно–голубые тона с поволокой, чёрт бы их побрал!… Представляю, как он переживал. А мы его тюкали, поучали, «Кто же, мой друг, виноват? — выговорил Амиран. Умей настоять на своём». А он не умел и на этот раз не сумел тоже. И клял себя за это, не мог не клясть. «Толя — совесть редакции…» А сердце не камень, сердце не выдержало.
К Шурику не хочется. В голове почему–то вертится: «И старый мир, как пёс бездомный…» При чём здесь «старый мир»? А вот пёс к месту, только у Блока, он, кажется, «безродный»…
Я решаю идти в редакцию. Мне надо подумать. По дороге я должен пройти мимо дома Иры. Когда до него остаётся перейти через улицу, я уже знаю, что возле подъезда остановлюсь, помедлю немного и пойду вверх по лестнице…
Я сумел уйти от Иры, не разбудив её. Я тихо собрал вещи, бесшумно оделся, без звука закрыл за собой дверь.
Теперь, когда я сижу в редакции, приходит мысль: она не спала, она наблюдала сквозь щёлки глаз, как я, путаясь в темноте, собираю одежонку, и посмеивалась про себя.
Как она развеселилась, когда я попытался рассказать ей, что она Прекрасная Дама! Она смеялась, но я смеялся громче…
Семь утра, ещё темно. Открываю окно. Воздух, холодный и влажный, заползает под пиджак…
Появляется Шурик. Держится обиженно.
— Мог и предупредить, я беспокоился. Ты вернулся в лоно семьи!?
— Зашёл к знакомому и застрял. Извини.
— У тебя ухо в помаде. Пойди отмой.
Насчёт помады, конечно, блеф. Но «отмыть» — идея. Внизу у нас имеется душ для типографских работников. Отличная вещь — душ, хорошо проясняет голову.
После душа меняю рубашку. По настоянию жены я всегда храню на работе свежую рубашку, и вот — пригодилась.
Захожу к Амирану. Он протягивает мне сегодняшний номер нашей газеты. На четвёртой полосе некролог с фотографией. После ретуши Толя не похож на себя. Вторую полосу открывает материал под призывным заголовком; «Работать лучше!» Под ним подпись в рамке «А. Ножкин», «Работать лучше!» — то самое серо–буро–малиновое, что получилось из фельетона о строительстве Дворца муз. Амиран разводит руками: «Шеф приказал в один номер с некрологом…»
Половина десятого. Пора на случку.
Пятиминутки обычно продолжаются у нас часами. Привычно изучаю трещину на потолке. Она почти незаметна, но если ежедневно смотреть в одну точку…
Наконец дело доходит до меня. Сообщаю о ситуации вокруг строительства Дворца, предлагаю готовить критический материал.
— Но мы только что выступили в совершенно ином ключе, — редактор тычет пальцем в сегодняшний номер. — Газета не флюгер. Мы не можем постоянно менять своё мнение.
— Даже когда предыдущее мнение ошибочно?
— Предыдущее мнение — мнение Толи. Нельзя так легко поступаться памятью умершего товарища!…
Пауза. У редактора ходят желваки на скулах; он понял, что сказал глупость, но на попятную не пойдёт. Да и я не дам ему сделать это.
— А если вам позвонит Г. В. и попросит изменить своё мнение, вы тоже откажетесь?
Шеф не знает, как реагировать.
— Вы забываетесь!… Вы… вы пьяны!…
Все прячут глаза.
— Вы убили Толю, — говорю я тихо: каждое слово — выдох.
Редактор потрясён. Он беспомощно озирается, бормочет:
— Что он говорит? Что он говорит?…
Он не может, не хочет понять, что происходит.
— Вы и такие, как вы, убили Толю, — повторяю я.
Шеф лихорадочно роется в карманах. Достаёт трубочку нитроглицерина.
— Выйди, — говорит мне Олег, заместитель редактора.
Я мотаю головой.
— Я прошу тебя, выйди.
Редактор дрожащей рукой извлекает таблетку. Выхожу.
Стою в коридоре уверенный: сейчас ребята скажут ему всё, что думают, и тоже окажутся здесь. Но проходит минута, пять, десять — никого. Бреду к себе. Через полчаса звонит Олег и просит зайти.
У него набито народу.
— Безумству храбрых поём мы славу, — встречает меня Олег.
— Громко вы все её пели в редакторском кабинете…
— Ты требуешь от нас массового героизма. А это явление нечастое.
— Ага, он, как тот крысолов, — добавляет Шурик. — Дудит в свою дуду и зовёт нас топиться, а мы, помня, что редактор одной ногой на пенсии, топиться не хотим.
— Резонно. Каждый умирает в одиночку.
Я хочу уйти.
— За кого ты нас принимаешь?! — останавливает меня Амиран. — Если что, мы тебя в обиду не дадим. Тебе интересно, что сказал редактор, когда ты вышел?
— Что?
— Он оказал, что вы оба погорячились. Ты согласен, что ты погорячился?
— Да, я погорячился…
Шурик прыскает. И смеёмся все. Цунами смеха. Обида заползает куда–то вглубь. В самом деле, чего я хотел от них? Чтобы хором объявили забастовку? Чтобы коллективную жалобу в обком накатали?
А у меня — уходя, я забыл запереть дверь — сидит Сын героя (про себя я почему–то наименовал его именно так). Сидит, закинув ногу на ногу, и читает очерк о своём отце.
— Вам никогда не говорили, что нельзя брать бумаги с чужого стола? Мне хочется обидеть его, унизить.
Но он и не думает обижаться. Такие люди, когда надо, умеют не обижаться — этакие необижающиеся ваньки–встаньки. Он подскакивает, ровняет листы в аккуратную стопочку.
— Они лежали, и я думал… Знаете, у меня сын растёт, десятиклассник. Мечтает быть похожим на деда. Нельзя ли его тоже упомянуть, в смысле продолжатель традиций? Ему в будущем году в институт поступать, способный такой мальчик… Лишняя подпорка…
Раздражение как–то сразу уходит. Ощущение такое, будто присутствуешь на вскрытии (однажды побывал, когда писал о патологоанатоме), — и муторно, и любопытно.
— И вы будете показывать газету приёмной комиссии?
— Мало ли… — он делает неопределённый жест и тут же спохватывается: — Я принёс вам протокол вчерашнего собрания и выступление управляющего.
— А разве он был на собрании?
— Не был, а выступление есть.
Входит Шурик. В руках у него здоровенный кусок яблочного пирога.
— Шурик, — говорю я, — тебе не нужен чешский унитаз? Нежно–голубые тона.
Сын героя напрягся. Ни дать ни взять, спринтер перед стометровкой.
— Какой ещё унитаз? — не понимает Шурик. — Хочешь штруделя отломлю? Хорошо звучит — штру–дель…
— Нужно про сына вот этого товарища надписать. Молодой парень, десятиклассник, общественник. Общественник?
— Общественник, общественник! — благодарно глядя на меня, кивает Сын героя.
— Участник? — спрашивает Шурик.
— Что? Чего участник?
— Чего–нибудь.
— Он очень хороший мальчик, комсомолец, марки собирает.
Шурик подозрительно изучает меня.
— Я сейчас, — говорю я, — мне нужно по делу.
— У меня тоже есть дело, — наконец просекает ситуацию Шурик.
Но я уже успеваю вскочить в коридор.
Шурик встречает меня недобрым ворчанием. Оказывается, Сын героя подверг его жуткому прессингу, даже в туалет сопроводил. Сулил подарить английский смеситель.
Я виновато молчу. Шурик распаляется: «Что за идиота ты на меня навесил!»
Нет, Сын героя — не идиот, не примитив, убеждённый, что за смеситель можно купить все и вся. Он отлично знает, что кое–где и не обломится. Но у него нет комплексов. Если бы он имел герб, на нём был бы начертан гордый девиз: «Добиваться своего!» В конце концов победитель не тот, кто получил меньше щелчков, а тот, кто добился желаемого. Самолюбие, чувство собственного достоинства — понятия неконкретные, а то, что не имеет чётко обозначенной цены, для него и вовсе цены не имеет. Он не хочет быть лидером, это всегда риск. Его устраивает роль шестёрки. Он не трус, но на пулемёт не пойдёт — ни ради других, на даже ради исключительно собственной выгоды. Добьётся своего тихой сапой, не высовываясь. Ну а не добьётся подождёт и, если очень надо, повторит попытку. И в концлагере он выживет, не став предателем. А если уж и донесёт на соседа по нарам, то разве что в самом крайнем случае, когда деваться будет некуда…
Сын героя мне ясен. И потому его родство с Героем кажется противоестественным. Я не знаю, каким он был, человек, поднявшийся на пулемёт, но верю: шкурничать в нашей обыденной сложно–простой жизни он не стал бы.
Я должен верить в это. И гоню прочь все сомнения. Не верить в это нельзя.
После работы едем к Толе. В семь вечера панихида. Шурик берёт с собой пачку газет с некрологом — для родственников и соседей.
Нас много — редакция в полном составе.
Лестничная площадка у Толиной квартиры ярко освещена. У открытой двери стоит подполковник. По очереди пожимаем ему руку, говорим слова соболезнования.
Проходим внутрь. Пожимаем руку отцу. Старик — молодец, держится прямо, рука твёрдая.
Идём по узкому проходу между гробом и сидящими у стены женщинами. Толина мать уже не плачет — хрипит. Галя сидит в изголовье, молчит. Редактор наклоняется к ней, что–то убеждённо говорит.
Я смотрю на Толю. Он мало изменился, только лицо стало упрямым, непреклонным. Возле рук, на саване, лежит газета с некрологом. Я ловлю себя на желании сообщить кому–нибудь, ну хотя бы стоявшему в дверях подполковнику о своём авторстве.
Редактор поправляет гвоздику, склонившуюся Толе на плечо, обходит гроб. Мы идём следом. Я отвожу взгляд, чтобы не встречаться с глазами Гали.
Выходим на площадку, как по команде, достаём сигареты.
Утро. С неба сыплет снежок, первый в этом году. Мы собираемся у Толиного подъезда.
Толю будут хоронить в М. Там родовое кладбище Ножкиных. Через два часа вереница машин пристроится в кильватер автобусу с траурными полосами по бокам. Сорок километров до М. — последний путь Толи.
Нас пока немного, остальные подойдут к выносу.
— Давайте наверх, — говорит Амиран. — Может быть, надо помочь.
Но в квартире полно людей. Наша помощь не требуется.
На тумбочке в прихожей раскрытый альбом. Перелистываю его. Толя малыш в ползунках. Толя — пионер. Толя — солдат. Толя с матерью. Толя с женой. Толя с дочкой. Толя…
!!!
Здесь говорят только шёпотом, мой вскрик вызывает переполох. Из комнаты, где лежит Толя, выходит Галя. У неё красивое, слепленное с иконы лицо и уродливые, толстые, как тумбы, ноги.
На фотографии рядом с Толей сидит, положив ему руку на плечо…
— Это Игорь, — говорит Галя. — Мы вместе жили в коммуналке.
— Они дружили? — спрашиваю я.
— Если это можно назвать дружбой… Толя ни с кем не сходился близко. Они часто спорили, Толя горячился, выходил из себя, а Игорь посмеивался, будто специально заводил его. Иногда он откровенно издевался над Толей, но Толя ничего не хотел замечать. А от меня отмахивался: дескать, Игорь сам не понимает, какой он несчастный человек. Как–то я не выдержала и сказала Игорю, чтобы он больше не приходил. Толя, узнав об этом, неделю со мной не разговаривал и тогда же вклеил в альбом эту фотографию. Кто Толю знает… знал, этому не удивится. Ты знаком с Игорем?
— Да, случайно.
— За несколько дней до… — она осекается, боясь назвать то, что уже свершилось. — Сидим ужинаем, и Толя вдруг без всякой связи говорит: «Если тебе встретится Игорь, перейди на другую сторону улицы». И всё. Вопросы задавать ему было бесполезно. — Она поправляет чёрную косынку. — А назавтра после этого Игорь неожиданно пришёл сюда. Он вёл себя странно, говорил, что Толе не простят какую–то статью, что в тресте, за который Толя взялся, сидит мафия, просил меня повлиять на Толю. И я, дура, когда Толя пришёл с работы… Он разнервничался, раскричался. В последние дни он всё время раздражался, меня совсем не слушал, а чуть что, сразу кулаком по столу и кричит, кричит на меня, а перед собой будто кого другого видит… Жалко его становилось, слов не найти…
На фотографии рядом с Толей сидит, положив ему руку на плечо, Сын героя.
Пауза затягивается.
— Ты мне сё покажешь? — спрашивает Галя.
— Кого её?
— Ту, что он… Словом, я всё знаю… Игорь… Ты не бойся, я только посмотрю…
(Той ночью Ира сказала мне: «А ведь Толя когда–то делал мне предложение». — «А ты?» — «А я испугалась. Он жил слишком сложно, будто две жизни прожить собирался». — «Испугалась — значит любила?…» Ира не ответила, она вздохнула и спрятала глаза на моём плече…)
— Покажу, — говорю я.
— Спасибо. Я пойду, мне надо быть с ним. Ты стань в дверях, кивни, если она придёт.
— Хорошо.
Галя возвращается в комнату.
И почти сразу по нервам бьёт музыка. Кто–то включил магнитофон.
Моцарт, «Реквием». Скоро вынос.
А мне вспоминается поездка в М. — командировка из тех, что «письмо позвало в дорогу». «Давай съезжу», — сказал я Олегу (редактор был в отпуске, и в редакции царила казацкая вольница), когда Ножкин, выудив это письмо из почты, явился ко мне. «Я бы и сам, — горячился он, — но я вроде как лицо заинтересованное…»
В письме шла речь о памятнике, поставленном в М. не пришедшим с войны односельчанам. (Толя, помню, показывал фотографию: стела с именами, Вечный огонь; там, на стеле, четверо Ножкиных увековечено.) Вскоре после открытия памятника сменился директор местного совхоза. Он начал с возведения нового здания дирекции, естественно, в центре села. Во время строительства газовую магистраль перенесли в сторону, и памятник остался без Вечного огня. «Нет труб», — сказал директор пришедшей к нему депутации.
И вот я поехал. Выхожу из автобуса и вижу… Ножкина! Чудеса в решете!
— А я, — говорит он, — взял три дня без содержания. Старикам моим крышу надо помочь залатать.
Вместе идём к дирекции. Проходим мимо памятника. В чаше Вечного огня стаканчик из–под мороженого.
— Нет труб, — разводит руками директор. — Нет, и всё тут!
Он собирается в город на совещание, требует от своего экономиста какую–то справку, ему не до нас. Он непробиваемо уверен в себе, мои слова отскакивают от него, как дождинки от камня.
— Я уезжаю, — говорит он. — Буду через два дня. Приезжайте, поговорим. Сейчас нет времени.
Я теряюсь. И применяю приём не самый чистый с точки зрения журналистской этики.
— Я напишу про вас. И ославлю вас, как только смогу.
— Пишите, — улыбается директор, — а я прочту и исправлюсь. Но… вы не будете писать. Хотите, довезу до города?
Он почти не ошибся. Прибывший из санаторных краёв редактор — ему позвонило высокое сельскохозяйственное начальство — зарубил мой материал на корню.
А в тот день, когда мимо нас пронеслась в город директорская «Волга», Толя сказал:
— Я со сторожем совхозного склада договорился. Он отвернётся, когда мы трубы потащим. Пока этот вернётся (он кивнул вслед угасающему пыльному шлейфу), всё закончим. Здешние ребята помогут. А сварку шабашники сделают, они тут свинарник строят. Ну, скинемся им…
Сначала собралось человек пять. Потом подошли ещё. Потом народа набралось столько, что все поучаствовать смогли только символически. Было
Шабашники денег не взяли. Толя принёс от родителей здоровенную бутыль домашнего вина, и мы — что греха таить — распили её спаявшимся за время работы коллективом. Толя, захмелев, сказал:
— Письмо это я сам написал…
Появляются наши. Я стою в прихожей, рядом Амиран и Шурик. Нам видно, как редакция, строго соблюдая субординацию, выстраивается на лестничной площадке в колонну по одному. Впереди, понятно, редактор.
Шеф в точности повторяет вчерашнюю процедуру: наклоняется к Гале, шепчет ей на ухо, после поворачивается к гробу поправить цветы. Цветы сегодня в порядке, но он всё равно проводит по ним рукой — поправил, значит. Ребята по очереди подходят к Гале, она кивает каждому, но, по–моему, никого не слышит.
Входит Ира. Я хочу, как обещал, дать знак Гале, но она уже смотрит на Иру во все глаза. Как она узнала её? Как Пониматель — п о н я л а?…
Ира не идёт вокруг гроба, она застывает у двери. Так, чтобы видно было непреклонное лицо Толи. Она бледна, губы её плотно сжаты. Она здесь, и она далеко. И я вижу: ничего у меня с ней не было, ничегошеньки.
Вдруг что–то происходит. Я не сразу соображаю: умолкла музыка, кассета открутила свои полчаса.
Кончилась музыка. Кончилась жизнь.
Тишина. Шелест шагов и голосов.
Щелчок. Снова реквием.
Жизнесмерть Толи Ножкина продолжается.
Входит Пониматель. Становится рядом со мной.
Выносят цветы. «Ой, Толя, Толя!…» — кричит какая–то бабка, одетая в плюшевый малахай.
Сосед — мужичок с ноготок, принявший на себя ношу распорядителя (редко когда не найдётся такой мужичок), говорит:
— Гроб должны нести товарищи.
Товарищи — это мы.
На повороте Олег оступается. Остальные удерживают гроб, но он наклоняется, и Толины руки, до того покойно лежавшие на груди, начинают сползать вбок; видно, что запястья притянуты друг к другу бинтом.
Связанные ради покойницкого порядка руки — как подрезанные крылья зоосадовских птиц.
Выходим на улицу. Я меняю Амирана. Впереди подставляет плечо Пониматель.
На земле тонкая плёнка снега. Но небо чистое, голубое. Не холодно.
Мы проносим Толю мимо людей, столпившихся у подъезда, мимо машин, которые повезут нас в М., мимо редакторской «Волги», со скучающим шофёром за рулём.
У траурного автобуса заминка, заело дверь.
Стоим, ждём. Онемела рука. За спиной плач.
Понимателю тяжело. Он дышит хрипло, отрывисто. Я моложе, мне легче. Больно режет плечо.
Пониматель поворачивает голову ко мне. Как я не заметил этого раньше: у него и у Толи одинаковое выражение на лицах — строгое, непреклонное.
Наконец задвигаем гроб в автобус. Брат Толи хочет залезть следом. Мужичок–распорядитель его останавливает.
— С гробом поедут товарищи. Родственники должны в машине.
Подполковник не спорит. Только оборачивается и бросает короткий и виноватый взгляд на строгое лицо младшего брата.
— Самые близкие, пожалуйста, — просит–командует мужичок.
У Толи не было
Занимает своё место шофёр. Включает — прогреть — мотор.
Я смотрю в окно. Вижу, как ребята толпятся у «рафика», одолженного по такому случаю у типографии; лицо Иры белее снега, с нею неладно; Амиран (он, похоже, тоже кое–что знает, наш молчаливый Амиран) выходит, берёт Иру под руку. Вижу, как бьётся в крике Толина мать, — её никак не могут усадить в машину. Вижу, как; прижав к себе дочку, стоит потерянно Галя. Вижу, как некурящий редактор просит у шофёра сигарету, затягивается и кашляет.
А рядом, у моих ног, лежит в деревянном ящике Толя — совесть редакции. А рядом — напротив меня — сидит Пониматель.
Автобус медленно трогается, и я вижу, как из переулка выбегает Сын героя с венком в руках. Он растерянно оглядывает готовые поехать машины и, увидев свободные места в редакторской «Волге», дёргает дверцу. Пока он втискивает венок на заднее сиденье, я успеваю прочесть на ленте: «Другу Толе».
Слышу (откуда–то издалека) голос Понимателя:
— Сын героя боялся Толю. Такие, как он, всегда боятся таких, как Толя. Сын героя боялся Толю и завидовал ему.
Сына героя зовут Игорем.
— Мне больше нравится, как назвал его ты. В этом есть смысл.
— Откуда ты знаешь, как я его назвал? Кто ты, Пониматель?
— Пониматель и есть, только с маленькой буквы. Это не прозвище, это призвание.
— Телепат по призванию… Или нет, иллюзионист в маске сумасшедшего…
А рядом, у моих ног, лежит в деревянном ящике Толя — совесть редакции. Нелепый разговор, и всё — нелепо.
— Ни то и ни другое, — отвечает Пониматель. — Всё дело в бомбе. Нет, не в атомной, в каждом из нас спрятана бомба во сто крат её страшнее. Помешать катастрофе может только п о н и м а н и е человека человеком. Потенциально к этому готовы все люди; но ждать — смерти подобно, и они, Пониматель вдруг машет рукой вверх, в потолок автобуса, — они решают ускорить естественный эволюционный процесс. Они отбирают по каким–то им одним ведомым признакам группу людей и будят в них п о н и м а н и е.
Шизофренический бред, замешанный на благородных помыслах и безудержной фантазии, стирающий грань между откровением и прописной истиной.
— Они — зелёные человечки?
— Называй их как тебе нравится И верь мне.
Он возвращает меня к действительности. Только ненормальный способен вести такие речи, сидя подле покойника в автобусе–катафалке. Передо мной снова тот Пониматель, которого я знаю давно, — назойливый, но безобидный чудак. Необъяснимое и необъяснённое сразу отходят на второй план. Стыдно становится, что я поддался на этот разговор.
— И много вас… понимателей? — спрашиваю я скорее по инерции и как–то разом чувствую усталость.
— Не знаю, — говорит Пониматель. — Тех понимателей, чья звёздочка ещё не взошла, знать не дано никому. Но многих из ушедших могу назвать: Рублёв, Моцарт, Экзюпери… Есть и другие, незнаменитые. Мать Шурика, например.
— И к каждому из них приходили зелёные человечки?
Надо бы замолчать, перевести разговор на другое, но я… Прости меня, Толя!
— Всё проще. Помнишь, мать Шурика исчезла перед самым концом? Когда пониматель п о н и м а е т, что его звёздочка скоро взойдёт, он ищет себе преемника. Зелёные человечки лишь запустили машину, а дальше уже крутят люди.
— И тебя в пониматели тоже завербовал человек?
— Да, это случилось в сорок шестом. Мне было пятнадцать, и я только что потерял родителей. Оуновцы загнали их в дом и подожгли, а меня отшвырнули к плетню: «Смотри и запоминай!» Жить не хотелось. И тут пришёл он и сказал, что его звёздочка взойдёт, когда наступят сумерки, а сумерки уже были близки. Просил, умолял меня — я был единственным, так сказал он, кто годился в преемники. Он был пасечник. И сделал меня понимателем и спас меня…
Он продолжает говорить — страстно, убеждённо. А я понимаю (п о н и м а ю?), что так же, как он меня сейчас, сорок лет назад убеждал его пасечник. И вдруг я понимаю, что Пониматель не только назначает преемника, но, может быть, сам того не сознавая, отдаёт долг человеку, выдумавшему для потрясённого горем мальчишки красивую сказку.
— Я согласен, — говорю я.
А рядом лежит в деревянном ящике Толя. Прости меня, Толя! Я оказался плохим товарищем в твоей последней дороге.
— Ты не веришь мне, — огорчённо мотает головой Пониматель. — Что ж, я могу тебе доказать. В свой последний день пониматель способен на всё. Тебе, чтобы поверить, нужен аттракцион. Ты получишь его. Хотя я пасечнику поверил на слово…
— Я верю…
— Молчи! Видишь, впереди поворот? Сразу за ним на дорогу выбежит заяц. Смотри внимательно!
Но я — не знаю почему — оборачиваюсь. За нами кавалькада машин: «Жигули» — в них родители Толи, брат и жена с дочкой; «газик» с военным номером; неказистый, покрытый пятнами шпаклёвки «Москвич» с мужичком–распорядителем за рулём; машина редактора и «рафик», в котором едут ребята. Лучше бы мне быть там, с ребятами.
— Смотри сюда! — резко разворачивает меня Пониматель.
Из лесу прямо под колёса автобуса вылетает заяц, чудом выворачивается и несётся, счастливый, что остался цел, по бело–коричневой земле к кустарнику на пригорке.
Я, езде не до конца осознав происшедшее, смотрю на Понимателя.
— А теперь спрашивай, спрашивай! — говорит он.
И я, запинаясь, задаю дурацкий вопрос:
— Зайца ты… заставил?
— Нет. Я просто п о н я л, что он выскочит.
— Почему ты выбрал меня?
— Потому что это необходимо тебе.
— Я не сгожусь…
— Сгодишься.
— Ты забыл, как сказал мне об этом впервые? Ты сам сомневался…
— Я не сомневался. Но понимателем должен был стать Толя. — Пониматель улыбается… — Сказать, о чём ты сейчас подумал?
— О чём?
— Тебе сделалось неприятно, что я держал тебя в дублёрах.
— Ну почему же…
Пониматель улыбается.
Жутко, когда в тебе чувствуют то, в чём ты даже себе не хочешь признаться.
— Ты читаешь мои мысли?
— Да.
— Так было всегда?
— Нет, только сегодня. Время моё истекло, и я п о н я л суть вещей.
— Тогда — ты бог.
— Я не бог и даже не ясновидящий. Я всего лишь п о н и м а ю вероятность событий, и чем ближе подхожу к концу, тем лучше это делаю.
— Я буду тебе неравноценной заменой. У меня не хватит терпения. Позади едет Сын героя. Ты сможешь смотреть спокойно, как он станет юродствовать на могиле?
— Этого не будет.
— Всё равно. Знать его подноготную и терпеть? И таких, как он… Зло непобедимо? Ответь!
— Непобедимо добро.
— А зло?
— Всё зависит от тебя.
— От меня?
— Именно от тебя. Ты выбрал себе нелёгкую судьбу.
— За меня выбрал ты.
— Не будем спорить. Всё п о й м ё ш ь после.
Дорога запетляла вверх. Тёмные пятна исчезли — всюду снег.
Белый снег. Голубое небо. Бело–голубой мир. Жить да жить…
А рядом в деревянном ящике лежит Толя — совесть редакции.
— Скажи, Пониматель, ты веришь, что это исходит от… нелюдей? Ты же всё п о н я л, ты же не можешь не знать…
— Я верю, что это нужно людям, — отвечает он. — До тех пор по крайней мере, пока выбежавший на дорогу заяц будет значить для них больше простых человечьих слов.
Мы смотрим в глаза друг другу.
Машина редактора съезжает на обочину, из неё выскакивает, размахивая венком, Сын героя. Сделав виток по серпантину дороги, мы видим сверху, как он безуспешно пытается остановить попутку. Редактор из машины не вылез.
Попутки здесь а такую погоду редки. Гололёд.
— Как жить мне дальше, Пониматель?
Он улыбается и молчит. Улыбается и молчит.
Въезжаем в М. Едем мимо стелы, на которой увековечены четверо Ножкиных. У её подножия шелестит Вечный огонь.
Мы с Понимателем смотрим в глаза друг другу.
Просторное сельское кладбище, где у каждой фамилии свой ряд.
Снег. Только к разверстой могиле протоптана дорожка.
В голубое — ни облачка — небо упираются корабельные сосны.
— Папочка, не умирай! Не умирай, папочка, я буду хорошо вести себя! Папочка!…
— Уведите ребёнка! — надрывно кричит кто–то.
И мы засыпаем могилу.
Прощай, Толя! Я не стесняюсь слёз.
Обратно возвращаемся в «рафике». Пониматель сидит впереди, рядом с шофёром. Вдруг кричит:
— Стой! Стой!
Выпрыгивает наружу и бежит, скользя по обочине. Останавливается, поднимает что–то. Я догадываюсь: венок.
Шурик говорит, ни к кому не обращаясь:
— У меня деньги на книжке, от отца алименты. Мать гордая была, ни копейки не истратила. Что, если я их Гале? Будет девчонке приданое, разве плохо?
— Не возьмёт, — откликается Амиран. — Но если завтра ты, успокоившись, не перерешишь, попробуй уговорить.
— И уговорю. А своим детям успею ещё заработать.
— Ты детей заимей сначала, — говорит Валерия.
— Дурное дело — не хитрое. Ира, перестань плакать. Толя бы не одобрил. Давай поженимся и детей разведём. Жизнь–то не окончилась.
Шурику, большому ребёнку разношёрстной редакционной семьи, всё сходит с рук. Шурик — он и есть Шурик.
А Пониматель срывает с венка ленту, аккуратно скатывает её и кладёт в карман, а венок швыряет что есть силы. И катится венок, бренча, — я не слышу, но мне так кажется; почему–то я вдруг думаю, что он жестяной, — и катится венок, бренча, по каменистому склону.
На въезде в город догоняем машину редактора. Её тащит на тросе мусоровоз. Редактор и Сын героя о чём–то мирно беседуют.
— Странно, что шеф не пересел в головную машину. Начальство всё–таки… — комментирует Шурик.
— И такая мразь топчет землю!… — думаю я о Сыне героя.
Пониматель поворачивается ко мне.
— Побереги эмоции, — говорит он, не раскрывая рта. — Сына героя можно пожалеть: он умрёт в колонии, забытый всеми. Статья, которую ты напишешь, сыграет в этом не последнюю роль. После неё всё и закрутится. Его арестуют за хищение соцсобственности.
— И что, он много украл?
— Он — немного. Но его хозяева выкачали из своего треста столько, что каждой музе можно построить по дворцу.
— Зачем Сын героя приходил к Гале?
— Нервы не выдержали, да и напакостить очень хотелось. Живя в одной квартире с Ножкиными, он видел однажды, как Ира утром уходила от Толи. Галя ездила к матери.
— Вот как…
— Толя считал себя виноватым перед Ирой, но виноват он был только перед самим собой. Он любил Иру до последнего дня.
— А она?
— Не знаю. Она и сама не знала.
— Толя никогда бы не бросил больную жену. И дочь, не забывай про дочь! Дочь была для него главным в жизни!
— В том–то и дело! Ира вышла замуж, уехала, и Толя поверил, что, женившись, сумеет забыть её. А вышло наоборот: Ира скоро вернулась, и он оказался в цугцванге, любой выход заканчивался для него тупиком. Он был силён честностью и оттого — беззащитен. Сын героя знал это лучше всех.
— Сын героя — мерзавец! Его конец справедлив!
— Это страшный конец. На его могиле не будет даже фамилии, только инвентарный номер. Он считал, что живёт ради сына. Сын не приедет его хоронить.
— За что боролся, на то и напоролся. Яблочко от яблони…
— Ты ошибаешься. Его сын разыщет очевидцев гибели деда и напишет книгу о нём. Это будет честная книга. Так что ты с чистой совестью можешь похерить свой очерк. Он у тебя не получился. Не беспокойся: ничто не будет забыто, всем воздастся по заслугам.
— Ладно, похерю. И от редактора отобьюсь, он давно его жаждет прочесть.
— Отбиваться не придётся. После вчерашнего разговора с тобой редактор написал заявление об уходе на пенсию. Не будь к нему так суров. Он несчастный, давно потерявший себя человек. Его один раз напугали в тридцать седьмом, когда забрали отца, и ему хватило. Он прожил мучительно–бесполезную жизнь. Толя простил бы его…
— Кто–то не должен прощать, чтобы такие, как Толя, оставались жить. За всё надо платить.
— И всё–таки Толя простил бы…
— Вряд ли. Но, возможно, п о н я л бы.
— Мне нравится, как ты думаешь, но п о н и м а т ь ты будешь иначе, чем я. Ты жёстче.
— Нет. Но время моё — другое.
— Я могу езде как–нибудь помочь тебе?
— Я сам. Необходимо многое п о н я т ь самому.
— Тогда помоги мне ты. Побудь сегодняшний вечер со мной. Всё–таки страшно…
Все едут поминать Толю, а мы прощаемся. Толя п о н я л бы…
Выходим из машины возле редакции. Падает крупный снег. Темнеет.
— Уже скоро, — говорит Пониматель. — Тебе покажется, что я умираю, но это неправда. Это всё равно, что сбросить старую оболочку… У тебя есть двушка?
— Что?!
— Двушка. Двухкопеечная монета.
— Позвонить можно из редакции.
— Мне нужно отсюда. Ты иди, я поднимусь следом.
Вхожу в лифт, а он идёт к телефону–автомату в вестибюле. Двери лифта закрываются. Кажется, что сейчас, когда они откроются, я проснусь.
Но нет. Редакционный коридор. Пустой и полутёмный.
Жизнь начинается заново? Я — пониматель?
Захожу к себе. Включаю настольную лампу.
Жизнь начинается заново. Я ещё не пониматель, но я должен им стать. Это — долг. Перед Толей, чью жизнесмерть мне предстоит продолжать. Перед Героем, поднявшимся на пулемёт. Перед женой — мне ещё предстоит п о н я т ь свою вину перед ней. Перед Шуриком — как я хочу, чтобы он не передумал назавтра. Перед Понимателем. Перед Амираном, Ирой, Валерией, Галей, Олегом, перед Толиной дочкой, перед людьми, для которых пока ещё увы! — заяц, выбежавший на дорогу, значит больше простых человечьих слов.
Шаги в коридоре. Это Пониматель.
— Вот и всё, — улыбается он. — Ты не огорчайся, тут нет ничего печального. Прислушайся, звёзды смеются. Ну же, ну!
И я слышу тихий перезвон.
— У тебя будут звёзды, которые умеют смеяться. Как будто я подарил тебе целую кучу бубенцов. Прислушивайся к ним, когда будешь писать.
— Я могу не писать и писать не буду. Я пишу искренне, но пишу ложь. Я не знаю, в чём она, но она есть.
— Ты пишешь правду. Ложь была в тебе самом. Но теперь всё пройдёт. Почаще запрокидывай голову. Звёзды не лгут. Взгляни: они смотрят на нас.
Я вглядываюсь в тёмное снежное небо.
— Вон, вон она, видишь — восходит, — вдруг кричит Пониматель. — Это она, она!…
Лицо его горит, глаза широко раскрыты.
— Это она… она… — повторяет он. — Верь: Моцарт не умирает, он всегда возвращается. Слепота ещё не конец. Можно выжечь глаза, но нельзя убить душу. Экзюпери вернётся. Я вернусь. Она восходит, восходит…
И я вижу звезду. И около неё множество других звёзд. Они перемигиваются, они смеются, как бубенчики на колпаке у мудрого и грустного шута.
Звонит телефон. Я не подхожу. Звонит долго. Умолкает. Снова звонит.
Звезда восходит над миром.
— Сними трубку, — говорит Пониматель.
Голос жены.
— Проходила мимо, смотрю — свет. Неужели, думаю, вернулся. Я внизу, меня вахтёр не пускает.
— Я не…
Пониматель бьёт по рычагу.
— Иди! — кричит он. Глаза его безумны.
— Иди, — просит он тихо, еле слышно. Глаза его бездонны.
— Иди… — легонько подталкивает он меня к выходу.
А звезда восходит над миром.
— Иди. Так надо. Не забывай слушать звёзды. У тебя родится сын, сделай его человеком. И Моцарт не умрёт… Иди!
Жена стоит в вестибюле. Жалкая, неприбранная, из–под пальто выбился ворот домашнего платья.
— Проходила мимо, смотрю — окно у тебя горит. Вдруг, думаю, вернулся… О, господи, что же я… Я… Он позвонил, сказал, тебя надо спасать. Сказал: глаза слепы, искать надо сердцем. Я не поняла… Я знаю: ты не уезжал. Я видела некролог, так мог написать один ты… Он позвонил, он просил… Я плохая жена…
Она поворачивается к выходу.
— Подожди! — я беру её за руку. — Подожди! — говорю я ей. — У нас родится сын! — говорю я ей. — Ты прости меня! — говорю я ей. — Ты прости меня… — шепчу я безысходно.
Она плачет. Беззвучно, закусив губу.
— Глупый!… Какой ты глупый!… — плачет она.
Стук, как выстрел, — вахтёр уронил костыль.
— Там Пониматель, — говорю я ей. — Его звёздочка… слышишь, звенят бубенцы?… Ты подожди, ты только не уходи… Я должен быть с ним… Ты только не уходи, только не уходи!…
Я не жду лифта. Я несусь наверх через три ступеньки.
Я должен быть с ним.
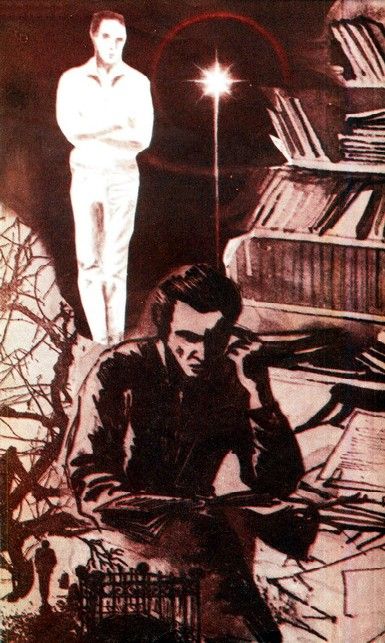 |
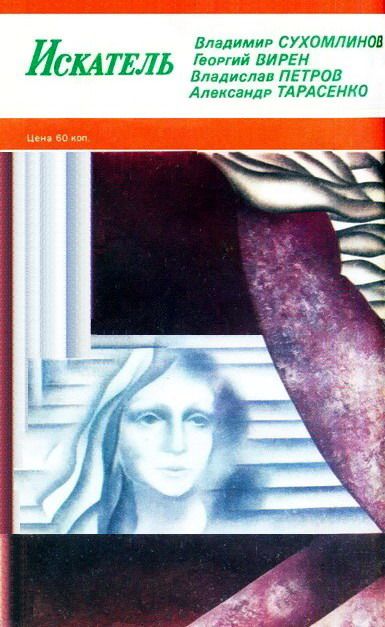 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |