"Искатель. 1963. Выпуск №1" - читать интересную книгу автора
Станислав ЛЕМ ЛУННАЯ НОЧЬ
 |
Это случилось на четвертом курсе, перед самыми каникулами. Пиркс прошел все практические упражнения, имел зачетные полеты на имитаторах, два настоящих и даже проделал «самостоятельное кольцо» — полет на Луну с посадкой и обратно. Он чувствовал себя старым космическим волком, для которого дом — это дальние планеты, а любимое одеяние — поношенный скафандр, покорителем пространства, который первым замечает приближающиеся метеоры и сакраментальным криком: «Внимание! Рой!!!», а также молниеносным маневром спасает от гибели корабль, себя и менее быстрых товарищей. Таким по крайней мере он воображал себя, с сожалением отмечая во время бритья, что его внешность совершенно не отражает колоссального количества переживаний, выпавших на его долю. Даже скверный случай с аппаратом Харрельсбергера, что взорвался у него в руках во время посадки в Центральном Заливе, не принес ему ни одного седого волоска. Увы, он остался таким же толстощеким, как и раньше. Он скреб тупым лезвием свою губу, которой втайне стыдился, и выдумывал все более потрясающие ситуации, из коих, естественно, всегда выходил победителем.
Маттерс, отчасти посвященный в его переживания, а отчасти о них догадывающийся, посоветовал ему отпустить усы. И вот как-то, в часы утреннего одиночества, Пиркс подошел к зеркалу, приложил к верхней губе огрызок черного шнурка и даже затрясся от злости, настолько идиотски это выглядело. Он начал сомневаться в Маттерсе, хотя тот, возможно, и не думал ничего плохого. И уж наверняка ничего плохого не думала его интересная сестра, сказав однажды Пирксу, будто он выглядит «безумно положительным». Это его добило. Правда, в ресторане, где они танцевали, не произошло ни одной из тех неприятностей, которых он так опасался. Он всего один раз перепутал танец, она по своей деликатности промолчала, и он не сразу понял, что все танцуют совсем другое. Но дальше все шло как по маслу. Он не наступал ей на ноги, старался не смеяться, помня, как на его смех люди оборачивались даже на улице, а когда ресторан закрыли, проводил ее домой.
Они довольно долго шли пешком, и по дороге Пиркс размышлял над тем, как бы доказать ей, что не такой уж он «безумно положительный», — эти слова запали ему в душу. Когда они уже приблизились к цели, его охватила паника. Он так ничего и не придумал и вдобавок из-за напряженной мыслительной деятельности молчал как пень. В голове царила абсолютная пустота, отличающаяся от космической только тем, что была наполнена отчаянным усилием. В последний момент со скоростью метеоров мелькнули два или три варианта: назначить свидание, поцеловать ее или, наконец, — он где-то об этом читал — пожать ей руку так, чтобы это было значительно, утонченно и одновременно двусмысленно и страстно. Но из этого ничего не вышло. Он не поцеловал ее, не назначил свидания и не подал руки… Но если бы кончилось только этим!.. Когда, пожелав ему доброй ночи своим приятно вибрирующим голосом, она повернулась к калитке и взялась за ручку, им овладел дьявол. А может быть, это случилось оттого, что в ее голосе он почувствовал иронию, действительную или воображаемую. И в тот момент, когда она отвернулась, такая уверенная в себе (конечно, благодаря своей красоте она держалась будто какая-то королева — красивые девушки всегда так!), Пиркс довольно сильно шлепнул ее. Он услышал легкий, сдавленный крик: она, должно быть, здорово удивилась! Но он не стал задерживаться. Круто повернулся и побежал, будто испугавшись погони…
Маттерс, к которому на другой день он боялся подойти, словно тот был бомбой замедленного действия, ничего не знал о происшедшем инциденте.
Проблема такого своеобразного поступка мучила Пиркса. Поступают ли так «безумно положительные» люди?..
Он не был полностью уверен, но опасался, что, пожалуй, да.
После истории с сестрой Маттерса — с тех пор он старательно избегал ее — Пиркс, во всяком случае, перестал по утрам корчить рожи перед зеркалом. До этого он несколько раз пал так низко, что с помощью второго зеркальца пытался увидеть свою физиономию в таком ракурсе, чтобы она хоть немного удовлетворяла его чрезвычайно высоким требованиям. Конечно, он не был окончательным идиотом и отдавал себе отчет в смехотворности этих обезьяньих гримас, но, с другой стороны, он ведь искал не следов какой-то там красоты, а только характера! Читая Конрада, он с пылающими щеками грезил о великом галактическом безмолвии, об одиноком мужестве, — а разве можно вообразить героя вечной ночи, отшельника с такой губой? Сомнения остались, но кривляться перед зеркалом Пиркс перестал, продемонстрировав себе, какой твердой, несгибаемой волей обладает.
Заботы, которые его так одолевали, несколько побледнели перед приближающимся экзаменом у профессора Меринуса, популярно называемого «мериносом». Этого экзамена, честно говоря, Пиркс почти совсем не боялся. Только три раза приходил он в корпус Астродезии и Навигационной Астрогнозии, где под дверями аудитории студенты ожидали выходящих от «мериноса». Они собирались здесь не столько для того, чтобы приветствовать успехи экзаменующихся, сколько, чтобы узнать, какие новые ехидные вопросы придумал «зловредный баран». Так тоже называли свирепого экзаменатора. Этот старец, который в жизни не то что не поставил ноги на поверхность Луны, но даже ни разу не переступил порога ракеты, знал силой теоретического всеведения каждый камень всех кратеров Моря Дождей, скальные хребты планетоидов и наиболее недоступные районы лун Юпитера; поговаривали, что он великолепно знает все метеоры и кометы, которые будут открыты только через тысячи лет, поскольку уже сейчас математически предвидит их орбиты благодаря своему любимому занятию — анализу возмущений небесных тел. Гигантизм этих знаний делал его нетерпимым к микроскопическим знаниям студентов. Пиркс, однако, не боялся Меринуса, так как нащупал его слабое место. Старик имел собственную терминологию, которой, кроме него, никто в научных изданиях не пользовался. Пиркс, ведомый природной сообразительностью, заказал в библиотеке все работы Меринуса и… нет, вовсе не для того, чтобы прочесть. Он лишь перелистал их, выписав для себя около двухсот меринусовых словесных уродов. Вызубрил и жил в убеждении, что сдаст. Расчет Пиркса подтвердился.
Профессор, услышав стиль его ответа, вздрогнул, поднял лохматые брови и заслушался Пирксом, словно соловьем. Тучи, обычно омрачавшие его лицо, разошлись. Он почти помолодел: ему казалось, что он слышит самого себя. А Пиркс, окрыленный этой переменой и собственной наглостью, шпарил дальше на всех парах… И даже когда совершенно провалился на последнем вопросе (здесь требовались конкретные факты — вся меринусовская риторика была бесполезна), профессор вписал ему большую четверку, выражая сожаление, что не может поставить пять.
Так он справился с «мериносом». Взял его за рога. Гораздо большее волнение испытывал он при мысли о «сумасшедшей ванне», — это был следующий и последний этап перед выпускными экзаменами.
От «сумасшедшей ванны» не могли спасти никакие ухищрения. Сначала человек шел к Альберту — тот формально считался всего лишь служителем при кафедре Экспериментальной Астропсихологии, но в действительности был правой рукой доцента и его слово значило гораздо больше, чем мнение любого ассистента. Альберт вел кандидата в маленький зальчик в подвале, где изготавливал парафиновый слепок с его лица. Готовый слепок Альберт подвергал небольшой обработке: в отпечаток носа вставлялись две металлические трубки. И все.
Затем кандидат шел наверх, в «баню». Это, конечно, была никакая не баня (но, как известно, студенты никогда не называют вещи их настоящими именами), а просто довольно большая комната с бассейном, наполненным водой. Кандидат, или, опять-таки в соответствии со студенческим жаргоном, «пациент», раздевался и входил в воду, нагреваемую до тех пор, пока он не переставал чувствовать ее температуру. Это было индивидуально: для одних вода «переставала существовать» при 29, для других — только при 32 градусах. Когда лежащий навзничь в бассейне молодой человек поднимал руку, воду переставали подогревать, и один из ассистентов накладывал ему на лицо парафиновую маску. Затем в воду добавляли какую-то соль (но не цианистый калий, как серьезно уверяли те, кто уже прошел «сумасшедшую ванну»), скорее всего обычную, поваренную. Добавляли столько, чтобы «пациент» (его называли также «утопленником») свободно плавал у самой поверхности, не выныривая. Только металлические трубки торчали над водой, чтобы «пациент» свободно дышал. Вот и весь принцип. Ученое название эксперимента звучало так: «лишение мозга афферентных импульсов». В самом деле, лишенный зрения, слуха, обоняния, осязания — присутствие воды через очень короткий промежуток времени переставало ощущаться, — со скрещенными на груди руками, словно египетская мумия, «утопленник» парил в состоянии невесомости в течение нескольких часов. Как долго? Так долго, как мог выдержать.
Вроде бы ничего особенного. Однако же с человеком в таком положении начинают происходить странные вещи. Естественно, каждый желающий мог прочитать о переживаниях «утопленников» в пособиях по экспериментальной психологии. Но эти переживания носили очень индивидуальный характер. Треть кандидатов не выдерживала не то что шести или пяти, но даже трех часов. Однако выдержать было необходимо — ведь на каникулярную практику распределяли в соответствии со списком прошедших это испытание. Лучшим доставалась практика «экстра», совершенно непохожая на малоинтересное, даже скучное сидение на различных околоземных станциях. Заранее невозможно было предсказать, кто окажется «стойким», а кто нет, — «ванна» подвергала нелегкому испытанию цельность, монолитность личности.
Начало Пиркс прошел довольно гладко. Правда, еще до того, как ассистент надел на него маску, он без всякой необходимости сунул лицо под воду, наглотался воды и имел возможность убедиться, что она самая соленая в мире.
Наконец маска была надета, и он сразу услышал легкий шум в ушах. Его окружала полная темнота. Как полагалось, Пиркс расслабил мышцы: вода держала прекрасно. Глаз он не мог открыть, даже если бы захотел, — мешала прилегающая к щекам и лбу маска. Сначала у него зачесался нос, потом правый глаз. Об этом зуде рапорты других «утопленников» ничего не сообщали — очевидно, это его личный вклад в экспериментальную психологию. Пиркс, совершенно неподвижный, лежал в воде, которая ни грела, ни холодила. Через несколько минут он вообще перестал ощущать ее. Конечно, можно пошевелить ногами или хотя бы пальцами и убедиться, что они скользкие и мокрые, но Пиркс знал — над ним в потолке бодрствует око регистрирующего устройства: за каждое движение полагались штрафные очки. Вслушавшись в себя, он очень скоро уже мог различить тоны собственного сердца, необыкновенно слабые и словно приходящие откуда-то издалека. В общем ему было неплохо. Зуд прекратился. Нигде не жало. Альберт так ловко расположил трубки в маске, что даже их он не чувствовал. Вообще ничего не чувствовал. Эта пустота начинала беспокоить. Сначала исчезло ощущение положения тела, рук, ног. Он еще помнил, как лежит, потому что знал об этом, но ничего не чувствовал. Пиркс начал соображать, как долго лежит под водой с белым парафином на лице, и с удивлением убедился, что он, который умел обычно определять время без часов очень точно, не имеет ни малейшего представления о том, сколько минут, а может уже десятков минут, прошло с того момента, как он нырнул в «сумасшедшую ванну».
Пирксу показалось, что у него нет ни тела, ни лица, вообще ничего. Так, будто он перестал существовать. Это чувство нельзя было назвать приятным. Скорее, оно поражало. Он словно понемногу растворялся в воде, которой тоже не ощущал. И даже сердце перестал слышать. Он напрягал слух как мог — ничего. Зато тишина, наполнявшая его, превратилась в неприятное глухое бормотание, в сплошной белый шум. Ему страшно захотелось заткнуть уши. Потом он подумал, что прошло уже порядочно времени и пара штрафных очков ему не очень повредит, и решил пошевелить руками.
Но шевелить было нечем: рук не было. Он даже не испугался — это его просто ошеломило. Правда, что-то там писали об «утрачивании ощущения тела», но кто верил, что оно может быть таким полным.
«Наверное, нужно, чтоб было так», — успокоил себя Пиркс. Незачем двигаться, если хочешь иметь хорошую оценку. Он должен вынести все. Эта мысль поддерживала его некоторое время. Как долго? Этого он не знал.
Потом стало хуже.
Сначала темнота, в которой он находился или, скорее, которой был сам, зароилась слабыми блестками, мелькающими на самом краю поля зрения, неясными, почти несветящимися точками. Он пошевелил глазными яблоками, почувствовал это движение, и оно его обрадовало. Но странное дело: после нескольких движений и глаза вышли из повиновения.
Зрительные и слуховые феномены — эти мерцания, мелькания, шум и гул — были невинным вступлением, игрушками по сравнению с тем, что с ним стало происходить потом.
Он распадался. Уже не телом, о теле не стоило и говорить, оно перестало существовать тысячу лет назад, стало чем-то окончательно утраченным. Может, его никогда и не было.
Иногда бывает, что онемевшая, с нарушившимся кровообращением рука как бы отмирает. Трогаешь ее, как кусок дерева. Почти каждому знакомо это странное ощущение, неприятное, но, к счастью, быстро проходящее. Но при этом человек в целом остается нормальным, чувствующим, живым — только несколько пальцев или ладонь охвачены мертвым бессилием, они становятся словно посторонними предметами, прикрепленными к телу. У Пиркса же не осталось ничего, вернее почти ничего, кроме страха.
Он распадался не на какие-нибудь личности, а именно на страхи. Чего он боялся? Понятия не имел. Он не был ни трезвый, ни пьяный, не переживал ни яви — какая уж может быть явь без тела, — ни сна. Он ведь не спал — знал, где находится и что с ним происходит. Это было другое. И называлось дезорганизацией деятельности коры головного мозга, вызванной лишением мозга внешних импульсов.
Что ж, звучало неплохо. Эксперимент, ничего не скажешь…
Он был немножко здесь, немножко там, и все расползалось. Направление. Верх, низ, стороны — ничего не было. Он пытался вспомнить, где потолок. Но как можно говорить о потолке, если нет ни тела, ни глаз.
— Сейчас, — сказал он себе, — приведем все в порядок. Пространство — измерения — три направления…
Эти слова не имели никакого значения. Он подумал о времени, несколько раз повторил: «Время, время, время», — словно жевал кусок бумаги. Совершенно бессмысленные сочетания. Уже не он это повторял, говорил несуществующий некто, чужак, который влез в него. Нет, это он в кого-то влез. И этот кто-то рос. Распухал. Уничтожал всякие границы. Двигался в каких-то загадочных недрах, объявился вдруг огромным, как воздушный шар, невозможным слоноподобным пальцем, весь стал пальцем. Не своим, не настоящим, а каким-то выдуманным, взятым неизвестно откуда. Палец становился самостоятельным, начинал угнетать. А он, его мышление возносилось то с одной, то с другой стороны этой неправдоподобной глыбы, теплой, отвратительной, никакой — она исчезла. Он вращался. Кружился. Падал, как камень. Хотел крикнуть. Образы без лиц, округлые, таращащиеся, расплывающиеся, когда он пытался приделать им лица, лезли на него, толкались, раздували его, он был как тонкостенный резервуар, который вот-вот лопнет. И он взорвался.
Он разлетелся на несколько независимых друг от друга кусков темноты — они закружились, словно клочья обуглившейся бумаги. И в этих колебаниях было непонятное напряжение, усилие, какое бывает в агонии, когда сквозь пространство мглы и пустоты, которое было когда-то живым телом, а теперь стало бесчувственной остывающей пустыней, что-то пытается в последний раз подать голос, дотянуться до другого человека, увидеть его, коснуться.
— Сейчас, — сказало что-то удивительно трезво, но это был не он. Может быть, какой-нибудь добрый человек сжалился и заговорил с ним. С кем?.. Где?.. Но ведь он слышал, хотя нет, это был не настоящий голос.
— Сейчас. Другие это уже прошли. От этого не умирают. Нужно выдержать.
Слова сомкнулись в кольцо. Они потеряли смысл. Снова все расползалось, как обыкновенная мокрая промокашка. Как снежная куча на солнце. Его смывало, он исчезал куда-то, абсолютно неподвижный. «Сейчас меня не будет», — подумал он совершенно серьезно, потому что это было как смерть, а не как сон. Его окружило со всех сторон. Нет, не его. Их. Их было несколько. Много? Он не мог сосчитать.
— Что я здесь делаю? — сказало в нем что-то. — Где я? В океане? На Луне? Эксперимент…
Он не верил, что возможен такой эксперимент: немного парафина, какая-то соленая вода — и человек перестает существовать. Он решил с этим покончить любой ценой. Боролся, сам не зная с чем, как будто поднимал огромный, придавивший его камень. Но не мог даже вздрогнуть. С последним проблеском сознания собрал остатки сил и застонал. Он услышал этот стон, сдавленный, отдаленный, как радиосигнал с далекой планеты.
На какое-то мгновение Пиркс почти очнулся и сосредоточился для того, чтобы впасть в следующую, еще более мрачную, смывающую все, агонию.
Он не чувствовал никакой боли. Эх, если бы была боль!
Она сидела бы в его теле, давала бы о нем знать, определила бы какие-то границы, трепала бы нервы. Но это была безболезненная агония: мертвый нарастающий прилив небытия. Он почувствовал, как в него входит спазматически вдыхаемый воздух, как будто не в легкие, а в это пространство дрожащих, судорожных обрывков мыслей. Застонать, еще раз застонать, услышать себя!..
— Тому, кто хочет стонать, незачем думать о звездах, — раздался тот же неизвестный, близкий, но чужой голос.
Он удержался и не застонал. Впрочем, его уже не было. Он не знал, кем был, — в него просачивались холодные вязкие струи, — и самое плохое то (почему ни один болван об этом не говорил?), что все проходило сквозь него. Он стал прозрачным. Дырой, ситом, галереей извилистых пещер.
Исчезло и это — только страх оставался даже тогда, когда сгинула словно вздрогнувшая в мелькающих точках темнота. Потом стало хуже, гораздо хуже. Однако Пиркс уже не мог рассказать, не мог даже отчетливо, точно вспомнить, что чувствовал: для таких, ощущений еще не найдены слова. Тут уж он ничего не мог выдавить из себя. Да, «утопленники» разбогатели еще на один сумасшедший опыт, которого никто из обыкновенных смертных не мог бы даже представить, Другое дело, что завидовать здесь нечему.
Пиркс испытал много различных состояний, некоторое время его не было, потом он снова был, потом что-то выело ему мозг, потом произошло много сложных безмолвных ужасов — их спаял страх, который пережил и тело, и время, и пространство. Все! Этого он наелся досыта.
Доктор Грот сказал:
— Первый раз вы застонали на сто тридцать восьмой минуте, а второй — на двести двадцать седьмой. Всего три штрафных очка — и никаких судорог! Положите, пожалуйста, ногу на ногу. Я исследую рефлексы… Как вам удалось продержаться так долго? Ну, об этом потом.
Пиркс сидел на сложенном вчетверо полотенце, чертовски шершавом и от этого очень приятном. Он был совсем как Лазарь, воскресший из мертвых. Выдержал семь часов. Получил высшую оценку. В течение последних трех часов умирал несколько тысяч раз. Но не сдался. Когда его вытянули из ванны, вытерли, сделали массаж, укол, дали глоток коньяку и повели в лабораторию, где ждал доктор Грот, Пиркс по дороге заглянул в зеркало. До этого он все трогал грудь, ноги, руки, словно хотел убедиться, на месте ли. Сознание его было затуманено, как будто он встал с постели после многомесячной горячки. Он знал, что страшное уже позади. Но не удержался, заглянул в зеркало. Не потому, что ожидал увидеть седину, но все-таки…
Увидел свою толстую губу и, отвернувшись, зашагал дальше, оставляя на паркете мокрые следы.
Доктор Грот долго старался вытянуть из него описания пережитых состояний. Семь часов — это не пустяк! Теперь доктор Грот смотрел на Пиркса иначе, чем раньше, не то что с симпатией, скорее с любопытством, как энтомолог, который открыл новый вид ночной бабочки или совершенно необычного червяка. Может, он видел в нем тему для научной работы?
Увы, приходится признаться, что Пиркс оказался не слишком благодарным объектом для исследования. Он сидел и глуповато моргал глазами: все ему казалось плоским, двумерным. Когда он протягивал за чем-нибудь руку, предмет оказывался ближе или дальше, чем он предполагал. Это было нормальным явлением. Но ненормальным был его ответ на вопрос доктора, который пытался выяснить какие-то дополнительные подробности.
— Вы там лежали? — ответил Пиркс вопросом на вопрос.
— Нет. А что? — удивился доктор Грот.
— Так полежите, — предложил ему Пиркс. — Сами увидите, что происходит.
На другой день Пиркс чувствовал себя уже хорошо и даже мог шутить, вспоминая «сумасшедшую ванну». С тех пор он стал регулярно ходить в главный корпус, где на доске объявлений под стеклом вывешивали списки распределенных на практику. Но своей фамилии найти не мог. Потом было воскресенье, а в понедельник его вызвал к себе Шеф.
Пиркс забеспокоился не сразу. Сначала он подсчитал свои грехи. Мышь, которую посадили в ракету Остенса, — нет, это было давно. Кроме того, мышь была маленькая, и вообще здесь не о чем говорить. Потом история с будильником, который сам включал ток в сетку кровати Мебиуса. Но это, конечно, тоже ерунда. В двадцать два года проделывают и не такое, а Шеф — человек снисходительный. До определенных границ.
Неужели он узнал о привидении? Привидение было собственной оригинальной идеей Пиркса. Коллеги ему, естественно, помогли: в конце концов есть же у него приятели. А Барна следовало проучить. Операция «привидение» разыгрывалась, как по нотам. Пороховая дорожка начиналась в коридоре, сквозь щель под дверью проникала в комнату, трижды обходила вокруг нее и заканчивалась под столом. Возможно, правда, пороха насыпали слишком много. Барн был уже «обработан»: целую неделю по вечерам ни о чем ином не говорили, только о привидениях. Пиркс, будучи человеком опытным, разделил роли: часть парней рассказывала страшные истории, а другая разыгрывала скептиков, чтобы Барн не разобрался в подвохе. Барн не принимал участия в этих метафизических беседах, — только иногда посмеивался над наиболее пылкими приверженцами «того света». Да, но нужно было его видеть, когда в двенадцать ночи он вылетел из своей спальни, ревя, как буйвол, за которым гонится тигр. Огонь проник сквозь щель под дверью, трижды обежал комнату, и, наконец, под столом раздался такой сильный взрыв, что разлетелись книги. Все же Пиркс перестарался — начался небольшой пожар. Пара ведер воды ликвидировала огонь, но остались выжженная дыра и запах гари. Таким образом, операция не достигла желанной цели: Барн в привидения, увы, не поверил. Похоже на то, что речь пойдет об этой проделке.
Утром Пиркс встал пораньше, надел чистую рубашку, на всякий случай заглянул в книгу полетов, в Теорию навигации и пошел, отбросив все сомнения.
Кабинет Шефа был великолепен. По крайней мере так казалось Пирксу. Карты неба сплошь закрывали стены. Созвездия, желтые, как капли меда, сверкали на темно-синем фоне. Маленький слепой лунный глобус на письменном столе, полно книг, документов, второй огромный глобус у окна. Не глобус, а настоящее чудо. Если нажать нужную кнопку, вокруг него начинали двигаться светящиеся спутники.
Кажется, среди них можно увидеть даже первый, запущенный в пятьдесят седьмом, не говоря уж о существующих.
Однако в этот день Пирксу было не до глобуса. Когда он вошел, Шеф писал. Он попросил Пиркса присесть и подождать. Потом Шеф снял очки — он носил их всего год — и начал рассматривать Пиркса так, словно видел впервые. Это был его любимый прием. Даже святой, у которого на совести нет никаких грехов, под этим взглядом терял уверенность. Пиркс не был святым. Он не мог спокойно сидеть в кресле. То откидывался назад, принимая неприлично свободную позу, словно миллионер на палубе собственной яхты, то съезжал в направлении ковра и собственных пяток.
Шеф выдержал паузу и сказал:
— Ну, как дела, мальчик?
«Говорит «ты», значит не так уж плохо», — решил Пиркс и ответил, что все в порядке.
— Ты, кажется, купался?
Пиркс поддакнул. Это еще что? Подозрительность не покидала его. Может, за невежливый ответ доктору…
— Есть одно свободное место на практику, в Менделееве. Знаешь, где это?
— Астрофизическая станция на той стороне… — ответил Пиркс.
Он был слегка разочарован. У него теплилась слабая надежда. Такая слабая, что, боясь помешать ее превращению в реальность, он даже самому себе не признавался в ней — он рассчитывал на другое. На полет. Столько ракет, столько планет, а ему придется выполнять обычное стационарное задание на «той стороне»… Когда-то это считалось особым шиком — называть обратное, невидимое с Земли полушарие Луны «та сторона». А теперь так говорили все.
— Правильно. Ты знаешь, как она выглядит? — спросил Шеф.
У него было странное выражение лица. Как будто он что-то прятал за пазухой.
Секунду Пиркс колебался — соврать?
— Нет.
— Если примешь задание, дам тебе всю документацию. — Шеф положил руку на кипу бумаг.
— Так я могу отказаться? — не скрывая радости, спросил Пиркс.
— Да. Потому что задание опасно, то есть может оказаться опасным…
Шеф хотел сказать еще что-то, но специально остановился, чтобы получше присмотреться к Пирксу. Тот впился в него расширенными глазами, медленно, торжественно набрал воздух — да так и застыл, как бы забыв о необходимости дышать дальше. Вспыхнув, как девица, которой объяснился королевич, он ждал новых упоительных слов. Шеф хрюкнул.
— Ну, ну, — сказал он отрезвляюще. — Я немного преувеличил. Во всяком случае, ты ошибаешься.
— Простите, в чем? — пробормотал Пиркс.
— Уверяю тебя, что ты не являешься тем единственным человеком на Земле, от которого зависит все… Человечество не ждет от тебя спасения. Пока еще нет.
Пиркс, красный, как свекла, мучился, не зная, что делать с руками. Шеф — эти его штучки были известны — только что показал ему райское видение — Пиркса-героя, возвращающегося после совершения подвига сквозь замершую на космодроме толпу, шепчущую в восторге: «Это он! Это он!!!» — а теперь, как бы абсолютно не сознавая, что делает, принялся преуменьшать задание, сводить миссию к обычной каникулярной практике. Наконец он объяснил:
— Сотрудники Станции набираются из астрономов, которых направляют на ту сторону, чтобы они отсидели свой месяц, и все. Нормальная работа там не требует никаких особенных качеств. Поэтому кандидаты подвергались обычным тестам первой и второй группы. Сейчас, после этого случая, нужны люди, проверенные более тщательно. Больше всего подошли бы, разумеется, пилоты, но ты сам понимаешь, их невозможно засадить на обычную наблюдательную станцию…
Пиркс это знал. Не только Луна, вся солнечная система требовала пилотов, астрогаторов, навигаторов — их все еще было мало. Но что это за случай, о котором упомянул Шеф? Пиркс предусмотрительно смолчал.
— Станция очень невелика. Построили ее глупо, под северной вершиной, а не на дне кратера. С выбором места произошла целая история, тут решали не данные селенодезических исследований, а престиж — с этим ты позднее сможешь познакомиться сам. Достаточно сказать, что в прошлом году часть хребта рухнула и уничтожила единственную дорогу. Сейчас добираться туда довольно трудно, и вообще это возможно только днем. Проектировалась подвесная дорога, но работы прерваны, так как уже есть решение о перенесении Станции вниз, оно принято в прошлом году. Практически в течение ночи Станция отрезана от мира. Радиосвязь прекращается… почему?
— Про… простите.
— Я спрашиваю, почему прекращается радиосвязь?
В этом был весь Шеф. Сначала преподносится миссия, потом начинается невинный разговор, который внезапно превращается в экзамен! Пиркс начал потеть.
— Поскольку на Луне нет атмосферы и, значит, ионосферы, радиосвязь на ней поддерживается на ультракоротких волнах… Для этого сооружена система релейных станций, наподобие телевизионных…
Шеф, опершись локтями о стол, поигрывал авторучкой, давая понять, что он очень терпелив и будет слушать до конца. Пиркс же старался как можно дольше распространяться о вещах, известных каждому ребенку, потому что приближался, увы, к областям, в которых его знания оставляли желать лучшего.
— Такие трансляционные линии находятся как на этой, так и на той стороне, — разошелся Пиркс, следуя по знакомой дороге. — На этой стороне их восемь. Они соединяют Луну Главную со станциями Центральный Залив, Сонное Болото, Море Дождей…
— Это можно пропустить, — прервал его Шеф великодушно. — И гипотезы о происхождении Луны тоже. Итак…
Пиркс заморгал глазами.
— Нарушение связи происходит, когда какое-то звено ретрансляционных станций оказывается в зоне терминатора. То есть если часть установок еще находится в тени, а над другими восходит солнце…
— Я знаю, что такое терминатор. Не нужно объяснять, — сердечно сказал Шеф.
Пиркс закашлялся и начал сморкаться. Однако он не мог заниматься этим бесконечно долго.
— В связи с отсутствием атмосферы корпускулярное излучение Солнца, бомбардируя лунную поверхность, вызывает… э… вызывает… э… нарушения распространения радиоволн. Эти нарушения и нарушают… — он окончательно завяз.
— Нарушения нарушают, совершенно верно, — поддержал Шеф. — Но на чем это основано?
— Это вторичное наведенное излучение, эффект Но… Но…
— Но?.. — сочувственно повторил Шеф.
— Новинского!!! — выпалил Пиркс.
Он вспомнил. Но и этого Шефу было мало.
— А на чем основан этот эффект?
Этого Пиркс не знал. То есть когда-то знал, но забыл. Он донес вызубренные знания до порога экзаменационной аудитории, как жонглер пирамиду самых неправдоподобных предметов, нагроможденных на голову, но экзамен давно позади…
И вот теперь вызванный его отчаянием бред об электронах, вторичном излучении и резонансе был прерван Шефом, который, покачивая головой, выражал свое соболезнование.
— А профессор Меринус поставил тебе четверку, — произнес этот беспощадный человек. — Неужели он ошибся?..
Кресло под Пирксом вдруг показалось ему чем-то вроде кратера вулкана.
— Мне не хотелось бы его огорчать, пусть уж лучше ничего не знает. — Пиркс облегченно вздохнул. — Но я попрошу профессора Лааба, чтобы на выпускном экзамене…
Шеф многозначительно замолчал. Пиркс замер. И, конечно же, не из-за этих слов — рука Шефа медленно отодвигала бумаги, которые Пиркс должен был получить вместе со своей Миссией.
— Почему не используется кабельная связь? — спросил Шеф, не глядя на него.
— Из-за высокой стоимости. Коаксиальный кабель сейчас соединяет только Луну Главную с Архимедом. Но в ближайшие пять лет планируется создание целой кабельной сети, — выпалил Пиркс.
Все еще нахмуренный Шеф вернулся к теме их беседы.
— Ну, хорошо. Практически Менделеев каждую ночь отрезан от мира в течение двухсот часов. До сих пор работа там шла нормально. В прошлом месяце после обычного перерыва в радиосвязи Станция не ответила на вызов Циолковского. Группа с Циолковского, вылетевшая как только наступил день, нашла главный вход открытым, а в камере — человека. Это было дежурство канадцев Шалье и Саважа. В камере лежал Саваж. Стекло его шлема треснуло. Он задохнулся. Шалье отыскали только через сутки на дне пропасти у Солнечных Ворот. Он разбился при падении. На Станции все оставалось в полном порядке: аппаратура работала, запасы были нетронуты, никакой аварии обнаружить не удалось. Ты читал об этом?
— Да — сказал Пиркс. — Но в газетах писали, что произошел несчастный случай. Психоз… Двойное самоубийство в припадке помешательства…
— Чушь, — прервал его Шеф. — Я знал Саважа. По Альпам. Он не мог измениться. Ну, ладно. В газетах был бред. Прочитай рапорт смешанной комиссии. Слушай. Такие ребята, как ты, в принципе исследованы так же серьезно, как пилоты, но у вас нет дипломов, значит вы не можете летать. Ну, а каникулярную практику тебе все равно нужно пройти. Если ты согласишься, вылетать завтра.
— А кто второй?
— Не знаю. Какой-то астрофизик. В конце концов там нужны именно астрофизики. Боюсь, что радости ты ему принесешь немного, но, может, хоть подучишься чуть-чуть астрографии. Ты понимаешь, о чем идет речь? Комиссия пришла к выводу, что это был несчастный случай, но осталось одно темное место, скажем — некоторая неясность. Там произошло непонятное. Что именно, неизвестно. Поэтому решено во время следующего дежурства поставить туда хоть одного человека с психической квалификацией пилота. Я не видел повода для отказа. С другой стороны, ничего необыкновенного там, наверное, не произойдет. Естественно, нужно быть настороже, но тебе никто не поручает никакой детективной миссии, никто не рассчитывает на то, что ты откроешь дополнительные обстоятельства, объясняющие тот случай, и не в этом твое задание. Тебе нехорошо?
— Простите! Нет, — ответил Пиркс.
— Мне показалось. Сумеешь ли ты сохранить благоразумие? Увы, это уже бросилось тебе в голову. Я не уверен…
— Я буду вести себя разумно, — изрек Пиркс самым решительным тоном, на какой только оказался способным.
— Сомневаюсь, — произнес Шеф. — Я посылаю тебя без особого энтузиазма. Если бы не твоя высокая оценка…
— Так это из-за ванны, — лишь теперь догадался Пиркс.
Шеф сделал вид, будто не слышит.
— Старт завтра, в восемь. Вещей бери как можно меньше. Впрочем, ты там уже был, так что знаешь. Вот билет на самолет, вот бронь Трансгалактики. Полетишь на Луну Главную, оттуда тебя переправят дальше…
Он говорил что-то еще. Чего-то ему желал. Прощался с ним. Пиркс ничего больше не слышал. Не мог слышать, потому что был уже очень далеко, на той стороне. В ушах у него звучал грохот старта, глаза видели белое мертвое пламя лунных скал. Сделав поворот кругом, он налетел на большой глобус. Лестницу одолел в четыре скачка, словно и вправду был на Луне, где притяжение в шесть раз меньше. Выйдя на улицу, чуть не попал под машину, которая затормозила с таким визгом, что начали останавливаться люди. Но он даже не заметил этого. К счастью, Шеф не видел этих первых проявлений его благоразумия, так как вернулся к бумагам.
В течение следующих двадцати четырех часов с Пирксом, вокруг Пиркса, в связи с Пирксом случилось столько, что иногда он почти тосковал по теплой соленой ванне. Человеку одинаково мешает как недостаток, так и избыток впечатлений. Но Пиркс не формулировал подобных выводов. Все старания Шефа преуменьшить значение Задания и даже вовсе свести его на нет, что тут скрывать, пошли прахом.
Пиркс вошел в самолет с таким выражением лица, что симпатичная стюардесса инстинктивно отступила в сторону — и напрасно, ибо он вообще не заметил ее. Он шел словно во главе железной когорты и уселся в кресло, как Вильгельм Завоеватель. Он чувствовал себя Космическим Избавителем Человечества, Благодетелем Луны, Открывателем Страшных Тайн, Укротителем Призраков Той Стороны. Правда, его назовут так только в будущем, впрочем, это ни в коей мере не ухудшало настроения Пиркса, скорее, наоборот, наполняло благосклонностью и снисходительностью к его попутчикам, которые не имели ни малейшего понятия о том, кто находится вместе с ними в утробе огромного реактивного самолета. Он смотрел на них, как Эйнштейн на закате жизни наблюдал за играющим в песке младенцем.
«Селена», новый корабль Трансгалактики, стартовала с Нубийского космодрома. Из сердца Африки. Пиркс был счастлив. Он пока не думал, что где-нибудь здесь в будущем установят табличку с соответствующей надписью, — нет, так далеко он еще не забрался в своих мечтах. Но чтобы додуматься до этого, не хватало самой малости. Правда, в чашу блаженства постепенно начала просачиваться горечь. В самолете о нем могли не знать. Но на борту ракеты?! Оказалось, ему придется сидеть внизу, в туристском классе, среди скопища обвешанных фотоаппаратами французов, перекликающихся с сумасшедшей скоростью. Он в толпе галдящих туристов?!
Им никто не занимался. Никто не одевал его в скафандр, не накачивал туда воздух, не прикреплял к плечам баллоны, не спрашивал о самочувствии. Временно он утешился тем, что это делается для сохранения тайны.
Внутри туристский класс выглядел почти так же, как кабина самолета, только кресла были больше и глубже, а табличка, на которой загорались различные информационные сообщения, находилась прямо перед глазами. Надписи преимущественно запрещали. Возбранялось вставать, двигаться, курить.
Напрасно Пиркс принимал профессиональную позу, закладывал ногу на ногу, пренебрежительно не замечал пояса безопасности, пытаясь как-то выделиться из толпы профанов астронавтики. Уже не очаровательная стюардесса, а второй пилот приказал ему пристегнуться, и это был единственный случай, когда представитель команды обратил на него внимание. Один из французов, скорее по ошибке, угостил его фруктовой конфеткой. Пиркс взял ее, намертво заклеил себе липкой сладкой массой зубы, смирившись, забился в глубь надувного кресла и предался размышлениям. Постепенно он еще раз утвердился в убеждении, что его Миссия ужасно опасна. Он смаковал надвигающуюся угрозу не спеша, как гурман, которому в руки попала покрытая мхом бутылка вина времен наполеоновских войн.
Пиркс сидел у окна. И, разумеется, решил совершенно игнорировать это обстоятельство — столько раз он видел все происходящее, однако не выдержал. Когда «Селена» вышла на околоземную орбиту — с нее она должна была рвануться к Луне, — он прилип к стеклу. Перечерченная линиями дорог, каналов, усеянная точками городов и поселков Земля отступала все дальше и дальше. Под кораблем лежала пятнистая, залепленная лохмотьями туч выпуклость планеты, и взгляд, перебегая с залитых черным океанов на континенты, уже напрасно пытался найти что-нибудь созданное человеком. С расстояния в несколько сотен километров Земля выглядела пустой, поражающе пустой, словно жизнь на ней только начала зарождаться, обозначив слабым налетом зелени наиболее теплые области.
Он в самом деле видел это уже много раз. Но перемена всегда снова поражала его — в ней было что-то, с чем он не мог свыкнуться. Может быть, первое наглядное доказательство микроскопичности человека рядом с пространством? Выход в сферу иной шкалы размеров — планетарных? Картина ничтожности тысячелетних усилий людей? Или, наоборот, триумф человечества, которое, победив мертвую, равнодушную ко всему силу притяжения этой ужасающей глыбы и оставив позади дикость горных массивов и пространства полярных льдов, вступило на поверхность других небесных тел?
Эти размышления или, вернее, лишенные слов ощущения уступили место другим, так как планетолет изменил курс, чтобы сквозь «дверь» между поясами радиации, отворяющуюся над Северным полюсом, вырваться к звездам. Но звезды долго рассматривать не пришлось — зажегся свет. Заработали двигатели, чтобы создать искусственную тяжесть, — подали обед. Затем пассажиры снова улеглись в кресла, свет погас. Теперь можно было смотреть на Луну.
Корабль приближался к ней с южной стороны. В нескольких сотнях километров от полюса сверкал отраженным светом Тихо — белое пятно с расходящимися во все стороны лучами. Их удивительная регулярность поражала несколько поколений земных астрономов, чтобы, наконец, когда и эта загадка была разгадана, стать предметом студенческих острот. Скольким первокурсникам объясняли, что белый кружок Тихо — «дырка лунной оси», а расходящиеся лучами полосы — просто крупно нарисованные меридианы.
Чем ближе подходила «Селена» к подвешенному в черной пустоте шару, тем яснее проступала правда: это застывший образ мира, каким он был миллиарды лет назад, когда горячая Земля странствовала со своим сателлитом сквозь огромные метеоритные тучи, остатки планетогенеза, а железный и каменный град непрерывно дробил тонкую скорлупу Луны, пробивал ее, выбрасывал на поверхность волны магмы. Через бесконечно большое время пространство очистилось. Шар, лишенный атмосферы, так и остался полем боя эпохи горообразовательных катастроф. А его обезображенная каменная маска стала источником вдохновения поэтов и светильником влюбленных.
«Селена», несущая на двух своих палубах четыреста тонн — людей и груз, — повернувшись кормой к растущему диску, начала медленно, равномерно тормозить, пока, легонько вибрируя, не опустилась на одну из гигантских вогнутых эстакад космодрома.
Пиркс был здесь уже три раза, из них два сам, то есть «собственноручно садился» посреди учебного поля, удаленного от пассажирского на полкилометра.
Сейчас он даже не увидел его, так как огромный, обшитый керамическими плитами корпус «Селены» быстро съехал с площадки гидравлического подъемника под поверхность, в герметический ангар, где производился таможенный контроль: наркотики? взрывчатые вещества? отравляющие? У Пиркса оказалось немного «отравляющего вещества», а именно плоская фляжка с коньяком, которую пожертвовал ему Маттерс. Он спрятал ее в задний карман брюк. Потом был санитарный контроль — проверка прививок, стерилизация багажа, для того чтобы на Луну не проникла какая-нибудь инфекция, — это он прошел быстро.
За барьером Пиркс задержался, не зная, встречает ли его кто-нибудь. Он стоял на галерее.
Ангар был просто огромной, выбитой в скале и отделанной бетоном пещерой с полукруглым потолком и плоским дном. Света было достаточно. Множество людей бегало в разные стороны. На аккумуляторных тележках развозили багаж, баллоны с газами, контейнеры, коробки, трубы, катушки кабеля, а в глубине неподвижно темнела причина этой лихорадочной суетни — корпус «Селены», точнее — его средняя часть, похожая на грандиозный газгольдер. Корма ее покоилась в большом колодце, а вершина тучного тела выходила сквозь круглое отверстие в верхний ярус…
Пиркс стоял так, пока не вспомнил, что у него есть и свои дела. В управлении космопорта его принял какой-то служащий, выдал записку на ночлег и сказал, что ракета на ту сторону летит через одиннадцать часов. Он куда-то спешил и больше ничего не стал объяснять. Пиркс вышел в коридор с убеждением, что тут царит полнейший беспорядок. Он даже не знал хорошенько, как полетит: через море Смита или прямо в Циолковский. И где, собственно, этот неизвестный ему лунный товарищ? И еще какая-то комиссия? А программа работы?.. Так он раздумывал, пока его раздражение не превратилось в более материальное ощущение, сосредоточенное в желудке. Он почувствовал голод. Пиркс выбрал нужный лифт, предварительно изучив все написанное на шестиязычной табличке, съехал в столовую для пилотов и там узнал, что должен есть в обычном ресторане, так как он никакой не пилот.
Это было пределом. Он уже хотел ехать в этот проклятым ресторан, но вспомнил о своем рюкзаке. Снова наверх, в ангар. Багаж был уже в гостинице. Пиркс махнул на все рукой и отправился обедать. Он угодил в две волны туристов: французы, с которыми он прилетел, смешались со швейцарцами, голландцами и немцами, только что вернувшимися с экскурсии на селенобусе к подножию кратера Эратосфена. Французы подпрыгивали, как это обычно делают люди, впервые столкнувшиеся с чарами лунного притяжения, под смех и визг женщин летали к потолку и наслаждались медленным падением с трехметровой высоты. Немцы, более солидные, обвешали спинки кресел фотоаппаратами, биноклями, только что не телескопами и уже за супом показывали друг другу обломки лунных скал. Пиркс сидел над тарелкой, утопая в немецко-французско-греческо-голландской и бог знает еще какой суматохе. Среди всеобщего восторга и энтузиазма он был, пожалуй, единственным унылым участником обеда. Какой-то голландец пытался его развлечь, выразив мнение, что Пиркс страдает болезнью пространства после полета на ракете («Первый раз на Луне, а?»), и предложил ему таблетки. Эта капля переполнила чашу. Пиркс не доел второго, купил в буфете четыре пачки печенья и поехал в гостиницу. Вся его злость излилась на портье, который предложил ему кусочек Луны, а если говорить точнее, обломок остекленевшего базальта.
— Отцепись ты, торговец! Я был здесь раньше тебя, — заорал Пиркс и, трясясь от ярости, ушел, оставив портье совершенно изумленным этой вспышкой.
В двухместном номере сидел небольшой человек в вылинявшей штормовке, немного рыжий, немного седой, с падающей на глаза прядкой волос, с лицом, обожженным солнцем. При появлении Пиркса человек надел очки. Его звали Ланье, доктор Ланье; он астрофизик и должен лететь с Пирксом в Менделеев. Это и был тот самый неизвестный лунный товарищ. Пиркс, приготовившийся уже к самому плохому, сообщил свое имя, буркнул что-то под нос и сел. Сорокалетний Ланье казался Пирксу хорошо сохранившимся старичком. Он не курил, скорее всего не пил и, похоже, не говорил. Он читал три книги одновременно. Одна из них была таблицей логарифмов, другая содержала одни только формулы, а третья — спектрограммы. В кармане у Ланье лежал маленький арифмограф, которым он с огромной ловкостью пользовался при различных вычислениях. Время от времени, не поднимая глаз от своих формул, он задавал Пирксу какой-нибудь вопрос. Пиркс отвечал, не переставая жевать печенье.
В комнате находились две койки, расположенные одна над другой, душ, в который не влез бы даже человек средней упитанности, и масса табличек, которые умоляли на всевозможных языках экономить воду и электроэнергию. Хорошо еще, что не запрещалось глубоко дышать. В конце концов кислород тоже был привозной.
Пиркс запил печенье водой из-под крана и убедился, что она очень холодная, аж заходятся зубы. Очевидно, резервуары находились близко к верхней базальтовой оболочке.
Потом он заметил одну странность. Его часы показывали без нескольких минут одиннадцать, электрические часы, висевшие в комнате, — семь вечера, если же верить часам Ланье, то десять минут назад наступила полночь.
Оба поставили свои часы по лунному времени, впрочем, очень ненадолго. В Менделееве, как и везде на той стороне, было другое, собственное время.
До старта ракеты осталось девять часов. Ланье, ничего не сказав, вышел. Пиркс уселся в кресло, потом перешел под лампочку, попытался читать какие-то старые, растрепанные журналы, лежавшие на столике, и, наконец, не в состоянии больше сидеть на месте, тоже вышел из номера. Коридор за поворотом переходил в небольшой холл. Там, напротив вмонтированного в стену телевизора, стояло несколько кресел. Шла программа из Австралии для Луны Главной — какие-то легкоатлетические соревнования. Это его совершенно не интересовало, но он сел и смотрел до тех пор, пока не захотел спать. Вставая, он взлетел на полметра вверх, забыв о слабом притяжении. Когда же, наконец, можно будет снять эти штатские брюки? Кто даст ему скафандр? Где хоть какие-нибудь инструкции? И что все это значит?
Может, он и пошел бы куда-нибудь выяснить все это, даже устроил бы скандал, но его товарищ, этот непробиваемый доктор Ланье, очевидно, считал ситуацию совершенно нормальной, следовательно, нужно держать язык за зубами.
Пиркс вернулся в комнату и принял душ. Сквозь тонкую стенку он слышал голоса из соседнего номера. Очевидно, знакомые по ресторану туристы, которых Луна привела в состояние блаженной эйфории. А его почему-то нет. Он сменил рубашку (нужно же что-нибудь делать!) и только улегся на кровать, вернулся Ланье. С четырьмя новыми книжками.
Пиркса бросило в дрожь. Он начинал догадываться, что Ланье фанатик науки, что-то вроде второго профессора Меринуса.
Ланье разложил на столе новые спектрограммы и, разглядывая их в лупу с таким вниманием, с каким Пиркс не изучал даже снимков своей любимой актрисы, спросил, сколько Пирксу лет.
— Сто одиннадцать, — выпалил Пиркс, а когда Ланье поднял голову, добавил: — В двойной системе.
Ланье первый раз усмехнулся и стал почти похож на человека. У него были большие белые зубы.
— Русские пришлют за нами ракету, — сказал он. — Полетим к ним.
— В Циолковский?
— Да.
Эта Станция была уже на той стороне. Значит, еще одна пересадка. Пиркса интересовало, каким образом они преодолеют оставшуюся тысячу километров. Пожалуй, не вездеходом, а ракетой. Однако он ничего не спрашивал. Не хотел обнаруживать своей полной неосведомленности. Кажется, Ланье что-то говорил ему, но Пиркс заснул прямо в одежде. Проснулся он внезапно. Ланье, наклонившись над кроватью, тронул его за плечо.
— Пора, — сказал он.
Пиркс сел. Казалось, Ланье все это время читал и писал, — пачка бумаги с вычислениями значительно выросла. В первый момент Пиркс подумал, что Ланье говорит об ужине, но речь шла о ракете. Пиркс взвалил на себя туго набитый рюкзак. У Ланье рюкзак был тяжелее, словно наполненный камнями. Потом оказалось, что, кроме рубашек, мыла и зубной щетки, в нем были только книги.
Уже без всякого контроля они прошли в верхний ярус, где их ждала ракета лунного сообщения. Когда-то серебряная, а теперь серая, потрескавшаяся, она стояла, растопырив три коленчатые ноги двадцатиметровой высоты. Ее форма не была аэродинамичной — на Луне ведь нет атмосферы. Пиркс на такой еще не летал.
Отсутствие атмосферы создавало массу неудобств. Нельзя было использовать ни самолеты, ни вертолеты, ничего, кроме ракет. Даже глиссера на воздушной подушке, такие удобные в условиях сложного рельефа, здесь были бесполезны. Ракета летает быстро, но далеко не везде может сесть, ракеты не любят ни гор, ни скал.
Ожидали какого-то астрохимика, но он опоздал. Стартовали в точно назначенное время, одни. Их трехлапый потрескавшийся жук загудел, звук становился все громче, протяжнее, потом раздался грохот, и ракета свечой пошла вверх.
Пассажирская кабина была всего раза в два больше гостиничной комнатки. В стенах — иллюминаторы, в потолке — овальное окно. Кабина пилота находилась не наверху, как обычно, а снизу, почти между самыми дюзами, чтобы пилот хорошо видел, куда садиться.
Вышли на параболическую орбиту. Луна мчалась под ними, огромная, выпуклая. Она выглядела так, будто на нее никогда не ступала нога человека. Есть такая зона в пространстве между Землей и Луной, где кажущаяся величина обоих небесных тел одинакова. Пиркс хорошо помнил впечатление, полученное им во время первого полета. Земля, голубоватая, подернутая дымкой, с размытыми контурами материков, казалась менее реальной, чем Луна, каменная, с острыми выступами скал; ее неподвижная тяжесть была почти ощутимой.
Прежде чем Пиркс успел заметить массив Циолковского, ракета, подброшенная коротким включением двигателей, встала вертикально. Последнее, что он увидел, был океан тьмы, залившей все западное полушарие. Вдалеке за линией терминатора торчал, сверкая вершиной, пик Лобачевского. Звезды в верхнем окне остановились. Ракета съезжала вниз, как на лифте, пикируя сквозь пламя собственных двигателей. Газы клубились на выпуклостях наружной обшивки — это немного напоминало проникновение в атмосферу.
Кресла разложились сами. Ощущалось сопротивление, с которым боролись против падения грохочущие дюзы. Внезапно грохот усилился. «Ага, встали на огонь!» — подумал Пиркс, не забывая, что он все-таки настоящий астронавт, хотя еще и без диплома. Удар. Что-то треснуло, задребезжало, словно огромный молот бил по камням. Кабина мягко окатилась вниз, вернулась наверх, вниз, вверх. Эти покачивания на яростно булькающих амортизаторах продолжались до поры, пока три двадцатиметровые, судорожно расставленные «ноги» как следует не впились в груду камней. Постепенно пилот погасил колебания, увеличив немного давление в маслопроводах, послышалось шипение, и кабина повисла неподвижно.
Пилот вылез к ним через люк в полу и отворил стенной шкаф, в котором Пиркс наконец-то увидел скафандры. Он немного приободрился, однако ненадолго. Скафандров было четыре, один — пилота и еще три — маленький, средний и большой. Пилот влез в свой скафандр мгновенно и, не надевая шлема, ждал их. Ланье тоже справился быстро. А Пиркс, красный, потный, злой, не знал, что делать. Средний скафандр был ему маловат, а большой — слишком велик. В среднем он сильно упирался головой в дно шлема. В большом болтался, как кокосовое зернышко в высохшей скорлупе. Ему тут же дали несколько доброжелательных советов. Пилот заметил, что скафандр, который велик, всегда лучше тесного, и предложил набить пустые места бельем из рюкзака. Кажется, он готов был пожертвовать даже одеяло.
Но для Пиркса сама мысль о том, что можно набить скафандр тряпками, содержала в себе нечто святотатственное, против чего восставала его душа астронавта. Обмотаться какими-то лохмотьями?!
Он надел меньший скафандр. Ни пилот, ни Ланье больше ничего не говорили. Пилот откинул люк выходной камеры, они втроем вошли внутрь, поворот маховичка, и открылся наружный люк.
Пилот спустил складную лесенку, и по ней они сошли на Луну.
Здесь их тоже никто не встречал. Вокруг не было ни одной живой души. Бронированный купол станции Циолковского, освещенный косыми лучами жуткого лунного солнца, высился на расстоянии около километра. Над ним виднелась выбитая в скале посадочная площадка, но она была занята. На ней в два ряда стояли ракеты, гораздо большие, чем та, на которой они прилетели, — транспортные.
Их ракета, немного осев на одну сторону, покоилась на раскоряченных «ногах», камни под воронками дюз потемнели, обожженные огнем двигателей. К западу местность была почти ровной, если можно назвать ровным бесконечное поле, усеянное пумами камней, среди которых тут и там торчали обломки величиной с дом. К востоку поверхность повышалась, сначала плавно, чтобы затем, после целого ряда почти вертикальных складок, перейти в главный массив Циолковского. Эта стена, казавшаяся очень близкой, находилась в тени и была черной, как уголь. На какие-нибудь десять градусов выше хребта Циолковского пылало Солнце. Оно ослепляло. Пиркс сразу же опустил фильтр на стекло шлема, но это почти не помогло. Разве что перестал жмуриться. Осторожно ступая по неустойчивым камням, двинулись к станции.
Ракету они сразу же потеряли из виду, потому что пришлось спуститься в неглубокую котловину. Станция, доминировавшая над ней и всей округой, на три четверти пряталась в монолитную каменную стену, напоминавшую разбитую взрывом горную крепость. Остро срезанные углы удивительно походили на сторожевые башни, но только издалека. Чем ближе они подходили, тем больше теряли «башни» форму, расходились, а сбегающие по ним черные полосы оказывались просто глубокими трещинами. Для Луны местность была относительно ровной, и шагалось по ней быстро. Каждое движение поднимало облачко прославленной лунной пыли. Она поднималась выше пояса, окружала их молочно-белой тучей и никак не хотела оседать. Поэтому они шли не гуськом, а рядом друг с другом. И когда уже около самой Станции Пиркс обернулся, он увидел три округлых, неправильной формы змеи — поднятая пыль, гораздо более светлая, чем любая земная, стояла над всем пройденным ими путем.
Пиркс знал о ней многое… Первооткрывателей поражало это явление: они думали, что в безвоздушном пространстве даже самая мелкая пыль немедленно опадет. Лунная пыль упорно не желала этого делать. И что самое интересное, только в дневной период, при солнечном свете. Оказалось, электрические явления на Луне протекают иначе, чем на Земле. На Земле есть атмосферные разряды, молнии, огни святого Эльма. На Луне ничего этого нет. Но бомбардируемые корпускулярным излучением скалы приобретают заряд того же знака, что и покрывающая их пыль. Так как одинаковые заряды отталкиваются, однажды поднятая пыль часами не может осесть из-за электростатического взаимодействия. Когда на Солнце много пятен, Луна «пылит» сильнее. Если пятен мало — слабее. И эти явления исчезают лишь через несколько часов после наступления ночи.
Эти научные рассуждения были прерваны прибытием к главному входу Станции. Их приняли очень гостеприимно. Внешность научного руководителя Станции профессора Ганшина изумила Пиркса, который некоторую компенсацию за свои толстые щеки видел в своем высоком росте. Ганшин, однако, смотрел на него сверху вниз. В самом прямом смысле. А его коллега физик доктор Пнин оказался еще более высоким. В нем было, пожалуй, метра два. На Станции работали еще трое русских, а может, и больше, но остальные не показывались — наверное, работали. Наверху помещались астрономическая обсерватория и радиостанция. Выбитый в скале косой тоннель вел в отдельную башенку, над которой вращались большие антенны локаторов. Сквозь иллюминаторы в стене просвечивала ослепительно серебряная паутина главного радиотелескопа — самого большого на Луне. Подвесной дорогой к нему добирались за полчаса.
Потом выяснилось, что Станция гораздо больше, чем это показалось вначале. В подвалах находились огромные резервуары для воды, воздуха, продовольствия. В незаметном из котловины, встроенном в скальную трещину крыле помещалась солнечная электростанция. На Станции была еще одна совершенно великолепная вещь: гигантский солярий под куполом из усиленного сталью кварца. В солярии, кроме порядочного количества цветов и больших баков с какими-то водорослями, вырабатывающими витамины и белки, росло банановое дерево. Пиркс и Ланье съели по банану, выращенному на Луне. Смеясь, доктор Пнин объяснил им, что бананы не входят в ежедневный рацион персонала Станции, скорее это сюрприз для гостей.
Ланье, который немного разбирался в лунном строительстве, начал расспрашивать о деталях конструкции кварцевого купола, удивившего его гораздо больше бананов. Постройка и в самом деле поражала своей оригинальностью. Поскольку снаружи была пустота, купол выдерживал изнутри постоянное давление — девять тонн на квадратный метр, что при его размерах составляло весьма внушительную величину — две тысячи восемьсот тонн. С такой силой заключенный в солярий воздух пытался разорвать сдерживавшую его оболочку.
Вынужденные отказаться от железобетона, конструкторы залили в кварц систему соединенных друг с другом ребер, которые всю силу давления перекладывали на иридиевый диск, находящийся в самом верху. От него уже снаружи купола расходились мощные стальные тросы, закрепленные глубоко в толще базальта. Они как бы удерживали на привязи этот единственный в своем роде кварцевый воздушный шар.
Из солярия пошли прямо в столовую. На Циолковском наступило время обеда. Это был уже третий подряд обед Пиркса, после второго — на Луне и первого — в ракете. Казалось, на Луне существуют только обеды.
Столовая, одновременно выполнявшая функцию общей гостиной, не очень большая. Стены покрыты деревом, но не панелями, а сосновыми брусьями. Даже смолой пахло. Такая необычайно «земная» обстановка после ошеломляющего лунного ландшафта особенно радовала. Профессор Ганшин объяснил, что верхний тонкий слой стенной обшивки сделали из дерева, чтобы меньше тосковать по дому.
Во время обеда никто ни слова не сказал о Менделееве, о происшествии, о несчастных канадцах, даже об отлете Ланье и Пиркса, как будто они приехали в гости и просидят здесь неопределенно долго.
Русские вели себя так, словно, кроме гостей, их вообще ничто не интересовало, — спрашивали, что слышно на Земле, как там на Луне Главной. В приливе откровенности Пиркс высказал свою стихийную неприязнь к туристам и их манерам; казалось, он нашел благосклонных слушателей.
Только через некоторое время Ланье и Пиркс заметили, что хозяева по очереди выходят, чтобы сразу же вернуться. Позднее выяснилось, что они отлучались в обсерваторию, так как на Солнце образовался великолепный протуберанец. Когда прозвучало это слово, все остальное перестало существовать для Ланье. Присущее ученым неистовство незаметно охватило весь стол. Внимательно рассматривали принесенные фотографии, потом показывали фильм, снятый с помощью коронографа. Протуберанец действительно оказался исключительным: он имел три четверти миллиона километров в длину и выглядел, как допотопный динозавр с огненной пастью. После того как зажегся свет, Ганшин, Пнин, третий астроном и Ланье, у которых блестели глаза, начали говорить, забыв обо всем. Кто-то вспомнил о прерванном обеде. Вернулись в столовую, но и тут, отодвинув тарелки, принялись подсчитывать что-то на бумажных салфетках. Наконец доктор Пнин сжалился над Пирксом, сидевшим дурак дураком, и пригласил его в свою комнату, маленькую, но оборудованную достойным удивления предметом — большим окном, из которого открывался вид на восточную вершину Циолковского. Солнце, низкое, зияющее, как ворота ада, бросало в хаос скальных нагромождений другой хаос — хаос теней, заливающих изломы скал черным потоком. Казалось, будто за ребром каждого камня отворялся дьявольский колодец, ведущий к самому центру Луны. Косые башни, иглы, обелиски высовывались из чернильной тьмы, словно окаменевшие языки пламени. Глаз терялся среди форм, которые невозможно было объединить в целое, находя сомнительное облегчение только г в овальных черных провалах, похожих на глазницы, — так выглядели до краев наполненные тьмой ячейки небольших кратеров, особенно четкие в косом солнечном свете, делающем пустыню неестественно реальной. Это был единственный в своем роде вид.
— Я уже бывал на Луне, — во время разговора Пиркс повторил это раз шесть, — но никогда в это время — за девять часов до захода.
Пнин, обращаясь к нему, называл его «коллега», а он не знал, как отвечать, и поэтому лавировал в разговоре как мог. У русского была фантастическая коллекция снимков, сделанных во время восхождений, — он, Ганшин и третий их товарищ, находящийся на Земле, в свободное время занимались альпинизмом.
Оказывается, все попытки ввести в употребление термин «лунизм» провалились. Он не привился, верно, еще и потому, что ведь и на Луне существуют Альпы.
Пиркс, который еще до поступления в институт участвовал в восхождениях, открыв в Пнине братскую душу, принялся выпытывать у него, в чем же разница между земной и лунной техникой.
— Вы должны помнить об одном, коллега, — сказал Пнин, — только об одном. Делайте все, как дома, пока можете. Льда здесь нет — разве уж в очень глубоких трещинах, и то чрезвычайно редко, — снега, разумеется, тоже, вот и кажется, будто все чрезвычайно просто, тем более что человек может свалиться с тридцатиметровой высоты и с ним ничего не случится. Но об этом даже думать забудьте.
Пиркс удивился:
— Почему?
— Потому что здесь нет воздуха, — объяснил астрофизик. — И как бы долго вы ни ходили, вам не научиться правильно определять расстояния. Тут даже дальномер не помогает, а кто же ходит в горы с дальномером? Вы забрались на вершину, смотрите вниз, и вам кажется, будто высота пятьдесят метров. А на самом деле, может, пятьдесят, может, триста, а может, и пятьсот. Мне случалось… Впрочем, вы знаете, как это бывает. Если человек один раз скажет себе: можно упасть, то рано или поздно он свалится. На Земле разбивают о камни голову, а здесь один хороший удар шлемом, лопается стекло, и конец. Так что ведите себя, словно вы в земных горах. Все, что вы позволили бы себе там, можете позволить и здесь. За исключением прыжков через трещины. Хотя бы вам казалось, что в трещине нет и десяти метров, а это равняется полутора земным. Поищите камень, бросьте на другую сторону и посмотрите, куда он упадет. По правде говоря, я от всего сердца советую вообще не прыгать. Человеку, одолевшему пару раз двадцать метров, уже и пропасти не страшны и горы по колено — вот тут и наступает самое подходящее время для несчастного случая. Спасательной службы у нас нет, сами понимаете.
Пиркс спросил о Менделееве. Почему Станция не внизу? Трудно ли туда добираться? Что это, настоящее восхождение?
— Нет, конечно. Но довольно долго, по вине каменной лавины. Она пришла из-под Солнечных Ворот. Дорогу снесло начисто… Что касается выбора места, мне об этом неловко говорить. Особенно теперь, после несчастья. Но вы ведь, верно, читали, коллега?..
Пиркс, ужасно смешавшись, сослался на экзаменационную сессию. Пнин усмехнулся, но сразу же посерьезнел.
— Ну что ж. Луна находится под международным контролем, но каждое государство имеет свою зону для научных исследований — нам отведено это полушарие. Когда оказалось, что пояса Ван-Аллена затрудняют проникновение космического излучения на полушарие, обращенное к Земле, англичане попросили разрешения построить Станцию на нашей стороне. Мы согласились. Как раз тогда уже начались работы в Менделееве, и мы предложили им принять его от нас вместе с доставленными туда строительными материалами. Рассчитаться договорились потом. Англичане были довольны, а потом вдруг уступили Менделеев канадцам, как стране Британского содружества. Нам, естественно, было безразлично.
Поскольку мы уже провели предварительную разведку местности, один из наших, профессор Анимцев, вошел в состав канадской проектной группы на правах консультанта. Неожиданно мы узнали, что англичане все же принимают участие во всей этой истории. Они прислали Шеннона, и он заявил, что на дне кратера могут возникать очаги вторичного излучения, которые будут искажать результаты исследований. Наши специалисты считали, что это невозможно, но в конце концов был принят вариант англичан. Стоимость работ, естественно, возросла страшно. Всю разницу покрывали канадцы. Но дело, конечно, не в этом, нас не интересуют чужие карманы.
Место для Станции определили и принялись проектировать дорогу. Анимцев дает нам знать: англичане сначала предложили перебросить через две пропасти на трассе проектируемой дороги железобетонные мосты, но канадцы не согласились, ибо стоимость в этом случае возрастала почти в два раза. Тогда решили вгрызаться во внутренний склон Менделеева, пробив два скальных уступа направленными взрывами. Я им не советовал — это могло нарушить равновесие кристаллической базальтовой платформы. Но они не хотели даже слушать.
Что делать? Ведь мы имели дело не с детьми. У меня гораздо больший опыт селенолога, но если они не хотели слушать советов, мы не могли им навязываться. Анимцев заявил votum separatum, и на этом все кончилось. Они начали рвать скалы. Первый нонсенс — выбор места — потянул за собой второй, и результаты, увы, не заставили себя долго ждать. Англичане построили три противолавинные стены, запустили Станцию. По дороге пошли гусеничные транспортеры. Станция работала уже три месяца, когда у подножия седловины, около Солнечных Ворот, этой большой зазубрины в западной стене, появились трещины…
Пнин встал, вынул из ящика несколько больших фотографий и показал их Пирксу.
— Вот здесь была полуторакилометровая плита, местами нависающая. Дорога шла примерно на уровне одной трети от максимума высоты, по этой красной линии. Канадцы подняли тревогу. Анимцев (он все еще сидел там) объяснил им: разница температур дня и ночи составляет триста градусов. Трещины будут увеличиваться, с этим ничего не сделаешь. Разве можно чем-нибудь подпереть полуторакилометровую стену!! Дорогу необходимо немедленно закрыть, а раз уж Станция стоит, построить подвесную.
Одного за другим вызывают экспертов из Англии, из Канады. Разыгрывается настоящая комедия: эксперты, говорящие то же, что наш Анимцев, немедленно возвращаются домой… Остаются только те, которые видят какой-нибудь способ справиться с трещинами. Начинают их цементировать. Глубокие вливания, откосы. Цементируют и цементируют без конца, так как все зацементированное днем лопается следующей же ночью. По трещинам уже скатываются небольшие лавинки, но задерживаются на стенах. Строят систему клиньев, чтобы разбивать большие лавины. Анимцев объясняет им, что дело не в лавинах, может рухнуть вся плита! На него было страшно смотреть. Человек прямо из кожи лез вон, видел приближающееся несчастье и ничего не мог поделать. Я вам честно скажу, у англичан есть великолепные специалисты, но это была не просто селенологическая проблема. Речь шла о престиже: они построили дорогу и не могли идти на попятную. Наконец Анимцев заявил какой-то очередной протест и уехал. Потом мы узнали, что между англичанами и канадцами начались споры, трения в связи с той самой, плитой, кстати, это край так называемого Орлиного Крыла. Канадцы хотели взорвать ее целиком, разрушив дорогу, чтобы потом построить новую, безопасную. Англичанам такой план не нравился. Впрочем, это была утопия. Анимцев подсчитал, что для взрыва потребовался бы шестимегатонный водородный заряд, а конвенция ООН запрещает использование радиоактивных материалов в качестве взрывчатых веществ. Вот так они спорили и ругались, пока плита не рухнула…
Англичане писали потом, что во всем виноваты канадцы, потому что отвергли первый проект, те бетонные виадуки…
Пнин мгновение смотрел на фото, затем взглянул на другое, показывающее увеличенную почти в два раза расщелину в стене. Черными точками было обозначено место обвала, который уничтожил дорогу вместе со всеми укрепляющими конструкциями.
— В результате Станция периодически недоступна. Ночью туда практически невозможно добраться. Тут ведь нет Земли…
Пиркс понял, о чем думает русский: на этой стороне долгие лунные ночи не освещаются огромным фонарем Земли.
— А инфракрасная техника не помогает? — спросил он. Пнин усмехнулся.
— Инфракрасные окуляры? Какие уж тут окуляры, коллега, если через час после захода скалы имеют минус сто шестьдесят градусов на поверхности… Впрочем, теоретически можно ходить с радароскопом: вы никогда не пробовали ходить с ним в горы?
Пиркс признался, что никогда.
— И не советую. Это исключительно сложный способ самоубийства. Радар хорош на ровной местности, но в горах…
Вошли Ланье и профессор; пора отбывать. До Менделеева полчаса лету, пешком — еще два часа, а солнце заходило лишь через семь. Четыре с половиной часа резерва — это, пожалуй, многовато. Но тут выяснилось, что с ними полетит доктор Пнин. Пиркс и Ланье пытались объяснить, что это ни к чему, но хозяева не хотели их даже слушать.
Когда они уже собрались идти, Ганшин спросил, не нужно ли передать что-нибудь на Землю — это последняя оказия. Менделеев, правда, имел с Циолковским радиосвязь, но через семь часов они попадут на терминатор и начнутся сильные помехи.
Пиркс подумал, что неплохо бы передать сестре Маттерса привет с «той стороны», да не решился. Они поблагодарили хозяев и спустились вниз. Русские решили проводить их до ракеты. Тут Пиркс не выдержал и рассказал, какой ему попался скафандр. Ему подобрали другой, а старый остался на Станции.
Этот русский скафандр немного отличался от известных Пирксу. У него было не два, а три фильтра: для высокого солнца, для низкого и для пыли, темно-коричневый; иначе располагались воздушные клапаны, а особое приспособление в ботинках надувало подошвы так, что человек ходил как на подушках. Камни исчезали. Казалось, будто идешь по самой гладкой поверхности. Эту модель называли «высокогорной». Кроме того, скафандр был наполовину серебристый, наполовину черный. Когда человек поворачивался к Солнцу черной стороной, становилось жарко, а когда серебряной, его охватывала приятная прохлада.
Пирксу эта выдумка показалась не совсем удачной — не всегда ведь имеешь возможность выбрать. Выходит, иногда приходится ходить спиной вперед?
Русские начали смеяться. Они показали ему рычажок на груди, поворот которого заставлял серебристый и черный цвета меняться местами. Пиркс окончательно освоился со своим скафандром раньше, чем они дошли до ракеты.
Профессор прижался к шлему Пиркса, сказал несколько прощальных слов, они пожали друг другу руки в тяжелых рукавицах, и Пиркс вслед за пилотом вошел в ракету. Она слегка осела под увеличившейся тяжестью.
Пилот подождал, пока провожающие отошли на безопасное расстояние, и запустил двигатели. Внутрь скафандра мрачный нарастающий грохот проникал словно сквозь толстую стену. Сила тяжести увеличилась, но они даже не заметили, когда ракета оторвалась от грунта. Только звезды замелькали в иллюминаторах, а скалистая пустыня провалилась вниз и исчезла. Теперь они летели совсем низко и поэтому ничего не видели — один лишь пилот всматривался в проносящийся внизу призрачный пейзаж. Ракета висела почти вертикально, словно геликоптер. По усилившемуся реву двигателей и легкой вибрации корпуса можно было понять, что скорость нарастает.
— Внимание, посадка, — раздалось в шлеме.
Пиркс не знал, сказал ли это пилот или Пнин. Кресла разложились. Он глубоко вздохнул и стал очень легким, таким легким, что казалось, вот-вот взлетит к потолку. Инстинктивно схватился за ручки кресла. Пилот резко затормозил, дюзы полыхнули огнем, издали визжащий звук, рев рвущегося вдоль корпуса огня стал нестерпимым, тяжесть увеличилась, снова уменьшилась, и до Пиркса донесся глухой звук двойного удара. Сели. В следующее мгновение произошло что-то неожиданное. Ракета вдруг наклонилась и стала падать.
«Катастрофа», — мелькнуло у Пиркса в голове. Он не испугался, но инстинктивно напряг все мышцы. Остальные сидели неподвижно. Двигатель молчал. Пиркс отлично понимал пилота: ракета занимала очень неустойчивое положение, оседая вместе с осыпавшимися камнями, и тяга двигателей, не успев поднять ракету, могла перевернуть ее или бросить на скалы.
Грохот и скрежет перекатывающихся под стальными лапами каменных глыб ослабевал и, наконец, затих совсем. Еще пара струек гравия громко ударилась о сталь, еще какой-то обломок сполз вниз под тяжестью суставчатой «ноги», и кабина медленно осела, наклонившись почти на десять градусов.
Пилот вылез из своего колодца, немного растерянный, и принялся объяснять, что профиль местности изменился. Очевидно, по северной трещине прошла новая лавина. Он сел у самой стены, чтобы доставить их как можно ближе к Станции.
Пнин ответил, что это не самый разумный способ сокращать дорогу: лавинное поле не космодром и без особой необходимости рисковать незачем. На этом короткий обмен мнениями закончился, пилот пропустил их в воздушную камеру, и они по лестнице спустились вниз.
Пилот остался в ракете ожидать возвращения Пнина, а они двинулись вслед за высоким русским.
До сих пор Пиркс считал, что знает Луну. Однако он ошибался. Территория вокруг Циолковского была великолепной площадкой для прогулок по сравнению с местом, где он очутился теперь. Накренившаяся на максимально расставленных, увязших в каменной россыпи «ногах» ракета стояла в каких-нибудь трехстах шагах от тени, отбрасываемой главным валом Менделеева. Раскрытая в черном небе солнечная пасть почти касалась хребта, который, казалось, плавился в этом месте. По обе стороны дорожки, вернее нагромождения глыб и обломков, стояли залитые в цемент алюминиевые шесты. На каждом из них было укреплено что-то вроде рубинового шарика. Справа и слева от этого нацеленного в горы пути стояли, наполовину залитые светом, наполовину черные, как галактическая ночь, стены, с которыми не могли сравниться далее гиганты Альп и Гималаев.
Ганшин, Ланье и Пиркс прошли еще несколько сотен шагов вверх, и цвет скалы изменился. Реки розоватого порфира двумя валами обегали ущелье, к которому они шли. По мере того как они подходили, ощущение легкости и свободы движений исчезало — увеличивалась крутизна. Камни, достигавшие высоты в несколько этажей, сцепившиеся острыми зазубренными краями плиты лавы словно только и ждали прикосновения, чтобы превратиться в неудержимый камнепад, в лавину, все сметающую на своем пути.
 |
Пнин вел их сквозь этот лес окаменевших взрывов не очень быстро, но безошибочно. Когда плита, на которую он ставил ногу в огромном ботинке, колебалась, он замирал на мгновение и либо шел дальше, либо обходил это место, узнавая по ему одному известным признакам, выдержит камень тяжесть человека или нет. А ведь никаких звуков, так много говорящих альпинисту, здесь не было. Один из базальтовых истуканов, который они обошли, без всякой видимой причины обрушился вниз, под откос. Падая сонно и медленно, он потащил за собой каменные громады. Они неслись все быстрее плавными скачками, пока белое, как молоко, облако пыли не окутало путь лавины. Зрелище походило на кошмарный сон — ударяющиеся о скалы глыбы не издавали грохота, и даже толчки грунта не чувствовались сквозь толстые подошвы ботинок. Когда они резко повернули на следующей извилине тропинки, Пиркс увидел след от прошедшей лавины и ее саму, уже как разлив плавно стелющихся волн. Инстинктивно он с беспокойством поискал глазами ракету, но она стояла, как и раньше, удаленная, может, на километр, а может, и на два. Он видел ее поблескивающее брюхо и три черточки ножек. Казалось, будто удивительное лунное насекомое отдыхает на старом лавинном поле.
Когда они подошли к зоне тени, Пнин ускорил шаги. Тревожная мрачная обстановка настолько поглотила внимание Пиркса, что ему просто некогда было наблюдать за Ланье. Только теперь до него дошло, что маленький астрофизик идет уверенно, нигде не спотыкаясь.
Вошли в тень. Пока они находились недалеко от залитых солнцем скал, отраженный свет немного освещал путь, играя на выпуклостях скафандров. Но скоро мрак начал густеть, и, наконец, стало так темно, что они перестали видеть друг друга. Здесь царила ночь. Пиркс почувствовал ее холод сквозь все антитермические оболочки скафандра. Холод не добирался непосредственно до тела, не покусывал кожи, а существовал как проявление новой, молчащей ледяной реальности.
Шары на верхушках алюминиевых мачт испускали довольно сильный красный свет: бусинки этого рубинового ожерелья поднимались ввысь и исчезали на солнце — там треснувший скальный хребет сбегал к равнине тремя расположенными друг над другом расщелинами. Их разделяли узкие горизонтальные выступы каменных плит, образующие что-то вроде тонких карнизов. Как показалось Пирксу, уходящая вдаль шеренга мачт вела к одной из этих полок, но он подумал, что это, пожалуй, невозможно. Выше, сквозь расколотый, словно ударом молнии, главный вал Менделеева, прорывался почти горизонтальный пучок солнечных лучей. Он выглядел как возникший в глухом молчании взрыв, брызнувший раскаленной белизной на скальные колонны и в расщелины.
— Там Станция, — раздался в шлеме близкий голос Пнина. Русский задержался на границе ночи и дня, холода и тепла, показывая что-то на горе, но Пиркс ничего не сумел разглядеть.
— Видите Орла?.. Так мы называем тот хребет… Вон голова, это клюв, а это крыло…
Вдруг Пиркс увидел всего Орла: крыло — это была именно та стена, к которой они направлялись, выше из стены торчала голова, на фоне звезд вершина казалась клювом.
Он взглянул на часы. Они шли уже сорок минут. И, пожалуй, осталось идти столько же.
Перед следующей полосой тени Пнин задержался, чтобы отрегулировать свой климатизатор. Пиркс воспользовался этим и спросил, где проходила дорога.
— Вот там. — Пнин показал рукой вниз.
Пиркс видел только пустыню и на дне ее — конус осыпи, из которой торчали большие обломки камня.
— Оттуда сорвалась плита, — объяснил Пнин, повернувшись теперь к выемке в стене. — Это Солнечные Ворота. Наши сейсмографы в Циолковском зарегистрировали толчок; предположительно сорвалось около полумиллиона топи базальта…
— Полмиллиона? — переспросил ошеломленный Пиркс. — Как теперь доставляют на гору все необходимое?
— Сами увидите, когда придем, — ответил Пнин и двинулся дальше.
Пиркс поспешил за ним, ломая голову над решением этой задачи, но ничего не придумал. Не носили же они на своих плечах каждый литр воды, каждый баллон кислорода? Нет, это невозможно.
Теперь они шли быстрее. Последний алюминиевый шест торчал у самой пропасти. Их объяла тьма. Они включили вмонтированные в шлемы рефлекторы, бледные пятна света подрагивали, перескакивая с одних выступов стены на другие, и зашагали по карнизу. Местами он сужался до ширины двух ладоней, местами становился таким широким, что на нем можно было стоять, расставив ноги.
Они следовали один за другим по этой полке, слегка волнистой, но совершенно горизонтальной. Ее шершавая поверхность служила хорошей опорой. Правда, достаточно одного неверного шара, легкого головокружения…
«Почему мы не обвязались?» — подумал Пиркс.
В этот момент пятно света перед ним замерло. Пнин остановился.
— Веревка, — сказал он.
Подал конец Пирксу. Тот, пропустив веревку через карабин, передал ее Ланье. Прежде чем тронуться дальше, Пиркс, опершись о скалу, успел осмотреться.
Весь провал кратера лежал под ним как на ладони — черные лавовые ущелья казались сеточкой трещин, приземистый центральный конус отбрасывал длинную тень.
Где же ракета? Пиркс никак не мог ее найти. Где дорога? А эта извилистая тропинка, обозначенная шеренгой алюминиевых мачт? Тоже исчезла. Осталось только пространство каменистого цирка, лежащее в ослепительном блеске и полосах тьмы, тянущихся от каменных груд. Светлая пыль подчеркивала рельеф местности. Вокруг теснились сотни кратеров: от полукилометровых до едва заметных. Каждый был совершенно круглым, с плавным наружным спуском и более крутым внутренним, с центральной горкой или конусом либо хоть с крошечной отметиной вроде пупка. Самые маленькие выглядели точной копией маленьких, маленькие — средних, и все их разом обнимало гигантское трехсоткилометровое кольцо каменных стен.
Это соседство хаоса и точности дразнило человеческую мысль, в этом созидании и уничтожении форм по единому шаблону одновременно виделось и математическое совершенство и полная анархия смерти.
Пиркс взглянул вверх и назад — сквозь Солнечные Ворота все еще рвался поток белого огня.
Через несколько сотен шагов стена отступила. Они пока шли в тени, которую немного рассеивал свет, отраженный вертикальным каменным столбом, возносившимся из мрака километра на два. Потом появился залитый солнцем не очень крутой склон. Пиркс начинал ощущать какое-то странное одеревенение не мышц, а ума — сказывалось непрерывное напряжение внимания. Он получил слишком большую порцию сразу — и Луну с ее дикими горами, и ледяную ночь вперемежку с приливами неподвижной жары, и это великое, всеобъемлющее безмолвие, среди которого человеческий голос, время от времени врывающийся в шлем, казался чем-то неестественным, нереальным…
Пнин свернул за иглу, отбрасывающую последнюю черту тени, и весь вспыхнул, словно охваченный огнем. Огонь ударил Пирксу в глаза, прежде чем тот успел сообразить, что это солнце, что они вышли на уцелевшую часть дороги.
Теперь они пошли рядом, опустив противосолнечные заслонки шлемов.
— Сейчас придем, — сказал Пнин.
По этой дороге транспорт, конечно, ходить не мог. Она была проложена в скале, точнее выбита направленными взрывами, и под навесом Орлиного Крыла поднималась к небольшому перевалу. Там, наверху, образовалось нечто вроде каменного котла. Этот котел и сделал возможным снабжение Станции после катастрофы. Транспортная ракета доставляла запасы, и с помощью специального орудия контейнеры забрасывались в этот каменный бассейн. Некоторые из них лопались, но большинство выдерживало выстрел и столкновение со скалой, так как их бронированные корпуса обладали неимоверной прочностью. Раньше, когда не существовало даже Луны Главной, запасы экспедициям, углубившимся в район Центрального Залива, доставлялись единственным способом — ракеты сбрасывали контейнеры. Поскольку парашюты были бесполезны, пришлось сконструировать эти дюралевые или стальные коробки так, чтобы они выдерживали резкий удар. Контейнеры швыряли словно бомбы, а экспедиция собирала их. Теперь эти контейнеры снова пригодились.
От перевала дорога вела к северной вершине Орлиной Головы: в каких-нибудь трехстах метрах под ней блестел панцирный колпак Станции.
— Неужели нельзя было найти места получше! — вырвалось у Пиркса.
Пнин, который уже поставил ногу на первый уступ платформы, задержался.
— Вы говорите, словно Анимцев, — сказал он, и Пиркс почувствовал в его голосе усмешку.
Пнин ушел за четыре часа до захода солнца. Но ушел в ночь, потому что почти вся дорога уже была залита непроглядным мраком. Ланье, знавший Луну, сказал Пирксу, что когда шли они, еще не было по-настоящему холодно — скалы только начали остывать. Настоящий мороз начинался примерно через час после наступления полной темноты.
Они договорились с Пниным, чтобы он дал знать, когда доберется до ракеты, и действительно через час двадцать минут их радиостанция заработала — говорил Пнин. Они обменялись всего несколькими словами, времени было мало, тем более что стартовать приходилось в трудных условиях, — ракета не стояла вертикально, ее лапы слишком глубоко утонули в каменной россыпи и стали чем-то вроде утяжеленных балластом якорей.
Пиркс и Ланье наблюдали старт, отодвинув стальную ставню, — правда, не самое начало, потому что место стоянки заслонялось ребрами главного хребта. Но внезапно мрак, густой и бесформенный, пронзила огненная стрела. Внизу ее повторил отраженный от выброшенной пыли рыжий отблеск. Огненная стрела мчалась все выше и выше, ракеты совсем не было видно, только эта пылающая струна, все более тонкая, разрывающаяся, распадающаяся на полосы — нормальная пульсация двигателя, работающего на полную мощность. Потом — а головы их были подняты к небу, и вычерченный на нем огненный путь лежал уже среди звезд — прямая плавно изогнулась и изящной аркой упала за горизонт.
Они остались одни, в темноте, так как специально погасили свет, чтобы лучше видеть старт. Задвинули панцирную заслонку окна, зажгли лампы и взглянули друг на друга. Ланье слегка усмехнулся и, сутулый, в клетчатой фланелевой рубашке, подошел к столу, на котором стоял его рюкзак. Начал вынимать из него книжки одну за другой. Пиркс, прислонившись к вогнутой стене, стоял, расставив ноги, словно на палубе далеко уходящего корабля.
В нем было все сразу: холодные подземелья Луны Главной, узкие гостиничные коридоры, лифты, туристы, скачущие под потолок и обменивающиеся кусками оплавленной пемзы, полет до Циолковского, высокие русские, серебряная сеть радиотелескопа между горами и черным небом, рассказ Пнина, второй полет и эта неправдоподобная дорога сквозь холод и жар скал, с безднами, заглядывающими в стекло шлема; он никак не мог поверить, что столько уместили в себя всего несколько часов, время гигантски разрослось, охватило эти образы, а теперь они возвращались, как бы борясь за первенство; он на мгновение закрыл сухие горящие глаза и снова открыл их.
Ланье систематически расставлял книги на полке, и Пирксу показалось, что он понял этого человека: его спокойные движения, когда тот ставил том за томом, происходили не от тупости или равнодушия, его не придавливал этот мертвый мир, потому что Ланье служил ему: прилетел на Станцию, поскольку хотел этого, не тосковал по дому — его домом были спектрограммы, расчеты и место, где они рождались. Он везде чувствовал себя дома, раз сумел так сконцентрировать свои стремления, знал, зачем живет, — и Пиркс вряд ли доверил бы ему свои романтические мечтания о великом подвиге. А случись такое, Ланье, наверное, даже не усмехнулся бы, как минуту назад, а просто выслушал Пиркса и вернулся бы к своей работе. Пиркс на мгновение позавидовал этой уверенности, самопознанию, но одновременно он чувствовал отчужденность Ланье; им не о чем было говорить, и они должны были вместе прожить эту начинающуюся ночь, день за ней и еще одну ночь.
Пиркс обвел глазами кабину, будто видел ее впервые. Покрытые пластиком вогнутые стены. Закрытое панцирной ставней окно. Утопленные в пластике потолка лампы. Несколько цветных репродукций между полками со специальной литературой и узкая табличка в рамке с выписанными в два столбца именами всех, кто был здесь до них. По углам пустые кислородные баллоны, консервные банки, наполненные обломками разноцветных минералов, легкие металлические кресла с нейлоновыми сиденьями. Маленький стол, над ним рабочая лампа на гибкой ножке. Через приоткрытую дверь видна аппаратура радиостанции.
Ланье навел порядок в шкафчике, набитом негативами. Пиркс обошел его и шагнул в коридор. Из коридора двери вели налево — в кухню, прямо — в выходную камеру, направо — в две миниатюрные комнатки. Он вошел в свою. Кроме койки, складного стула, выдвигающегося из стены пюпитра и полочки, в ней ничего не было. Потолок с одной стороны, над кроватью, падал косо, как в мансарде, но был не плоским, а полукруглым, повторяя кривизну наружного панциря.
Он вернулся в коридор. Дверь камеры давления с плавно закругленными углами, края окантованы толстым слоем герметизирующего пластика, маховичок и лампа — она зажигалась, только когда при открытом наружном люке в камере господствовала пустота. Сейчас лампочка не горела. Он отворил дверь. Автоматически зажглись две лампы, осветив тесное пространство с голыми металлическими стенами, с вертикальной лестничкой в центре, доходившей до люка в потолке. Под нижней ступенькой был еще виден затертый бесчисленными подошвами контур, обведенный мелом. На этом месте нашли Саважа, он лежал съежившись, на боку, и его никак не могли поднять, потому что он примерз к шершавым плитам, залитым его собственной кровью, которая разорвала ему лицо.
Пиркс смотрел на этот белесый силуэт, отдаленно напоминавший человеческую фигуру, потом отступил и, заперев герметическую дверь, поднял голову — он услышал шаги наверху. Это Ланье забрался по лестнице, приставленной к противоположной стене коридора, и возился в обсерватории. Всунув голову в круглое отверстие люка, Пиркс увидел покрытый чехлом, похожий на небольшое орудие телескоп, камеры астрографов и два больших аппарата — камеру Вильсона и другую, масляную, вместе с осветительной установкой — для фотографирования следов частиц.
Станция предназначалась для изучения космического излучения, и фотопластинки, которые использовались для этого, лежали между книгами, под полками, в ящиках, у кроватей, даже в кухоньке. И это было, пожалуй, все. Да, все, если не считать больших резервуаров воды и кислорода, размещенных под полом, наглухо врезанных в лунную скалу, в самый массив Менделеева.
Над дверями каждого помещения находился круглый измеритель концентрации углекислого газа. Над измерителями виднелись решетки климатизаторов. Аппаратура работала беззвучно. Климатизаторы всасывали воздух, очищали его от углекислого газа, добавляли нужное количество кислорода, увлажняли либо осушали его и нагнетали обратно во все кабины. Пиркс радовался каждому стуку, доносящемуся из обсерватории; когда они замолкали, тишина разрасталась так, что он начинал слышать шорох собственной крови, как в этом, экспериментальном бассейне, в «сумасшедшей ванне», но из нее-то в любой момент можно было выбраться.
Ланье спустился вниз и занялся ужином так тихо и умело, что когда Пиркс вошел в кухню, все было уже готово. Ели почти молча. «Соль, пожалуйста. Хлеб в банках? Завтра нужно будет открыть новую. Кофе или чаю?»
И все. Это немногословие сейчас устраивало Пиркса. Что, собственно, они ели? Третий обед за этот день? Или четвертый? А может, уже завтрак следующих суток? Ланье сказал, что должен проявить отснятые кадры, и ушел наверх. Пирксу делать было нечего. Он неожиданно понял это. Его прислали для того, чтобы не оставлять Ланье одного. Пиркс ведь не разбирался в астрофизике, в космическом излучении. Если бы Ланье захотел научить его пользоваться астрографом!.. Он получил высшую оценку, психологи поручились за то, что он не сойдет с ума. Итак, он должен просидеть в этом горшке две недели ночи, а потом две недели дня, ожидая неизвестно чего, наблюдая неизвестно за чем.
Это Задание, эта Миссия, которая совсем недавно казалась ему совершенно неправдоподобным счастьем, внезапно показала свое настоящее обличье бесформенной пустоты. От чего он должен был защищать Ланье и себя? Каких искать следов? И где? Или он думал, что откроет нечто такое, чего не заметили лучшие специалисты, входившие в состав комиссии, люди, знающие Луну много лет. Ну и идиотом же он оказался!
Пиркс сидел у стола. Нужно помыть посуду. И завернуть кран, из которого капала вода, эта бесценная вода, которую привозили в виде замерзших блоков и выстреливали из орудия по 2,5-километровой параболе в котел у подножия Станции. Он не шевельнулся. Даже не поднял безвольно упавшей на край стола руки. В голове царили жар и пустота, тьма и безмолвие, те, что окружали стальную скорлупу со всех сторон. Он протер горящие, словно засыпанные песком глаза. Потом встал так, будто весил в два раза больше, чем на Земле. Отнес грязные тарелки в моечный аппарат, с шумом бросил их, пустил струю теплой воды. И, моя их, переворачивая, соскребая застывшие остатки яшра, он посмеивался над своими мечтами, которые остались где-то на дороге к хребту Менделеева, такие смешные и чужие, такие давние, что их не нужно было даже стыдиться.
С Ланье можно было прожить день или год, и от этого ничего не менялось. Работал он охотно, но в меру. Никогда не спешил. У него не было никаких дурных привычек, никаких чудачеств. Когда люди живут в такой тесноте, любой пустяк начинает раздражать. Раздражает то, что тот, второй, слишком долго торчит под душем, что не хочет открывать банок со шпинатом, ибо не любит шпинат, что ему весело, что однажды перестает бриться и пугает колючей щетиной или, поцарапавшись при бритье, час разглядывает себя в зеркало, строя рожи, как будто он один. Ланье не был таким. Ел все, хотя и без особого удовольствия. Не веселился. А когда должен был мыть посуду, мыл. Не рассказывал долго и подробно о себе и своей работе. Если его спрашивали, отвечал. Не избегал Пиркса и не навязывался ему.
Возможно, именно эта безликость и начала бы раздражать Пиркса, так как впечатление первого вечера — когда физик, расставляющий на полке книги, показался ему воплощением скромного героизма, и даже не героизма, а достойной зависти стоически мужественной фигуры ученого, — исчезло, и Пирксу его вынужденный товарищ стал казаться человеком серым до тошноты. Но, несмотря на это, Ланье не надоедал и не раздражал Пиркса, так как у того оказалось, по крайней мере пока, даже слишком много дел.
Работа поглотила его целиком. Теперь, когда он знал Станцию и окружавшую ее местность, он еще раз принялся изучать все документы.
Катастрофа произошла через четыре месяца после пуска Станции. Вопреки ожиданиям не на рассвете или в сумерки, а почти в самый лунный полдень. Три четверти нависшей плиты Орлиного Крыла рухнули совершенно неожиданно. Свидетелем этого зрелища был временно увеличенный до четырех человек коллектив Станции, ожидавший прибытия колонны транспортеров с запасами.
Позднейшие исследования показали, что вторжение в глубь огромного массива Орла действительно нарушило прочность кристаллического монолита и его тектоническое равновесие. Англичане сваливали всю ответственность на канадцев, канадцы — на англичан, единство партнеров по Британскому содружеству проявилось лишь в том, что обе стороны упорно замалчивали предостережения профессора Анимцева. Последствия катастрофы были трагичны. Четверо людей, стоящих перед Станцией, которая находилась от места катастрофы на расстоянии по прямой меньше мили, видели, как раздвоилась стена, как разлетелась на куски система противолавинных клиньев и барьеров, как вся эта масса мчащихся глыб снесла дорогу и скатилась в долину, которая превратилась в море плавно волнующейся белизны, — подгоняемый ужасным натиском, пылевой наплыв в несколько минут достиг противоположной стены кратера!
В зоне уничтожения оказались два транспортера. Того, что замыкал колонну, вообще не удалось найти. Его останки были погребены под десятиметровым слоем обломков. Другой попробовал уйти. Он был у лее вне русла лавины, на горном, уцелевшем участке дороги, но огромная глыба, перелетев через сохранившуюся противолавинную стену, врезалась в него и смела в трехсотметровую пропасть. Водитель транспортера успел открыть люк и вывалиться на катящиеся вниз камни. Он один пережил своих товарищей — впрочем, всего на несколько часов. Но эти несколько часов стали адом для остальных. Роже, канадский француз, не потерял сознания, а может, пришел в себя сразу после катастрофы и из глубины белой тучи, накрывшей дно кратера, взывал о помощи. Его радиоприемник сломался, но передатчик действовал. Найти его было невозмояшо. Из-за многократного изменения пути радиоволн, отраженных от каменных глыб, — а они были величиной с дом, и люди двигались в лабиринте, залитом молочно-белой пылью, как в развалинах города, — все попытки запеленговать его оказались безуспешными. Через час из-под Солнечных Ворот начался второй камнепад, и поиски пришлось прервать. Эта лавина была небольшой, но она могла быть предвестницей новых обвалов. Приходилось ждать, а голос Роже слышался по-прежнему, особенно хорошо наверху, на самой Станции; каменный котел, в котором она стояла, служил чем-то вроде направленной антенны. Через три часа прибыли русские с Циолковского и ушли в пылевую тучу на гусеничных танках. На движущемся склоне танки вставали на дыбы и грозили перевернуться. Там, где они не могли пройти, цепи спасателей трижды прочесали колеблющуюся территорию обвала. Один из спасателей свалился в трещину, и только немедленная доставка в Циолковский и безотлагательная медицинская помощь вернули его к жизни. Но и после этого никтс не вышел из пылевой тучи, потому что оттуда звучал слабеющий голос Роже.
Через шесть часов после катастрофы Роже умолк. Он еще жил. Это было известно. В каждом скафандре, кроме радио, находился миниатюрный автоматический передатчик, соединенный с кислородным аппаратом. Каждый вдох и выдох, принесенный электромагнитными волнами, регистрировался на Станции специальным индикатором, похожим на магический глаз. Его мерцание походило на мерные взмахи крыльев зеленого мотылька. И это фосфоресцирующее движение показывало, что потерявший сознание, умирающий Роже все еще дышит; пульсация становилась все медленнее. Никто не уходил с радиостанции, сгрудившиеся в ней люди бессильно ждали, когда он умрет.
Роже дышал еще два часа. Потом зеленый «мотылек» в магическом глазе заметался, съежился и перестал двигаться. Раздробленное, застывшее, как камень, тело нашли только через тридцать часов. Он был так искалечен, что с него даже не сняли скафандр, а так и похоронили в этой полураздавленной металлической оболочке, как в гробу.
Потом проложили новую дорогу, ту скальную тропку, по которой пришел на Станцию Пиркс. Канадцы собирались покинуть Станцию, но их упрямые английские коллеги решили проблему доставки запасов способом, который впервые предложили на Земле, во время штурма Эвереста. Тогда его отклонили как нереальный. Он оказался реальным только на Луне.
Эхо катастрофы облетело всю Землю в бесчисленных, иногда совершенно противоречивых версиях. Наконец шум утих. Трагедия стала частью хроник о борьбе с лунными пустынями. На Станции сменялись астрофизики. Так прошло шесть лунных дней и ночей. И когда уже казалось, что это недавно подвергшееся такому испытанию место не создаст больше никакой сенсации, неожиданно радио Менделеева не ответило на вызов Циолковского.
И снова на спасение, вернее, на разведку причины непонятного молчания Станции отправилась команда с Циолковского.
Прибыла ракета, она села у основания большого языка лавины под вершиной Орла.
До купола Станции добрались, когда почти весь кратер еще заливала не освещенная ни одним солнечным лучом непроглядная тьма. Только стальной колпак у вершины искрился под горизонтальными лучами. Наружная дверь широко распахнута. Под ней, у основания лестницьц лежал Саваж в такой позе, словно сполз со ступенек. Причиной гибели было удушение — панцирное стекло шлема треснуло.
Позднее на внутренней поверхности его рукавиц обнаружили малозаметные следы скальной пыли, как будто он вернулся с восхождения. Но эти следы могли быть старыми. Другого канадца, Шалье, удалось найти только после систематического осмотра окрестных ущелий и трещин. Спасатели, опустившись на трехсотметровых тросах, подняли его тело со дна пропасти под Солнечными Воротами. Он лежал в нескольких десятках шагов от того места, где погиб и был похоронен Роже.
На место происшествия прибыла смешанная англо-канадская комиссия.
Попытки отыскать причину несчастного случая оказались совершенно безуспешными. Никто даже не мог предложить мало-мальски правдоподобной гипотезы.
Часы Шалье стояли на двенадцати, но было неизвестно, разбился ли он в полночь или в полдень. Часы Саважа показывали два. Тщательное исследование (а все исследовалось так тщательно, как только позволяли человеческие возможности) показало, что пружина развернулась до конца. То есть, по всей вероятности, часы Саважа встали не в момент его смерти, а шли еще некоторое время.
На самой Станции все было в полном порядке. Книга дежурств, в которую записывались все события, не содержала ничего, что могло пролить на происшествие хотя бы слабый свет. Пиркс самым внимательным образом изучил ее. Записи были лаконичны. В такой-то час производились астрографичеекие измерения, снято столько-то кадров, в таких-то условиях проведены следующие наблюдения.
На Станции не только господствовал абсолютный порядок, все в ней свидетельствовало о том, что смерть застигла обитателей внезапно. Под все еще горящей лампой лежала открытая книга, на полях которой Шалье делал пометки, он придавил ее другой, чтобы не закрылись страницы. Рядом лежала трубка. Она свалилась набок, выпавший из нее горячий пепел слегка обуглил пластиковую поверхность стола. Саваж, судя по всему, готовил ужин. В кухне стояли открытые консервные банки, в чашке — размешанный с молоком яичный порошок для омлета, дверца холодильника приоткрыта, на белом столике две тарелки, две пары столовых приборов, нарезанный засохший хлеб…
Итак, один из них перестал читать, отложил горящую трубку, как будто собирался покинуть комнату всего на несколько минут и сразу же вернуться. А другой оторвался от кухонных приготовлений, от сковороды с растопленным жиром и даже не захлопнул дверцу холодильника.
Они надели скафандры и вышли в ночь. Одновременно. Один за другим. Зачем? Куда?
Их пребывание на Станции длилось уже две недели. Они отлично знали ее окрестности. Впрочем, ночь кончалась. Через несколько часов должно было взойти солнце. Почему они не подождали восхода, если оба — или один из них — собирались спуститься на дно кратера? О том, что таким было, пожалуй, намерение Шалье, свидетельствовало место, где его нашли. Он, как и Саваж, знал, что спуск на площадку под Солнечными Воротами, где дорога резко обрывается, сумасшествие. Плавный наклон скалы переходил здесь во все более обрывистый скат, словно приглашающий спуститься вниз, но в нескольких десятках шагов ниже зияли появившиеся после катастрофы провалы. Новая дорога обходила это место и следовала дальше прямо, вдоль линии алюминиевых мачт. Об этом знал каждый, кто хоть раз был на Станции. И вот один из ее постоянных сотрудников направился именно туда, начал спускаться по плитам, ведущим прямо в бездну… Зачем? Чтобы покончить с собой? Трудно представить, чтобы самоубийца, идущий на встречу со смертью, оставил зажженную трубку.
А Саваж? При каких обстоятельствах треснуло стекло его шлема? Когда он выходил со Станции или когда пришел обратно? Хотел ли он искать Шалье, который не возвращался? Почему не пошел вместе с ним? А если пошел, то как мог позволить ему спуститься к пропасти?
Сколько таких вопросов осталось без ответа.
Единственной вещью, которая находилась явно не на своем месте, был пакет с фотопластинками, служащими для регистрации космических лучей. Он лежал на белом кухонном столике рядом с чистыми пустыми тарелками.
Комиссия пришла к такому выводу. В тот день дежурил Шалье. Углубившись в чтение, он вдруг заметил, что уже почти одиннадцать — время, когда он должен заменить заснятые пластинки новыми. Установка для регистрации космических лучей находилась за пределами Станции. В каких-нибудь ста шагах в склоне горы располагался выбитый в скале не слишком глубокий колодец. Его стенки покрывал свинец, чтобы на пластинки попадало только излучение, идущее из зенита. Это было одно из обязательных условий тогдашних работ. Шалье, увидев, что пора идти, встал, отложил книгу и трубку, взял новую пачку пластинок, надел скафандр, покинул Станцию, подошел к колодцу, спустился в него по вбитым в облицовку скобам, заменил пластинки и, забрав заснятые, пошел назад. Возвращаясь, он сбился с дороги. Его кислородный аппарат был в порядке, он не терял сознания от аноксии — недостатка кислорода. Во всяком случае, насколько это удалось установить, исследуя разбитый скафандр, поднятый со дна пропасти.
Члены комиссии пришли к убеждению, что Шалье подвергся внезапному помутнению рассудка — иначе он не сбился бы с дороги. Он знал ее слишком хорошо. Может быть, он почувствовал слабость, обморочное состояние, возможно, у него закружилась голова, и он потерял ориентацию настолько, что двигался вперед, думая, что возвращается, а в действительности направлялся прямо к ожидающей его в ста метрах бездне.
Саваж, не дождавшись его возвращения, забеспокоился, оставил приготовление ужина, пытался установить с Шалье радиосвязь — рация была включена и работала в ультракоротковолновом диапазоне местной связи. Правда, она могла быть включена и раньше, если кто-нибудь из дежурных хотел, несмотря на помехи, установить связь с Циояковским. Но, во-первых, радио Циолковского не принимало никаких сигналов, даже искаженных до неузнаваемости, во-вторых, такая возможность была малоправдоподобной еще и потому, что и Саваж и Шалье прекрасно понимали безнадежность попыток связаться в момент наступления рассвета, ибо в это время были самые сильные помехи. Когда связь с Шалье установить не удалось, так как его уже не было в живых, Саваж надел скафандр, выбежал в темноту и начал искать товарища.
Быть может, разнервничавшись из-за молчания Шалье и его непонятного внезапного исчезновения, Саваж заблудился, а еще вернее, пытаясь систематически обыскать местность вблизи Станции и будучи из них двоих более опытным и знающим альпинистом, он ненужно и чрезмерно рисковал, до тех пор пока в ходе этих головоломных поисков не упал, разбив стекло шлема. У него еще хватило сил, чтобы, зажав рукой трещину, добежать до Станции и добраться до люка. Но прежде чем он закрыл его, прежде чем успел впустить в камеру воздух, остаток кислорода ушел из скафандра. Саваж рухнул с последней перекладины лестницы в глубоком обмороке и через несколько секунд умер.
Такое объяснение двойной трагедии не убедило Пиркса. Он внимательно ознакомился с характеристиками обоих канадцев. Особое внимание он обратил на Шалье — невольного виновника смерти своей и своего товарища. Шалье было тридцать пять лет. Он был известным астрофизиком и отличным альпинистом. Обладал великолепным здоровьем, никогда не болел, не знал, что такое головокружения. Раньше он работал на «земном» полушарии Луны и стал там одним из основателей клуба акробатической гимнастики, этого своеобразного вида спорта, любители которого умеют выполнить десять сальто с одного толчка или удержать на своих плечах пирамиду из двадцати пяти человек.
И этот Шалье вдруг без всякой причины почувствовал слабость или какое-то расстройство в ста шагах от Станции и не сумел, даже если с ним что-то подобное случилось, спуститься к ней по широкому откосу, а повернул под прямым углом в ложном направлении, причем должен был, прежде чем выйти на уцелевшую часть дороги, преодолеть в темноте каменный вал, который протянулся позади Станции именно в этом месте.
И еще одна деталь, по мнению Пиркса (но не только по его мнению), пожалуй, уже прямо противоречила версии, принятой в официальном протоколе.
На Станции все было в порядке. Но одна вещь лежала не на месте — тот самый пакет с пластинками на кухонном столе.
Похоже, Шалье действительно вышел, чтобы сменить пластинки. Сменил их. И самым обычным путем вернулся внутрь Станции. Об этом свидетельствовали пластинки. Он положил их на кухонный стол.
Почему туда? И где был в это время Саваж?
Пластинки, лежащие в кухне, заявила комиссия, были засняты раньше, утром. Один из ученых положил их на стол случайно.
Однако никаких пластинок на теле Шалье найдено не было. Комиссия признала, что пачка могла выпасть из кармана скафандра или из рук ученого в пропасть и исчезнуть в одной из тысячи трещин.
Пирксу это казалось подгонкой фактов под принятую гипотезу.
Он спрятал протоколы в ящик стола. Ему больше незачем было заглядывать в них: знал их на память. Он сказал себе, что разгадка тайны не в психике обоих канадцев. Это значит, не было никакого обморока, слабости, помрачения сознания. Причина трагедии иная. Она крылась в самой Станции или вне ее.
Он начал с изучения Станции. Не искал никаких следов, хотел лишь подробно ознакомиться с устройством оборудования. Спешить ему некуда, времени достаточно. Сначала он осмотрел выходную камеру. Меловой контур все еще виднелся у подножия лестницы. Пиркс начал с внутренней двери. Как обычно в маленьких камерах подобного типа, приборы позволяли открыть либо дверь, либо верхний люк. При открытом люке дверь не отпиралась. Это исключало несчастные случаи, вызванные, например, тем, что один открывает люк в тот момент, когда другой открыл дверь. Правда, дверь открывалась внутрь, и давление воздуха в помещении Станции само захлопнуло бы ее с силой почти в восемнадцать тонн, но между створкой двери и фрамугой могла оказаться, например, чья-то рука или какой-нибудь твердый предмет — тогда произошла бы мгновенная утечка воздуха в пустоту.
О положении люка сигнализировал центральный пульт управления, помещающийся на радиостанции. При открытом люке на его панели загоралась красная лампочка. Одновременно автоматически включался приемник «земного сигнала». Это был стеклянный глазок в никелированном кольце, помещенный в центре экрана локатора. Взмахи «мотылька» в глазке показывали, что находящийся вне Станции человек дышит нормально. Кроме того, светящееся пятнышко на экране, разделенном на секторы, показывало, где этот человек находится.
На экране, повторяя движение антенны, укрепленной на куполе, вращалась светящаяся линия, которая в виде фосфорических мерцающих контуров рисовала ближние окрестности Станции. Вслед за бегущим, как стрелка часов, лучом на экране возникало характерное свечение, вызванное отражением радиоволн от всех материальных объектов, а человек, одетый в металлический скафандр, был виден как вспышка большой яркости. Наблюдая за этим изумрудным удлиненным пятном, можно было проследить, как оно перемещалось по менее яркому фону, и тем самым контролировать темп и направление движения человека, находящегося вне Станции. Верхняя часть экрана соответствовала территории под северной вершиной, где находился колодец, нижняя половина обозначала юг, то есть зону, запретную в ночной период, — там проходила дорога к пропасти.
Системы «дышащего мотылька» и радара действовали независимо друг от друга. «Глаз» приводился в действие передатчиком, соединенным с кислородными клапанами скафандра. Передатчик работал на частоте, близкой к зоне инфракрасного излучения, а локатор — на волне длиной в полсантиметра.
В комплект аппаратуры входил один локатор и один «глаз», поскольку по инструкции только один человек мог находиться вне Станции. Другой, внутри Станции, наблюдал за его состоянием и в случае какого-либо происшествия должен был, естественно, поспешить ему на помощь.
Практически при такой короткой и невинной прогулке, какой была замена пластинок в колодце, оставшийся мог, отворив две двери кухни и радиостанции, наблюдать за приборами, не отрываясь от стряпни. Можно было также поддерживать связь голосом, по радио, за исключением нескольких часов перед самым рассветом, так как о приближении терминатора — линии, разделяющей день и ночь, оповещал ливень треска, делавший радиосвязь невозможной.
Пиркс добросовестно изучил игру сигналов. Как только открывался люк, на пульте загоралась красная лампочка. Салатного цвета индикатор освещался, но был неподвижен, а его крылышки были сложены, так как отсутствовали наружные сигналы, которые их раскрывали. Лучик радиолокатора мерно кружился по экрану, вырисовывая на нем фигуры окаменевших духов — неподвижный силуэт скальных окрестностей. Он не становился ярче ни в одной точке своего пути, подтверждая показания индикатора дыхания о том, что ни одного скафандра в радиусе его действия нет.
Пиркс всегда наблюдал за работой приборов, когда Ланье выходил менять пластинки.
Красная лампочка загоралась и почти тотчас же гасла, так как он уже снаружи закрывал люк. Зеленый «мотылек» начинал равномерно пульсировать. Эта пульсация незначительно ускорялась через несколько минут, потому что Ланье шел в гору довольно быстро — ничего удивительного, что его дыхание учащалось. Яркое пятно его скафандра виднелось на экране значительно дольше, чем гаснущие сразу же после того, как проходил луч, контуры скал. Потом «мотылек» складывал крылья, а экран становился пустым — отражение скафандра исчезало. Это происходило в тот момент, когда Ланье спускался в колодец — его стенки, облицованные свинцом, отражали поток сигналов. Одновременно на главном пульте зажигался красный сигнал тревоги, а картина на экране локатора изменялась. Антенна радара, вращаясь с той же скоростью, уменьшала наклон, чтобы последовательно прочесать все более отдаленные от Станции сегменты территории. Приборы действовали так, потому что «не знали», что случилось: человек внезапно исчезал из сферы их электромагнитной власти. Через три-четыре минуты «мотылек» снова начинал взмахивать крылышками, радар находил потерявшегося, оба независимых прибора вновь регистрировали его присутствие. Ланье, покинув колодец, возвращался. Сигнал тревоги, однако, продолжал пылать — его нужно было выключить. Если это не делалось, реле времени через два часа выключало его автоматически для того, чтобы из-за забывчивости людей аппаратура не потребляла напрасно энергию. Ведь в ночное время ее можно черпать только из аккумуляторов, которые днем заряжались солнцем.
Разобравшись в работе аппаратуры, Пиркс решил, что все это слишком сложно. Ланье ни во что не вмешивался. Он верил в записи протоколов комиссии. Кроме того, он считал, что подобные вещи должны иногда случаться.
— Эти негативы? — ответил он на вопрос Пиркса. — Эти негативы не имеют никакого значения. Человек и не такие вещи делает, когда понервничает. Логика оставляет нас гораздо раньше, чем жизнь. Тогда каждый начинает поступать бессмысленно…
От дальнейшей дискуссии Пиркс отказался.
Кончалась вторая неделя лунной ночи. Пиркс после всех своих исследований знал столько же, сколько и вначале. Может, и вправду трагический случай навсегда останется невыясненным? Может, это было одно из тех происшествий, приходящихся одно на миллион, восстановить которые невозможно?
Постепенно Пиркс втянулся в совместную работу с Ланье. В конце концов нужно было что-нибудь делать, как-то заполнить время. Он научился пользоваться большим астрографом (да, все-таки получалась обычная каникулярная практика), потом начал ходить попеременно с товарищем к колодцу, в котором пластинки оставлялись на многочасовую экспозицию.
Приближался ожидаемый с нетерпением рассвет. Жаждущий получить какие-нибудь сведения о мире, Пиркс манипулировал около радиостанции, но добыл из динамика только бурю тресков и свист, возвещающие близкий восход солнца. Потом был завтрак, после завтрака проявление снимков, над одним Ланье корпел особенно долго, так как обнаружил замечательный след какого-то мезонного распада. Он даже Пиркса позвал к микроскопу, но тот оказался равнодушным к очарованию ядерных превращений. Потом был обед, час у астрографов, визуальные наблюдения звездного неба. Приближалось время ужина. Ланье уже возился в кухне, когда Пиркс — сегодня была его очередь — всунул голову в дверь и сообщил, что выходит. Ланье, занятый изучением сложного рецепта на коробке с яичным порошком, буркнул, чтобы Пиркс поспешил: омлет будет готов через десять минут.
Пиркс с пачкой пластинок в руках, уже в скафандре, проверив, надежно ли зажимы соединили шлем с воротником, отворил настежь обе двери — кухни и радиостанции, — вошел в камеру, захлопнул герметическую дверь, отворил люк, вылез наверх, но не закрыл его, чтобы побыстрее вернуться. Это было вполне допустимо — Ланье все равно не собирался выбираться наружу.
Пиркса встретила темнота, и только по черным провалам на фоне звездного неба можно было понять, что вокруг скалы. Он зажег рефлектор и за мерно колышущимся перед ним бледным пятном света дошел до колодца. Перекинул ноги в тяжелых ботинках через облицовку, нащупал первую ступеньку, спустился вниз и принялся заменять пластинки. Когда он присел и наклонился над штативами, его рефлектор несколько раз мигнул и погас. Он тряхнул головой, потрогал рукой шлем — свет загорелся снова. Значит, лампочка цела, что-то с контактом. Он начал собирать заснятые — пластинки — рефлектор пару раз моргнул и опять погас. Пиркс несколько минут сидел в полной темноте, не зная, что делать. Обратная дорога не пугала его, он отлично помнил ее, а кроме того, на вершине Станции пылали два огонька, зеленый и синий. Но, работая на ощупь, можно разбить пластинки. Он еще раз стукнул кулаком по шлему — рефлектор вспыхнул. Пиркс быстро записал температуру, воткнул заснятые пластинки в кассеты, но когда вкладывал кассеты в футляр, проклятый рефлектор погас. Пришлось отложить пластинки, чтобы несколькими ударами по шлему вновь включить свет. Пиркс заметил, что, когда он выпрямляется, рефлектор горит, а когда наклоняется, гаснет. Приходилось работать в очень неестественном положении. Наконец свет погас еще раз, и никакие удары не помогали. Вокруг были разложены пластинки, и о возвращении на Станцию сейчас не могло быть и речи. Он оперся спиной о нижнюю ступеньку, отвернул наружную крышку, поплотнее вставил в патрон ртутную лампу и закрыл крышку. Теперь у него был свет, но, как это иногда случается, винт никак не хотел завинчиваться. Пиркс пробовал и так и этак, наконец, потеряв терпение, сунул крышку рефлектора в карман, быстро собрал пластинки и, вставив новые, начал карабкаться по ступенькам. Он был метрах в полутора от поверхности, когда ему показалось, что с белым светом его рефлектора смешался какой-то иной блеск, колеблющийся, непродолжительный. Он взглянул вверх, но увидел в отверстии колодца только звезды. «Показалось», — подумал он.
Пиркс выбрался из колодца, и его охватило какое-то неясное беспокойство. Он не шел, а бежал большими скачками, хотя вопреки широко распространенному мнению эти лунные скачки не ускоряют движения; они длинные, но полет происходит в шесть раз медленнее, чем на Земле. Уже у самой Станции он увидел вторую вспышку. Похоже, будто на юге кто-то выстрелил из ракетницы. Ракеты он не увидел: все заслонял купол Станции, только призрачный отблеск скал — они на секунду, выглянули из темноты и исчезли.
Как обезьяна, влез он на вершину купола. Абсолютно темно. Будь у него ракетница, он выстрелил бы, но ракетницы не было. Включил свое радио. Треск. Адский треск. Люк открыт. Значит, Ланье внутри.
Пиркс внезапно подумал, что он идиот. Какая ракета? Наверное, это был метеор. Метеоры светятся в атмосфере, а на Луне ее нет, но здесь они вспыхивают, врезаясь с космической скоростью в скалы.
Он спрыгнул в камеру, закрыл люк, прошло некоторое время, пока набирался воздух, приборы показали нужное давление — 0,8 килограмма на квадратный сантиметр, он открыл дверь и, на ходу срывая шлем, вбежал в коридор.
— Ланье! — позвал Пиркс.
Молчание. Как был в скафандре, ворвался в кухню. Осмотрел ее одним взглядом. Пуста. На столе — тарелки, приготовленные к ужину, в кастрюльке разболтанный яичный порошок, сковородка рядом с уже включенным нагревателем…
— Ланье! — заорал он, швырнув пластинки, которые держал в руках, и влетел в радиостанцию.
Там тоже пусто. Непонятно, откуда у него появилась уверенность — незачем искать в обсерватории. Ланье на Станции нет. Значит, это были ракеты? Ланье стрелял? Вышел? Зачем? Шел в сторону пропасти!
Неожиданно Пиркс увидел его. Зеленый глаз подмигивал — дышал. А вращающийся луч радара извлекал из тьмы маленькую яркую вспышку в самой нижней части экрана! Ланье шел к пропасти…
— Ланье! Стой! Стой!!! Слышишь?! Стой!!! — орал Пиркс в микрофон, не спуская глаз с экрана.
Репродуктор хрипел. Трески, помехи, ничего больше. Салатные крылышки расходились, но не так, как при нормальном дыхании: шевелились медленно, неуверенно, иногда надолго замирали… Казалось, кислородный аппарат Ланье переставал работать. А яркое пятно на экране было очень далеко: оно лежало в самом низу экрана, По насеченной на стекле координатной сетке до этого места по прямой — полтора километра… Значит, это уже где-то среди вставших на дыбы огромных вертикальных плит под Солнечными Воротами. И оно совсем не двигалось. Загоралось при каждом обороте луча, точно в одном и том же месте. Ланье упал? Лежал там, потеряв сознание?
Пиркс выскочил в коридор. В камеру, наружу! Он уже у двери. Но, пробегая мимо кухни, вдруг заметил что-то черное на белом накрытом столе. Те самые фотографические пластинки, которые он принес и машинально бросил, испугавшись отсутствия товарища. Это его парализовало. Он стоял на пороге камеры со шлемом в руках и не двигался с места.
«Это так же, как тогда. Точно так же, — вспомнил Пиркс. — Ланье готовил ужин и внезапно вышел. Теперь я выйду за ним, и мы оба не вернемся. Люк останется открытым. Через несколько часов Циолковский начнет вызывать нас по радио. Ответа не будет…»
Что-то рвалось в нем: «Сумасшедший, иди! Чего ты ждешь?! Он там лежит! Может быть, его снесла лавина, которая прошла сверху. Ты не слышал, потому что здесь ничего не слышно. Он еще жив, не двигается, но жив, он ведь дышит…»
И все-таки он стоял без движения. Потом вдруг повернулся, вбежал на радиостанцию и начал внимательно разглядывать приборы.
Никаких изменений. Раз в четыре-пять секунд — медленный взмах «мотылька», дрожащий, неуверенный. И вспышка на экране, на краю пропасти…
Он проверил угол наклона антенны. Наклон был минимальный. Она уже не осматривала местность вблизи Станции, а посылала импульсы на предельное расстояние.
Он приблизил лицо к дышащему индикатору, так что тот был у самых его глаз. И тогда увидел нечто удивительное. Зеленый «мотылек» не только разводил и складывал крылышки, но одновременно весь дрожал, словно на ритм дыхания был наложен другой, гораздо более быстрый. Агональная дрожь? Конвульсия? Ланье умирал, а он с полуоткрытым ртом жадно вглядывался в движения электронного огонька — по-прежнему медленные, с наложенным на них другим ритмом. Внезапно, сам как следует не понимая, зачем он это делает, Пиркс схватил кабель антенны и вырвал его из гнезда. Поразительно: индикатор с отключенной антенной, лишенный внешних импульсов, вместо того чтобы стать неподвижным, продолжал…
Все еще ничего не понимая, ошеломленный Пиркс подскочил к пульту и увеличил наклон радарной антенны. Далекая вспышка, оставшаяся под Солнечными Воротами, начала отодвигаться к краю экрана. Локатор выхватывал все более близкие секторы, пока вдруг не появилась другая вспышка, которая была значительно больше и ярче. Второй скафандр!
Это наверняка был человек. Он двигался. Медленно, равномерно спускался вниз, обходя какие-то преграды, поворачивал то вправо, то влево и направлялся к Солнечным Воротам, к той другой, далекой искорке, к другому человеку.
У Пиркса глаза полезли на лоб. Вспышек действительно было две — близкая, движущаяся, и далекая, неподвияшая. В Менделееве было только двое людей — Ланье и он сам. Приборы говорили, что их трое. Троих быть не могло. Значит, приборы врали.
Быстрее, чем он успел все это продумать, Пиркс с ракетницей и патронами был уже в камере. В следующее мгновение стоял на выпуклости купола и раз за разом стрелял сигнальными ракетами, целясь круто вниз, в направлении Солнечных Ворот. Он едва успевал выбрасывать горячие гильзы. Тяжелая ручка ракетницы плясала у него в руке. Ничего не было слышно. Нажимая спуск, Пиркс чувствовал легкий удар отдачи, вырывались полосы огня, бриллиантовая зелень и фонтан сапфировых звезд, а он все палил, не разглядывая красок…
 |
Наконец снизу из бездонной мглы что-то сверкнуло в ответ, и оранжевая звезда, разлетевшись над головой, осветила его и обсыпала, словно в награду, дождем пылающих страусовых перьев. А другая — дождем шафранового золота…
Он стрелял. И тот тоже стрелял возвращаясь. Вспышки выстрелов приближались. Наконец одна из них осветила фигуру Ланье. Внезапно Пиркс почувствовал слабость. Он весь покрылся потом. Даже голова вспотела. С него текло, будто он вылез из ванны. Не выпуская ракетницы, сел, ноги в коленях стали неприятно мягкими. Он свесил их в открытый люк и, тяжело дыша, ожидал Ланье, который был уже рядом.
Вот что произошло. Когда Пиркс вышел, Ланье, занятый в кухне, не смотрел на приборы. Он взглянул на них только через несколько минут. Точно неизвестно, через сколько. Во всяком случае, это должно было произойти тогда, когда Пиркс возился с погасшим рефлектором. Когда Пиркс исчез из поля зрения радара, автомат начал уменьшать наклон антенны и делал это до тех пор, пока вращающийся пучок радиоволн не наткнулся на основание Солнечных Ворот. Ланье увидел там вспышку, которую принял за отражение от скафандра, тем более что неподвижность мнимого человека объясняла показания магического глаза. «Пострадавший» (естественно, Ланье подумал, что это Пиркс) дышал так, словно был без сознания, как будто задыхался. Ланье немедленно надел скафандр и побежал на помощь.
В действительности изображение на экране соответствовало самой близкой из шеренги алюминиевых мачт, той, которая стояла над самой пропастью. Ланье мог бы понять ошибку, но ведь были еще показания «глаза», который, казалось, подтверждал показания локатора.
Газеты писали потом, что «глазом» и радаром заведовала электронная аппаратура, что-то вроде электронного мозга, в котором во время катастрофы, происшедшей с Роже, установился ритм дыхания умирающего канадца, и «мозг» повторял его, этот ритм, когда возникала — «аналогичная ситуация». Это было какое-то подобие условного рефлекса на некоторое определенное состояние входов электрической цепи.
В действительности все было гораздо проще. На Станции не было никакого электронного мозга, только обычный автомат управления, лишенный какой бы то ни было «памяти».
«Агональный ритм дыхания» возникал из-за пробитого маленького конденсатора. Эта неисправность давала о себе знать лишь в момент, когда был открыт наружный люк. Напряжение одного контура оказывалось приложенным к другому, и на сетке «магического ока» возникали «биения». На первый взгляд это напоминало «агональное дыхание». Если же приглядеться лучше, можно было без труда различить неестественное дрожание зеленоватых крылышек.
Ланье шел к пропасти, где, как он думал, находился Пиркс, освещая себе дорогу рефлектором, а в самых темных местах — ракетами. Две их вспышки и заметил Пиркс, когда возвращался на Станцию. Пиркс, в свою очередь, через четыре или пять минут начал сигнализировать Ланье выстрелами из ракетницы. Так кончилась эта история.
С Шалье и Саважем было по-другому. Саваж, возможно, тоже сказал уходящему Шалье: «Возвращайся поскорее», — так же, как это сказал Пирксу Ланье. А может, Шалье спешил, потому что зачитался и вышел позднее, чем обычно. Во всяком случае, люка он не закрыл. Для того чтобы ошибка приборов дала трагические результаты, нужно было еще одно случайное стечение обстоятельств: что-то должно было задержать человека, ушедшего менять пластинки в колодце, так долго, чтобы антенна локатора, поднимающаяся на несколько градусов за каждый оборот, нашла, наконец, алюминиевую мачту над пропастью.
Что задержало Шалье? Неизвестно. Поломка рефлектора? Вряд ли. Они происходят не слишком часто. Что-то, однако, задержало его возвращение на достаточно долгое время, пока на экране не появилась фатальная вспышка, которую Саваж, так же как потом Ланье, принял за скафандр.
Опоздание должно было составить самое меньшее тринадцать минут. Это удалось установить позднее, после неоднократных опытов.
Саваж пошел к пропасти, чтобы искать Шалье. Шалье, вернувшись из колодца, застал Станцию пустой, увидел на экране ту же самую картину, что и Пиркс, и, в свою очередь, отправился на поиски Саважа. Возможно, Саваж, добравшись до Солнечных Ворот, понял, что локатор принимал сигналы, отраженные от металлической трубки, вбитой в скалу, но на обратном пути упал и разбил стекло шлема. А может, и не разобрался в механизме явления, но после напрасных поисков, не сумев найти Шалье, попав в какое-нибудь сильно пересеченное место, упал. Всех этих, подробностей выяснить не удалось. Во всяком случае, канадцы погибли.
Катастрофа могла случиться только на рассвете. Ведь не будь помех, оставшийся на Станции человек мог бы беседовать с ушедшим, даже не покидая кухни. Радиосвязь уничтожила бы все это недоразумение.
Кроме того, катастрофа была возможна только в случае, если выходящий спешил и оставлял люк открытым. Лишь при таком сцеплении событий проявлялась неисправность аппаратуры.
Шалье, естественно, не случайно был найден вблизи от того места, где погиб Роже. Он свалился в пропасть там, где торчал алюминиевый шест, поставленный, чтобы предупреждать об опасности.
Физический механизм явления был тривиально прост: несколько случайностей, радиопомехи и открытый люк.
Гораздо более интересным был механизм психологический. Когда аппаратура, лишенная внешних сигналов, приводила в движение «мотылек» колебаниями внутренних напряжений, а на экране локатора появилось изображение фальшивого скафандра, сначала первый, а потом второй человек принимал это за регистрацию реального положения. Сначала Саваж думал, что видит у пропасти Шалье, потом — Шалье, что видит Саважа. То же самое произошло потом с Пирксом и Ланье.
На такой вывод наталкивало еще и то, что каждый из работавших на Станции прекрасно знал обстоятельства катастрофы, при которой погиб Роже, и помнил как особенно драматическую деталь историю долгой агонии этого несчастного, которую до конца наблюдали на Станции с помощью «магического глаза».
Если уж, как заметил кто-то, и можно было говорить об «условном рефлексе», то его продемонстрировала не аппаратура, а сами люди. Полубессознательно они приходили к уверенности, что непонятным образом несчастье с Роже повторилось, на этот раз выбрав жертвой одного из них.
— Теперь, когда мы знаем уже все, — сказал Таиров, кибернетик с Циолковского, — скажите нам, коллега Пиркс, как вы разобрались в ситуации? Несмотря на то, что, как сами говорите, не поняли механизма явления…
— Не знаю, — ответил Пиркс. В окне сверкала белизна залитых солнцем вершин. Их острия вонзались в густую чернь неба. — Наверное, из-за пластинок. Увидев их, я понял, что поступаю, как Шалье. Но, может, я все-таки пошел бы, не случись еще одна вещь. С пластинками в конце концов могло быть случайное совпадение. Но у нас должны были быть на ужин омлеты, так же, как и у них в тот последний вечер. Я подумал, что совпадений слишком много, что это больше, чем простая случайность. Эти омлеты, я думаю, именно они нас спасли…
— Открытый люк — последствие приготовления омлетов, повод к спешке, — сказал Таиров, — рассуждали вы совершенно правильно. Но это не спасло бы вас, доверяй вы приборам абсолютно. С одной стороны, мы должны им верить. Без электроники мы бы шагу не сделали на Луне. Но… за такое доверие иногда приходится расплачиваться…
— Это верно, — откликнулся Ланье и встал. — Я должен вам сказать, коллеги, чем мне больше всего понравился мой звездный товарищ. Что касается меня, то с этой головоломной прогулки я вернулся без всякого аппетита. Но он, — Ланье обнял Пиркса за плечи, — после всего, что произошло, поджарил омлеты и съел оба. Этим он меня поразил! Правда, я и раньше видел, что он чрезвычайно положительный человек…
— Какой?! — подскочил Пиркс.
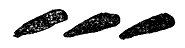 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |