"Степь" - читать интересную книгу автора (Краснов Петр Николаевич)
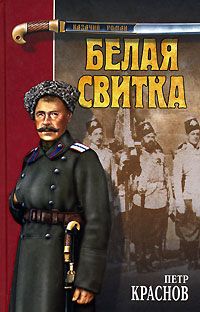 |
1
Степь… Какое короткое слово, а какое широкое понятие изображает! Она раскинулась, плоская и далекая, на многие версты ровная, без балок и возвышений, без кустарника и леса. Синее небо и черно-коричневая земля — куда ни глянь. Торчат там и там сухие колючки, да широкая степная дорога глянцевыми колеями вьется и крутится по степи, без столбов и телеграфа.
Всюду равнина, всюду и везде все одинаково. Синее небо бледнеет к краям горизонта, розовеет, буреет и незаметно сливается с землею, без резкой полосы. Утопает в прозрачной дымке затуманившейся дали.
Блеснула полоска льду. На нее набегают мутно-желтые волны какого-то озерка, речка в глубоком овраге, не замерзшая, но и тихая, покойно течет откуда-то и вливается в озеро. Показались корявые ветлы, обступили дорогу и вошли на грязную плотину, сложенную из земли и навоза. Мостик с грубыми и прочными перилами. Вправо сонная степная речушка, влево озерко.
Насыщенный озоном, пахнущий девственной землею и сухими травами воздух степи, холодный и свежий, обжигающий лицо, стал будто теплее. Пахнуло кизечным едким дымком, навозом, жильем.
Тишина степи, нарушавшаяся только коротким щебетанием серых хохлатых жаворонков, наполнилась гоготанием гусей и криками кур и петухов. Кудлатая, с острою мордою, похожая на волка, собака с лаем набросилась на лошадей и проводила коляску через греблю. В порыве собачьего усердия она обрывалась в грязи, чуть не упала в воду и снова неслась, звонко и весело лая. Здесь так редки посетители! Так редко можно вдоволь насладиться и лаем и скачкой за тройкой добрых лошадей!!
За плотиной тополя. Они росли прямоугольником вдоль жерде вой ограды и скрывали белый низенький домик, стоявший в глубине сада, и ряды корявых и кривых яблонь, посаженных в стройном порядке за тыном.
Левее сада просторный двор, образованный длинными глинобитными коричневыми сараями, крытыми где соломою, где железом, службы, навес, под которым выстроились в дружном порядке коляски, телеги, плуги, сеялки, сенокосилки и веялки, за двором, на грязной земле, истоптанной копытами, вязкой и черной, неподвижные, как изваяния, стоят большие красно-рыжие быки, обросшие длинною зимнею шерстью.
Это зимовник Тополькова, Семена Данилыча. Проезжайте верст двадцать на север по пустынной степи и вы увидите такие же ветлы, и греблю из соломы и грязи, и тополя вокруг сада, так же вдруг пахнет соломенным дымком, загогочут белые гуси, и мохнатая собака проводит с лаем ваш экипаж, и такие же красные волы, как изваяния, дремлют подле двора в черной и липкой густо натоптанной ногами грязи. Это будет тоже зимовник Тополькова, но уже Ивана Даниловича.
Проезжайте двадцать верст к югу и опять та же картина. Только дом побольше, крыльцо со стеклянным балконом, службы просторнее и тополя гуще и выше — это зимовник Полякова Петра Ивановича, а потом и еще в двадцати верстах зимовник и опять Полякова, но уже Николая Ивановича… и так вся степь, такая пустынная, безотрадно глухая и скучная зимою, степь словно море, но море тихое и темное, покрыта маленькими гнездами-зимовниками коннозаводчиков-помещиков.
Ранее погожее утро. Еще и зимы не было и снега не видали, а уже на весну потянуло и в солнечном пригреве как стальные заблестели колеи широко наезженной дороги. Приподнялся было в воздух жаворонок, начал петь любовную песню, да, видно, холодно стало и голубой небесной выси, быстро опустился к серой птичьей стайке хохлаток и побежал с ними вдоль дороги… А потом нее вспорхнули, как по команде, и полетели, весело перекликаясь, прямо на север…
На мосту стоит высокий и худой старик с темным обветренным стенною непогодою лицом, с седыми густыми усами. Это Топольков Семен Данилыч, хозяин зимовника. Он в черной бараньей шапке с алым когда-то, утратившим теперь цвет, верхом и черной бараньей шубе с высоким воротником, откинутым на плечи. На нем смазные мужицкие сапоги, а в руках у него тяжелая палка. Серые глаза из-под густых нависших седых бровей пытливо смотрят в степную даль. Топольков ждет пригона лошадей на водопой из степи.
Вот на горизонте показалась густая колонна. Она вытянулась, развернулась- точно полк кавалерии учился в степи, замаячили конные фигуры калмыков-табунщиков, и быстро надвинулся большой, еще смешанный по-зимнему табун и обступил озеро рыжею массою лошадиных тел, обросших густою и длинною шерстью.
Ожила степь с приходом своих хозяев. Раздалось фырканье, гоготанье жеребцов, ласковые вздохи кобыл, завизжали жеребята, норовя поиграть и ударить друг друга копытом.
К Тополькову подошел его управляющий, такой же высокий, в такой же шапке и шубе, в таких же сапогах с ремешком под коленом; у него лицо без усов и бороды, широкое и красное с узкими косыми глазами, выдающими его монгольское происхождение.
— Истинно лошадиное царство, Семен Данилович, — проговорил он, здороваясь с хозяином.
— Да, с незапамятных времен лошадь здесь водится, — сказал Топольков. — Я сороковой год живу, да до меня на зимовнике сидел Затураев, а до него князь Трубецкой, а там шли зимовники Великого Князя, а до них были графские…
— А еще раньше наши татарские, да сказывают, Семен Данилович, лет двести, а то и триста тому назад здесь дикая лошадь, неприрученная, водилась.
— Эка сказал тоже, — возразил Семен Данилович, — триста лет!
Да мой отец сказывал, что в его времена приходили дикие жеребцы в табуны и отбивали кобыл… Это как железная дорога прошла, да коннозаводчиков много понасело, да пахать машинами стали, да баран и бык пошли — ну вот лошадь-то и посократилась. Не стало ей, значит, свободы и приволья…
Управляющий промолчал. За тридцать лет службы у Тополькова и жизни с ним бок о бок он привык думать с ним одними мыслями и соглашаться с ним во всем. Да и степь не приучает к болтливости. Сама молчаливая она и людей делает молчаливыми. Промолчать часа три, сидя рядом на крылечке, для Тополькова и его управляющего Ахмета Ивановича Курманаева было делом обыкновенным.
Лошадь молчит, да мысли свои соседке передает, так и Тополь ков с Курманаевым умели как-то обмениваться мыслями молча, по лошадиному.
И только, когда начинали они говорить о достоинствах одной лошади перед другой, или вспоминали успехи на выставках, или при сдаче ремонта в кавалерию, они оживлялись и речь лилась, переходя даже в спор, иногда часами. Загорались тогда острым огнем глаза Семена Данилыча, и беспокойные огоньки метались в узких раскосых глазках Ахмета Ивановича.
В лошадях была вся их долгая жизнь, в них были их мысли, их думы, они были продуктом их сознательного творчества!
— А смотри, Ахмет Иваныч, Комиковичи-то и посейчас все вместе держатся. Не смешиваются с другими. Точно чуют, что братья и сестры, хотя и разных матерей, — сказал Семен Данилович.
— Да, и кто бы мог подумать, что от Комика дети такие ладные пойдут. Помнишь, Семен Данилович, как привели его со скачек. Да худой же был, жилы опухшие, да вялый!
— Устанешь, дорогой мой. По два раза в неделю на скачку пускали. Хозяин хотел выжать из него более, чем можно.
— Азарт, Семен Данилыч.
— И то — страсть! Ну, да за то и дешево он нам достался.
— А что, Семен Данилыч, знакомый твой командир полка не писал тебе, каково служат наши лошади на войне?
— Гм, — самодовольно улыбаясь, крякнул Топольков. — Как и писать! Я когда в Черкасском был, письмо получил, вот и забыл сказать. Память то у меня, Ахмет Иванович, прости, стариковская
Писал… Все писал. Ведь к нему премированные попали. Помнишь — две от Калиостро, три конька и одна кобылка от Хваворита, четыре кобылки от Хомера, конек и две кобылки от Калихулы, еще от кого, не упомню, кобылка, светленькая… белогривка…
— От Абеяна, — подсказал Ахмет Иванович.
— Ну вот от Абеяна!.. Да нешто так? Да ведь от Абеяна-то конек был, нет не от Абеяна, а от Абрека, ну, помнишь, ее еще Купавой назвали, на «К» ремонт тогда шел.
— Ах, да красива была.
— Да, на редкость. Такая рубашка была, что думали в Ахтырский (Лошади в регулярную кавалерию комплектуются по мастям. В драгунские полки — гнедые и караковые, в нечетные гусарские — вороные, в четные — серые, 12 Гусарский Ахтырский полк получал лошадей буланых и соловых.) попадет. Нет, попала со всеми, в драгуны.
— И вы их всех видали уже в полку?
— Да всех же! На втором году. Поверишь ли, Ахмет Иванович, еще больше вершка дали. Выше отцов стали.
— Что уход делает, — проговорил Ахмет Иванович.
— Да, гладкие да блестящие стали, какие лошади. «Коневатые» лошади.
— Ну а на войне как?
— Да, пишут, ни австриец, ни немец уйти от них не могут. — Что значит в степной шири родились да выросли.
— И не поедят иной раз, да работают. — ну это-то — голодать им не привыкать стать. Помнишь, Семен Данилович, немец к нам приезжал, вот уж в каком году не упомню. Сказывали, самый дошлый их немец по коннозаводческой части, такой немец, что ну ты и только! Вот уж восхищался лошадьми. Ах как его! Граф Лен… Лем… Мен… Мендорф, что ли?
— Граф Лендорф, — напомнил Топольков. — А на выставке, Иваныч, в Москве! Что было на выставке, как вывели нашу ставку на паддок — двадцать кобылок ремонтного возраста и все, как одна, — рыжие, светлые, червонцами горят, шеи, головки, глаза, ни тебе проточины, ни отметины, сестры родные так одинаковы не будут. Тут англичане, американцы, немцы, французы как обступили, да говорят мне: «Да, что вы их из глины, что ли, по лекалу лепите, что они такие у вас одинаковые». А я, знаешь, и говорю — лепим, говорю, господа немцы, только не из глины, а из земли, из степной земли нашей, целины непаханной, да солнцем могучим приправляю, да ветром, хозяином степ и продуваю, да прокаливаю, чтобы крепче да суше были.
— Да, истинно так.
— Пошли потом в обмер. И подпругу тебе мерили, и охват под коленом — как одна!
— Да, что ж, Семен Данилович, ведь и правда — лепим по лекалу Помнишь — лет двенадцать, а то может быть, и пятнадцать тому па зад, вышел приказ, чтобы, значит, не менее трех вершков ремонт был, ну и дали. Дали и четыре и пять — сколько хочешь!
— А все, Ахмет Иванович, заметь, самая ладная лошадь, кото рая от двух до трех вершков, а что выше — непременно тебе с изьяном каким-нибудь будет лошадь. Уже что-нибудь в ней да не так будет.
— Тоже, Семен Данилыч, помнишь, как кровь потребовали. Ваша, мол, лошадь простая, грубая, подайте кровь, ну и подали…
— Да, Иваныч, не в одну копейку нам кровь-то эта стала! Господи, что кобыл перепортили!! То цыбастые, то тонконогие пошли жеребята, совсем в упадок духа впадать стали, пока направились. Медленное наше дело, Иваныч! Ошибешься часом — годами по правку делать приходится. Одни из наших погнались за аттестатом, да за резвостью. В Англии, мол, так делается — который, мол. жеребчик резвее всех на скачке, тот и производитель отличный, ну а степь-то по своему повернула. Резвость, мол, резвостью, а ты мне и фигуру дай.
— Понимали мы это дело, Семен Данилыч, да скупость мешала. Ведь за жеребца-то раньше мы четыреста да пятьсот рублей плачивали, а тут на те, выньте-ка шесть-семь тысячев, поневоле задумаешься.
— Ну и пораззорился тогда кое-кто.
Табун напился и, весело играя, пошел в степь. За ним замаячили калмыки в малахаях, прикрывавших их красные, обветренные на степном морозном ветру лица лоскутками бараньей кожи.
И снова степь стала черная, безлюдная, пустынная, без единого предмета, без единого живого существа на всем пространстве до самого горизонта…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |