"Угол атаки" - читать интересную книгу автора (Береговой Георгий Тимофеевич)
Чaсть вторая. И еще 4 дня...
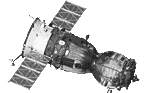 |
Говорят, долгое ожидание притупляет, а то и сводит на нет радость от ожидаемого. Древние римляне выражались на этот счет еще определеннее: «Вдвойне дает тот, кто дает быстро». Получить путевой лист, ведущий в космос, мне удалось не скоро. Но чувство радости от этого не поблекло и не притупилось.
До меня в космосе побывало тридцать два представителя земной цивилизации — не так уж много, если учесть, что на земном шаре три с лишним миллиарда людей. Но это не главное и не определяющее. Я отчетливо понимал другое: каждый космонавт, будь он третьим или тридцать третьим, по-своему все же является первопроходцем. Космический корабль не «Москвич-412» и не ИЛ-62. Обкатать его, как машину или самолет, строго говоря, невозможно, так что ни один космический полет не назовешь «серийным».
К тому же новая техника, как ничто другое, ищет и открывает пути к новейшему, к последнему слову науки и конструкторской мысли. Мне, например, предстояло освоить новую конструкцию космического корабля «Союз», то есть выступить в роли не только летчика-космонавта, но и в какой-то мере космонавта-испытателя. Но любой космонавт, по существу, испытатель, потому что меняются не только типы кораблей, продолжительность полетов и количественный состав экипажей, но и сами поставленные задачи. Стереотипа тут быть не может, а дубли исключаются. Так что по справедливости каждый космонавт пока еще всегда «первый».
Во всех предыдущих запусках имя летчика-космонавта объявлялось непосредственно перед стартом. Первого среди равных до этого момента не было: каждый дублировал другого. На этот раз порядок был изменен: Береговой, Шаталов, Волынов — такова была внеалфавитная очередность названных еще в Москве фамилий, и означало это, что Шаталов и Волынов — дублеры, а преимущественное право лететь предоставляется мне.
Холодный пасмурный день. Аэропорт «Внуково», как всегда, заполнен пассажирами. С ревом прибывают и взлетают самолеты на Баку, Грозный, Киев, Минеральные Воды. Толчея возле справочной. Бортпроводницы успокаивают нервных пассажиров: кто-то из них летит в первый раз и волнуется. В качестве пассажира, а не пилота я тоже лечу на ИЛ-18 впервые и тоже волнуюсь. Рядом со мной Волынов и Шаталов.
Дома я не сказал, что мне отдано предпочтение. До космического рейса еще долгих две недели. А это много. Слишком много. Наши космические врачи строже и беспощаднее вагонных контролеров: если что не так, мигом ссадят тебя на Землю с трапа корабля. Достаточно подхватить в канун старта легкий насморк или любую другую, пусть даже пустяковую, болезнь, так и останешься с занесенной на ступеньку ногой. Дорога, в которую ты столько лет снаряжался, для тебя станет вновь закрыта: вместо первого ты станешь третьим, а вместо команды с наземного пульта управления услышишь успокоительное: «Ну что ж, в следующий раз...»
В следующий... Но мне уже как-никак сорок семь, а космические корабли отправляются пока еще не с частотой летних электричек, да и пассажиров берут не густо. Нет, мне нельзя откладывать сегодня на завтра. Что может быть обиднее, чем после стольких лет подготовки навсегда остаться в звании наземного космонавта? К сожалению, начав покорять космос, мы не успели еще окончательно покорить насморк, оставили за ним право вмешиваться в космические дела.
Однако сожаления сожалениями, а насморк насморком. Единственное, что мне оставалось в то время, так это ждать и надеяться, что микробы и помимо меня найдут себе занятие на стороне.
В Байконуре мои надежды на этот счет подокрепли, а сомнения значительно поубавились. Расположили нас в гостинице «Космонавт». Это современное двухэтажное здание из бетона и стекла, с просторным холлом — зимним садом; уютные одноместные и двухместные номера с телевизорами, телефонами и душем; сквозь широкие окна открывается вид на песчаную равнину.
Однако меня успокоил не вид из окна, а меры предосторожности в отношении космонавтов, начисто избавляющие от лишних, с медицинской точки зрения, контактов.
Нас разместили в отдельном крыле, куда посторонние не допускались. В столовой, где мы поначалу питались обыкновенной земной пищей, обслуживающий персонал носил специальные марлевые маски, а обеденные приборы, которыми мы пользовались, находились под неусыпным контролем гигиенистов. Кроме того, разговоры второстепенной важности мы проводили по телефону, а вход в наше крыло от друзей и знакомых надежно перекрывал несговорчивый часовой. Короче, на нас буквально старались не дышать. И когда перед самым полетом мы встретились с корреспондентами, беседа наша протекала хотя и в дружеской, но непривычной обстановке.
Подсчитано и установлено, что при внушительных покашливаниях и особенно громких восклицаниях микробы, скажем, гриппа, если они у вас имеются, летят на три метра. Однако с учетом темперамента представителей прессы их отсадили от нас метров на шесть. Мы не разговаривали, а как бы перекликались через реку у потонувшего моста. Так оно было хотя и надежно (по санитарной норме), однако не очень удобно для голосовых связок.
Но не подумайте, что меры предосторожности сделали из нас чуть ли не «людей в колбе». Затворничество могло бы вредно сказаться и на психике, и на общей физической подготовке. Мы посещали кинозал, где охотно смотрели не только короткометражные, но и многосерийные фильмы. Рядом с гостиницей находился спортивный городок с бассейном, теннисными кортами и волейбольной площадкой, на которой мы проводили довольно много времени даже в эти насыщенные предстартовые дни.
Общий распорядок дня был для нас в Байконуре таков: 7.30 — подъем, потом зарядка, завтрак, врачебный осмотр и, наконец, поездка в так называемые МИКи — монтажно-испытательные корпуса, где подготавливали к старту космические корабли.
Вживаться в корабль, привыкать к нему космонавт начинает задолго до взлета. В этом он схож с летчиком-испытателем, собирающимся в пробный рейс на очередном детище конструкторской мысли. Мне это было особенно знакомо по прежней работе. Перед тем как подняться в воздух, летчик-испытатель день-другой ходит вокруг машины, как бы налаживая с ней знакомство: зайдет под крыло, постучит ногой по тугим скатам, скажет что-нибудь соответственно обстановке, потом заберется в кабину — посидит, потрогает, присмотрится к приборам.
Иногда говорят: «сроднился с машиной». Для меня это не просто слова. Сколько раз за свою летно-испытательную практику мне довелось испытать это чувство неразрывного единства пилота и машины. Без него нет ни аса воздушного боя, ни испытателя. Но чувство это приходит не вдруг. Найти общий язык с машиной не так-то просто. И прежде чем подняться в небо, стараешься привыкнуть не только к ее особенностям или, скажем, расположению приборов, но и к цвету, запаху кабины, то есть стараешься найти с нею контакт, будто с одушевленным существом.
Надо сказать, что у летчиков-испытателей есть одно преимущество: вживаясь в машину, они могут вырулить на взлетную полосу и опробовать самолет в движении. Пусть хоть и на земле. Космонавт подобной возможности лишен. Облачившись в легкие спортивные костюмы, мы исследуем, ищем общий язык с неподвижным кораблем.
Внешне приборное устройство нашего корабля вроде бы ничем не отличается от тренажера. И все же, если говорить о непосредственном, живом контакте, они похожи не больше, чем восковой слепок на оригинал. Это, конечно, в известной мере субъективное чувство, но к кораблю приходится привыкать заново, и ты должен «попробовать его на зубок», впитать в себя все его «краски и запахи», чтобы почувствовать себя в нем, как дома.
Этим, собственно, мы и занимались на космодроме по нескольку часов ежесуточно.
Немало времени отводилось также работе с бортжурналом. Для каждого летчика-космонавта бортжурнал — это расписанная по пунктам программа полета. Еще до выхода на орбиту космонавт подробно изучает порядок работы и отдыха во внеземном пространстве. Бортжурнал точно определяет, когда наконец поступит с Земли команда идти на посадку. В нем детально расшифрован каждый космический эксперимент. И каждый до старта должен быть мысленно еще и еще раз отрепетирован, или, как у нас говорят, «проигран». Здесь, на Земле, есть время все тщательно и всесторонне продумать. В космосе его не будет, там каждая потерянная, если замешкаешься, минута невозвратима. А потеря рабочего ритма может сказаться на качественном выполнении всей программы.
Вот почему наземной работе с бортжурналом придается такое важное значение.
В самом деле, представьте, что вы отправляетесь в четырехдневное автомобильное путешествие, ну, скажем, Москва — Ужгород без карты и какого бы то ни было знания мест, надеясь, что «язык до Киева доведет». Вообразите, что при этом вам желательно сфотографировать на память кое-какие достопримечательности и запастись сувенирами, не забыв попутно о пропитании и ночлеге. (Не будем уточнять, но наша задача была несколько сложнее.) Так вот, отправившись из Москвы как бог на душу положит, без всякого представления о времени, пространстве и бензоколонках, ночевать вы будете на камнях достопримечательных развалин, а сфотографировать их не сможете по причине темноты; завтракать придется в чистом (хорошо если до уборочной) поле, а бензин вы будете вымаливать у грузовиков методом автостопа, который на участке Сухиничи — Жиздра не особенно-то понимают. Думать о сувенирах в таких условиях вам просто вряд ли захочется, и единственное, что вы привезете с собой на память, так это твердую убежденность, что, не изучив маршрута, отправляться в дорогу нельзя. И если после первого авторалли «на авось» ваша машина окажется, как ни странно, целехонькой, вы можете повторить свое путешествие уже на разумных началах, с учетом горького опыта, то нам, космонавтам, на ошибках учиться не рекомендуется, да и пословица «Повторение — мать учения» годится для нас только пока мы на Земле. Оттого и штудируем мы две недели наш бортжурнал, мысленно «проигрывая» много раз каждую мельчайшую деталь будущего полета, чтобы захватить с собой в космос в виде неизбежного «багажа» лишь то, что предусмотреть и предотвратить на Земле практически невозможно.
Кстати, работа с журналом не просто зубрежка, но и творческий поиск. В моем полете, например, была запланирована сложная фотосъемка. Одну и ту же точку Земли надо было запечатлеть на пленке, пользуясь двумя разными светофильтрами. Когда мы с дублерами проигрывали этот вариант по бортжурналу, то убедились, что время, которое уйдет на смену фильтров, не позволит произвести съемку так, как это задано программой. Как известно, время — фактор постоянный. Значит, надо было или отказаться заранее от уже запланированного задания, или искать какой-то выход.
В итоге был создан комбинированный фильтр, позволявший сделать два снимка и быстро и качественно, то есть в полном соответствии с задуманным. Ну, а если бы мы столкнулись с этой проблемой не на Земле, а в полете?
Это только один пример того, что дает космонавту работа над бортжурналом. На практике такое встречается гораздо чаще. Кроме того, бортжурнал должен рекомендовать и предусматривать варианты, как вести себя в непредвиденной обстановке, то есть служить не только путеводной нитью, но и являться экстренным советчиком в критической ситуации. Ведь «языка», который хотя бы «до Киева довел», в космосе не встретишь...
День за днем мы вживались в корабль и совершали заочное путешествие по орбите, руководствуясь заданиями, заложенными в бортжурнале. И перед стартом мы могли работать с каждым прибором, что называется, почти «вслепую». Но это полдела. Появилось и нечто другое: спокойное, уверенное, деловое состояние. Ежедневное общение с кораблем помогло снять неизбежную перед прыжком в неведомое стрессреакцию: еще не поднявшись в космическое пространство, мы как бы свыклись с полетом в рабочем порядке, мысль о нем стала для нас привычной.
* * *
По традиции, незадолго до старта в Байконуре проводится встреча космонавтов со стартовой командой, со всеми, кто так или иначе участвует в подготовке корабля к полету. Этим как бы отдается дань уважения большому коллективу, который снаряжает космонавта в путь и обеспечивает кораблю как точный выход на орбиту, так и возвращение на родную Землю. К сожалению, их имена столь же малоизвестны широкой публике, как в кино фамилии звукотехников, художников, костюмеров, не говоря уже об изобретателях пленки и конструкторе съемочного аппарата. Публика акцентирует внимание на исполнителях главных ролей. Но нам, космонавтам, имена тех, кто обеспечивает надежность космического рейса, бесконечно дороги и близки. Доля их ответственности неизмеримо больше тех почестей, которые мы им пока в силах оказать. Но они не чувствуют себя в обиде. В предстартовые дни весь космодром живет одной мыслью, одной заботой — полет! И пульс каждого, кто причастен к запуску корабля, бьется как бы в унисон:
— Пять, четыре, три, два... один!
Наступило двадцать пятое октября. Согласно программе в этот день должен был стартовать беспилотный корабль «Союз-2» — копия «моего» «Союза-3», только без летчика-космонавта на борту. Таким образом, мне выпадала редкая возможность посмотреть, как я «полечу», со стороны.
До поры до времени ракета и корабль хранятся в специальном ангаре МИКа. Незадолго до запуска их стыкуют и рано утром везут к стартовому столу.
Когда в зыбком предрассветном мареве по степи медленно и плавно плывет серебряная ракета, кажется, что это сказочный призрак «Наутилуса», вышедшего из моря на сушу. Незабываемое, фантастическое зрелище! И тебя невольно охватывает чувство гордости за сегодняшнего человека-творца, воплотившего в жизнь многие смелые замыслы писателей-фантастов.
Теперешняя наука развивается не путем медленной эволюции, а стремительным, направленным, революционным взрывом. Меняются и ломаются сами понятия о технических возможностях; мечта потеснилась, уступая место реальности. Современные «наутилусы» ходят под многометровыми льдами Ледовитого океана. Гиперболоид инженера Гарина называется просто лазер. На Луну летают без пушки да еще посылают туда умные механизмы, управляемые с Земли.
Сегодня фантасту и труднее и легче, чем Жюлю Верну. Легче, потому что во времена этого замечательного писателя уровень науки и техники не шел ни в какое сравнение с теперешним. Материальная, так сказать, «земная», база тогдашних сочинителей была слишком слаба для полета фантазии, обращенной в будущее. И не случайно иллюстрации к фантастическим книжкам XIX века изображали летательные аппараты будущего столетия в виде парусников с винтами на мачтах. Теперь же, опираясь на выдающиеся достижения научной мысли, писатель-фантаст может предначертать аппараты будущего с достаточной приближенностью к оригиналу. Вот, к примеру, писатель Казанцев задолго предугадал принципиальную конструкцию нынешнего лунохода и «ошибся» лишь в таком элементе, как гусеничная передача. Но это уже деталь, а не парусник на воздушных винтах.
Но, с другой стороны, нынешнему фантасту и труднее. Поток научной информации стал слишком велик и многообразен. И если не уследишь за течением передовой научной мысли, можешь оказаться на бобах: пока потихонечку сочиняешь новый литературный «Наутилус» для современного и чуть обновленного капитана Немо, на заводе уже закончат клепку очередного подводного гиганта или проведут его испытания. Возможно, такие «бобы» пугают отдельных фантастов, и они подаются из физиков в лирики, то есть бросаются в поэтические крайности: предлагают в своих сочинениях зашвырнуть на Луну, чтобы не путались под килями, айсберги Антарктиды и создать тем самым на нашей спутнице искусственные моря и курорты. Не спорю, читателя такая задумка захватит своей привлекательностью, и он забудет, что айсберги и на Земле еще не наловчились буксировать, несмотря на острую нехватку в некоторых странах пресной воды. Не вспомнит он и о том, что лед на Луну пришлось бы доставлять с помощью ракет по цене золота — килограмм за килограмм. Не знаю, может, лунные курорты себя и окупят. Во всяком случае, сковывать творческую фантазию я отнюдь не собираюсь и не хочу: мечта тем и отличается от действительности, что не имеет реальных границ. Однако мне кажется более предпочтительной фантастика, которая не столько «плавает» в искусственных морях, сколько пытливо, дерзко, с самым неожиданным заглядом предугадывает будущее на основе новейших научных гипотез и открытий.
Не надо бояться, что такая фантастика будет слишком приземленной. Ей такая опасность не угрожает, дерзкий полет мечты всегда опередит деловую практику. Изобретатель, конструктор, работая над своим детищем, как правило, преследует локальную цель, ориентирует себя на строго заданную, а порою и определенную заказом задачу. Сфера побочного использования его изобретения, а такое «побочное» может оказаться потом невероятно важным, зачастую туманна не только для широкой публики, но и для самого ученого или создателя. Изобретатель колеса, как вы понимаете, и в уме не держал автомобиль, турбину электростанции, центрифугу. Ему и в голову не могло прийти, что его изобретение послужит при подготовке человека для полета в космос. Он и до простейшего велосипеда еще додуматься не мог. И это вполне понятно: новое часто рождается раньше, чем создается реальная потребность для его широкого всестороннего использования.
Примеров тому за свою историю человечество накопило более чем достаточно. Когда был создан Гуттенбергом печатный станок, работать над его усовершенствованием, чтобы запустить, так сказать, «в серию», посчитали нецелесообразным. Общество не усмотрело в этом никакой надобности, поскольку в тогдашних условиях удовлетворить редкого «просвещенного читателя» могли и обыкновенные переписчики, а предвидеть распространение грамотности и появление газет в силу консерватизма мышления никто не сумел. Примерно то же самое отношение было проявлено и в более близкие нам времена, когда Эдисон изобрел такую «диковину», как телефон. На запрос, насколько полезно и применимо данное новшество, главный инженер министерства почт и телеграфов Англии ответил:
— Американцам, может быть, и нужен телефон, а нам нет. У нас достаточно мальчиков-посыльных.
Такова была изначальная судьба многих изобретений, потому что для перспективной оценки нового человеку нужно обладать незаурядной фантазией, гораздо большей, чем у чиновника британского министерства почт и телеграфов.
Но кому же и обладать подобной фантазией, как не фантастам? Ведь многие из них пришли в литературу из стен научно-исследовательских институтов и научных лабораторий. Им, как говорится, и карты в руки: гадайте самым смелейшим образом, как, для чего, с какой, пусть самой неожиданной и трудновообразимой на первый взгляд, целью можно использовать уже изобретенное и воплощенное.
Если фантаст дотошно описывает прелести лунного курорта, этим он вряд ли подтолкнет ученых и практиков на усиленные изыскания купальных скафандров. Но в его силах примыслить, примечтать десятки вариантов по использованию хотя бы того же лазера, которым сегодня и оперируют сетчатку глаза, и нащупывают луноход на кратерных пространствах нашей спутницы.
Что нового, пока не додуманного могут дать человечеству искусственные спутники Земли? Для чего могут послужить завтра наши пилотируемые корабли? Тут поистине космические просторы для фантазии. Фантазии, которая не только разгорячит воображение читателя, но и невольно послужит стимулом для научных поисков в направлении, подсказанном догадкой или гипотезой писателей, работающих в жанре фантастики. К слову сказать, одна из, если так можно выразиться, равноправных половин этого литературного жанра носит эпитет не просто фантастики, а научной фантастики. Научной! А это, видимо, отнюдь не то, что принято понимать под идиомой «на воде вилами».
Однако пора от фантастов и фантазии вернуться к реальности.
...Электровоз тянет ракету неторопливо, бережно, а мы, космонавты, сопровождаем ее до самого стартового стола и наблюдаем, как она поднимает «голову», гсловно примеряясь к прыжку в небо. Ракета замерла, как бы вытянувшись по вертикали. Началась заправка.
Утро в тот день выдалось солнечное, и по мере заправки ракета покрылась легкой папиросной дымкой, потом клубами пара, и по всему корпусу выступил густой ослепительный иней. Из серебряной она стала белоснежной, словно ее забинтовала липкая зимняя пурга.
Корабль «Союз-2» отправляется в рейс без рулевого. Капитаны и штурманы космоса будут управлять им прямо с Земли. Позже к нему навстречу должен выйти его двойник, «Союз-3», но уже с человеком на борту, и они будут вместе маневрировать в океане, имя которому — космос.
С точностью до миллисекунды отстукивают электронные часы. На стартовой площадке ни души. Корабль и ракета.
Три, два, один... старт!
Иней посыпался с ракеты пластами, словно с елки под ударом топора. Ракета неторопливо, будто прощаясь с Землей, снялась со стартового стола и, помедлив еще несколько мгновений, пошла вверх, быстро набирая скорость, чтобы стремительно уносящейся кометой растаять в глубине неба.
«До скорого свидания, «Союз-2»! До завтра! — мысленно проводил я ее в путь. — Завтра — мой день».
* * *
Говорят, что главное, самое важное событие жизни — кульминация судьбы переживается как-то по-особенному остро и ярко, всей силой чувств и души. Может быть... Только вот, как наперед знать — самое ли оно важное, переживаемое в тот или иной момент событие, какая ему в последнем, итожащем жизнь счете цена? По-моему, будущее богаче любого прошлого: ведь прошлое — это то, чего ты уже достиг, чего добился. К прошлому ничего не добавишь. А будущее — всегда новые возможности, новое поле деятельности для накопленных сил. Кто знает, кого и что ждет впереди!..
Меня жизнь приучила считать всякий раз самым важным, самым главным то, что еще не сделано. Когда-то это был первый пробный самостоятельный полет на У-2 в аэроклубе, затем зачисление в летное военное училище, потом пикирующий на вражескую цель штурмовик, еще позже — фронтовое партийное собрание, на котором решалось, достоин ли я звания коммуниста, потом... Словом, всего не перечислишь: жизнь, если от нее не прятаться, не замыкаться в собственной скорлупе, щедра на события. И основное тут, конечно же, не в самой их оценке — кульминация ли судьбы или еще нет; суть в другом, в том, чтобы каждое из них уметь воспринимать как самое главное и самое важное. По крайней мере, до тех пор, пока оно не останется позади. Жить всей силой чувств и души хорошо не разово, а по возможности постоянно; жизнь — это масса всего прожитого времени, а не одни только часы «пик».
Так или иначе, но утро 26 октября 1968 года началось для меня, как, впрочем, и все эти дни, не какими-то необыкновенными эмоциями и переживаниями, а звонком будильника. Стрелка стояла на половине восьмого, старт был назначен на 11.34. Впереди целых четыре часа...
И самое главное, самое важное заключалось на этот раз именно в том, чтобы не растратить из них ни одной минуты на расслабляющее самоуглубление и лишние переживания, а следовать графику.
Все как всегда. Физзарядка, медосмотр, завтрак...
«Обедать буду уже в космосе», — подумалось мне, когда входил в столовую... Впрочем, согласно тому же графику на «космический стол» меня перевели заранее, за три дня до старта.
Еще полгода назад в Центре по подготовке космонавтов кто-то предусмотрительно позаботился выявить наши индивидуальные гастрономические склонности; теперь я не без удовольствия убедился, что космическое меню составлено в соответствии с высказанными тогда привязанностями и вкусами. Печеночный паштет, творожная паста с изюмом и сок из свежей, будто только что собранной с куста, черной смородины, из которых состоял мой последний — если ничего не случится за эти четыре часа — земной завтрак, ничуть не утратили своих качеств от того, что были «сервированы» в виде невзрачных на вид тубов из металлической фольги.
Правда, забегая вперед (а в этой, второй, части книги мне, судя по всему, делать это придется не один раз), следует сказать, что я оказался последним из тех, кому пришлось иметь дело только с тубами; вскоре было решено от них там, где можно, отказаться. Уже Шаталов, а вслед за ним Волынов, Елисеев и Хрунов, стартовавшие через каких-то два с небольшим месяца после меня, смогли наслаждаться в космосе обыкновенной земной пищей.
Что там ни говори, а человек держится за свои привычки. Да и обед из пастообразной телятины или перетертой, вроде манной каши, бараньей отбивной не повышает аппетита.
Но имелась и еще одна, пожалуй, гораздо более существенная причина — политика дальнего прицела. При длительных космических полетах — а именно к этому и устремлено человечество — «пастообразие» космического стола неблагоприятно сказалось бы на человеческом организме. Все хорошо лишь в меру: в том числе и диета, в каком бы она ни явилась виде. Человек со дня своего рождения живет в мире бессчетных и самых разнообразных нагрузок, поэтому зубы должны кусать и жевать, а мышцы желудка перетирать пищу — на излишнюю в этом смысле «опеку» они в конце концов откликнутся забастовкой. Словом, если глядеть в будущее, задачу следовало формулировать так: не космонавта нужно было приспосабливать к условиям невесомости, а невесомость подчинить космонавту. Так ее и сформулировали, так ее и решают. Не оптом, конечно, постепенно, мало-помалу...
Что же касается приятной необходимости человека присаживаться время от времени к столу вооруженным ложкой и вилкой, то, как я уже говорил, все, кто стартовал в космос после меня, если не ложки, так вилки с собой с Земли захватить не забыли... Дело всего-навсего свелось к способам упаковки и расфасовки. Годился любой, лишь бы он исключал возникновение опасных при состоянии невесомости крошек. Хлеб — так выпеченный такой порцией, чтобы не откусывать, а отправлять всю булочку в рот целиком; сосиски — пожалуйста, зацепи вилкой одну, а остальные пусть дожидаются своей очереди в целлофановых гнездах... Словом, все, кроме крошек, крошки, так же как и металлические стружки и пыль, которые могут остаться в корабле после монтажных работ, начисто исключаются. Крошки в кабине летящего космического корабля — ЧП; каждая из них может вывести из строя какой-нибудь сложный и тонкий прибор, стать причиной неполадки жизненно важной системы. На Земле крошки — просто сор, в условиях невесомости они — «свободно парящие неуправляемые объекты»... Потому-то до поры до времени и считалось за благо лишний раз подстраховаться.
Впрочем, меня трапезы с помощью тубов ничуть не смущали, не страдал от этого и мой аппетит. Тем более что полет мой не был рассчитан на столь длительное время, как, скажем, состоявшийся двумя годами спустя полет Николаева и Севастьянова, которые пробыли в космосе почти три недели. Мне предстояло прожить на орбите всего-навсего каких-то четверо суток — слишком короткий срок, чтобы всерьез прочувствовать непривычную для Земли «сервировку» космического стола...
Позавтракав, я отправился взвешиваться. Весы показали 80 килограммов 200 граммов. Корабль же весил несколько тонн. При таком соотношении, подумалось мне, пожалуй, не будет особой беды, если я увеличу свой полетный вес еще граммов на двадцать-тридцать...
Дело в том, что по традиции космонавты обычно возвращались на Землю с сувенирами. Кто откажется сохранить на память какой-нибудь пустячок, освященный, так сказать, в глубинах космоса? Но если бы, скажем, я согласился выполнить в этом смысле просьбы всех своих друзей и знакомых, «Союз-3», на котором мне предстояло в тот день стартовать, вряд ли сумел бы оторваться от стартового стола. К счастью, на этот счет существовали строгие правила, и мне в качестве сувениров вручили небольшую коробочку со значками, выпущенными в те дни в честь пятидесятилетия комсомола. Вручил их мне представитель ЦК ВЛКСМ, вручил согласно правилам и разрешению руководителей полета.
Не знаю, сколько весила коробочка с юбилейными значками, но «контрабанда», которую я все же рискнул захватить с собой тайком в космос, потянула- бы не более двадцати-тридцати граммов — это были часы моего брата, обыкновенные наручные часы отечественной марки «Победа». Насколько мне известно, генерал-лейтенант Михаил Тимофеевич Береговой до сих пор сверяет по ним время — четверо суток их пребывания в космосе не уронили высокой репутации тружеников 2-го Московского часового завода.
Но часы, каюсь, оказались не единственным моим «личным» сувениром. Существовала еще телекамера. Это была переносная портативная камера, с помощью которой согласно программе полета предстояло провести первые в истории телевизионные репортажи с борта космического корабля. Возвращать на Землю ее не предполагалось. После завершения полета ей надлежало остаться в орбитальном отсеке и сгореть вместе с ним, когда тот войдет в плотные слои атмосферы.
Первая телекамера, которой суждено осуществить первые репортажи из космоса!.. Предать огню такой сувенир было бы просто грешно... И вот еще за несколько дней до старта мы вместе с инженерами, занимавшимися центровкой кабины корабля, тщательно обсудили, как изменится плечо и момент сил, если перенести телекамеру в то или иное место моей посадочной кабины, — словом, все те возможные последствия, которые могли бы возникнуть при попытке ее спасти. Цифры отклонения оказались настолько ничтожными, что ими смело можно было пренебречь.
В итоге уникальная в своем роде телекамера, совершив шестьдесят четыре витка вокруг земного шара и проведя несколько передач из космоса, вернулась в качестве сувенира вместе со мной на Землю, где с дарственной надписью «От космонавтов» мы и вручили ее Главному конструктору корабля «Союз».
С остальными — «законными» — сувенирами все вышло так, как и намечалось заранее. Коробку с юбилейными значками я вскоре после приземления передал первому секретарю Центрального Комитета ВЛКСМ Евгению Михайловичу Тяжельникову.
Но все это после приземления. А пока что до старта оставалось еще около трех часов. Пришла пора собираться в дорогу. Оглядев последний раз комнату, где мы с Шаталовым и Вольтовым провели последнюю ночь перед стартом, я захватил вместе с бортжурналом свои личные вещи и плотно притворил за собой дверь...
До стартовой площадки, где поджидал подготовленный к полету «Союз-3», было всего несколько километров. Тем не менее автоколонну нашу, помимо «техничек» и машин ГАИ, сопровождало несколько запасных. Любая случайность многократно подстраховывалась: заглох двигатель или, скажем, внезапно лопнула покрышка на колесе — да мало ли! — бывает, что и на ровном месте спотыкаешься! — ничто все равно не сорвет графика: график — это закон. Старт должен состояться в заранее рассчитанное и назначенное время.
Потому-то так тщательно и снаряжена движущаяся к стартовой площадке автоколонна. В машинах никого лишнего: дублеры, врачи, инженеры-специалисты. И конечно, ни жен, ни родственников. Космонавт не пассажир теплохода или поезда дальнего следования: прощальные объятия родственников для него пока что не предусмотрены. В путь его провожают лишь товарищи по профессии.
За обочиной шоссе тянулась унылая, грязно-пыльного цвета степь: порывы холодного осеннего ветра перекатывали по ней копны травы перекати-поле и серые высохшие комочки земли... «Земля! — думал я. — Земля... — И снова: — Земля...» Казалось, слово это, такое простое и такое обычное, сейчас было мне дороже всех остальных; оно приковывало меня, не выпускало из своих чар... Земля... Сейчас мне не важно, как она выглядит, какого она цвета, мягкая ли на ощупь или, наоборот, шершавая, жесткая, колючая, теплая или холодная, иссохшая, рассыпавшаяся в пыль или влажная, напоенная росой или дождиком; сейчас земля для меня, любая земля — Земля, дом всех людей и мой дом, который мне скоро, очень скоро предстоит покинуть...
Нет, эти чувства, разумеется, не были навеяны ни страхом, ни тем, что называют дурным предчувствием. Меня не раз спрашивали — и до полета и после, — какую роль сыграли в моей предстартовой подготовке воспоминания о гибели Комарова, как они сказались на моем душевном состоянии. Ведь Комаров погиб во время первого испытательного полета корабля «Союз»; мне же, дескать, предстояло поднять в космос второй...
Что же, вопрос резонный. Внешне все обстояло именно так. Но только внешне. Той внутренней связи, того подтекста, который явственно прощупывался в самой уже постановке вопроса, сам я на деле не ощущал. Память о замечательном человеке, каким был Владимир Михайлович Комаров, естественно, не раз овладевала моими мыслями, но не тревогу за себя испытывал тогда я, а боль и простое человеческое горе.
В те апрельские дни 1967 года, когда Комаров вторично поднялся в космос (первый раз это было в октябре шестьдесят четвертого на корабле «Восход»), я в числе других дежурил за пультом наземного управления. Полет протекал успешно, в полном соответствии с программой, и ни у кого из нас не было сомнений в благополучном его исходе; катастрофа произошла внезапно, буквально в последние минуты перед приземлением — запутались стропы парашютной системы.
Надо сказать, что в то время и без того ходило много толков о трагедии, разыгравшейся тремя месяцами раньше на мысе Кеннеди: подготовленный там к старту корабль даже не успел оторваться от Земли — в кабине неожиданно вспыхнул пожар, и все трое находившихся в ней американских летчиков-космонавтов — Гриссом, Уайт и Чаффи — погибли. Там испытывался первый корабль новой серии — «Аполлон».
Стоит ли удивляться, что нашлось немало людей, для которых лежащая на поверхности аналогия стала как бы основой для пессимистических выводов и прогнозов. Но подобные взгляды, повторяю, отражали лишь внешнюю, формальную сторону дела. Большинство из тех, кто непосредственно участвовал в осуществлении космических программ, видел вещи в их истинном, отнюдь не окрашенном в сколько-нибудь мрачные тона свете. Мы хорошо знали свою технику и верили в нее.
Пожалуй «вера» здесь даже не то слово; правильнее было бы говорить об уверенности. Конечно, при испытаниях новой техники стопроцентной гарантии не бывает и быть не может: риск является неизбежным элементом профессии испытателя. Несмотря на многократные проверки и самую тщательную подготовку, всегда возможна какая-нибудь случайность или стечение целого ряда неблагоприятных обстоятельств: все предусмотреть невозможно. Так было всегда, и, думается, так оно всегда и будет...
Однако работа есть работа, и человек, избравший профессию испытателя, заранее готовит себя к связанным с нею риску и неожиданностям. Готовность же эта как раз и основана не только на личном мужестве, но прежде всего на уверенности в той технике, с которой работаешь, с которой имеешь дело.
Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мужество включает в себя готовность к риску, но не освобождает от сопутствующего ему чувства тревоги. И лишь знание, твердое, прочное знание самой техники вместе с вытекающей отсюда уверенностью в ней, очищает эту тревогу от всего неоправданного, привнесенного, не относящегося к существу дела, ставя тем самым нравственную готовность к риску на прочный фундамент, заложенный в самом сознании. Если же не доверять технике, никакое мужество не поможет: не веря в успех, трудно на него и рассчитывать, ждать от себя, что называется, чистой работы.
Фронт и шестнадцать лет работы испытателем помогли мне прочно усвоить эту истину. Стремление разобраться, изучить возможности и особенности той или иной машины, с которыми приходилось иметь дело, не раз выручало меня в сложных ситуациях. Случались и эмоционально схожие с той, о которой идет речь.
Однажды — это было еще во время войны — эскадрилье, которой я тогда командовал, предстояло взлететь с аэродрома сразу же вслед за звеном тяжелых американских бомбардировщиков, которые тогда совершали так называемые «челночные» операции по бомбежке военных объектов фашистов. Выруливаем на старт, и вдруг первый из «бостонов», едва оторвавшись от полосы, с грохотом взрывается прямо у нас на глазах. За ним пламя охватывает второй, третий... За какой-то десяток секунд несколько машин превратилось в пылающие костры на земле. Не зная еще, что, собственно, произошло, даю газ — так и взлетали через эти костры... Что бы там ни было, думал я, мои штурмовики сами по себе в воздухе просто так не взрываются...
Впоследствии нам рассказали, в чем было дело. Бомбы, подвешиваемые под крылья «бостонов», предварительно окрашивались изнутри, чтобы заливаемый туда жидкий тол не мог вступить в химическую реакцию с их металлическими каркасами. Видимо, краска в одной из бомб где-то отслоилась, не успевший еще застыть тол соприкоснулся с металлом, начинив бомбу детонирующими от вибрации пирокситами, и та взорвалась, едва бомбардировщик оторвался от полосы. Остальные машины загорались в воздухе друг от друга.
Но в момент взлета мы, конечно, ничего этого не знали, мы видели только одно: впереди нас, в конце полосы, рвутся неизвестно отчего одна за другой боевые машины...
Примеров таких можно бы вспомнить и еще, но, думаю, для того чтобы обосновать мою мысль, этого достаточно. И сейчас, перед стартом, сидя в машине и глядя с каким-то щемящим чувством в окно на перекатываемые порывами ветра комочки сухой земли и пучки травы перекати-поле, я, повторяю, не сомневался ни в себе, ни в технике. Что же касается самого чувства, заполнившего вдруг на минуту до краев душу, просто это была хотя и естественная, но непривычная пока для человека грусть расставания с Землей. С Землей, а не с тем или иным ее географическим участком — деревней, городом, страной, наконец. И еще это было проникновением в само понятие Земля, ощущение его не только умом, но и сердцем, всем человеческим существом; так же, как когда-то, еще в стенах сурдокамеры, это произошло с Тишиной и Одиночеством...
* * *
Я не был новичком на космодроме, мне уже доводилось провожать в космос других, поэтому я знал, что те, кто сейчас едет вместе со мной в машине, догадываются о том, что происходит у меня в душе. Я знал, что в таких случаях обычно стараются разрядить обстановку, сгладить поднявшуюся из глубин сознания волну эмоций, вернуть мысленно уже стартовавшего космонавта «назад на землю». А что тут может быть лучше дружеской шутки, какого-нибудь незамысловатого, но забавного розыгрыша!
Поэтому меня нисколько не удивило внезапное предложение заверить своей подписью прямо тут же в машине какой-то «документ», исполненный крупной, с замысловатыми росчерками и завитушками славянской прописью. Не задумываясь, я охотно включился в игру. «Однако игра игрой, — мелькнуло у меня в голове, — а документ документом. Не худо бы, перед тем как подписывать, прочитать...»
Но, кроме начального, выведенного особенно крупными, а потому сразу бросавшимися в глаза буквами слова «расписка», больше прочесть мне так ничего и не удалось. Пообещав, что я смогу ознакомиться с текстом в самом скором будущем, на меня насели со всех сторон, затормошили, закидали шутками, неожиданными вопросами и, не дав времени опомниться, буквально вырвали из рук мою подпись. Последнее, что я успел сообразить в поднявшейся суматохе, что «документ» оказался составленным в двух экземплярах; во всяком случае, край копирки я разглядел. Но для дальнейших расследований уже не хватило времени: мы прибыли на место.
Гигантская, высотой в многоэтажный дом, ракета стояла окутанная белесым колеблющимся маревом. Казалось, она вот-вот оторвется от стартового стола, чтобы, порвав оковы земного тяготения, навсегда уйти в бездонную высь; и только сомкнувшиеся вокруг нее стальные клещи массивных ферм обслуживания еще удерживают ее на земле. Зрелище это — я его видел уже не раз! — вновь потрясло меня до глубины души: техника, созданная руками человека, будто обретала свободу и начинала жить своей собственной, самостоятельной жизнью. Во всем этом невольно хотелось видеть что-то от нереального, от фантастического... И все же это была действительность — космический корабль «Союз», подготовленный к старту, чтобы выполнить разработанную и утвержденную программу. Программу, в которой мне, как говорится, предстояло принять самое непосредственное участие.
Через несколько минут я, давно уже переодетый в полетный костюм из тонкой, но плотной шерсти (гидро- и теплозащитный костюмы лежали упакованными в корабле), докладывал председателю Государственной комиссии, что готов к отлету.
Последние секунды на земле... Не на Земле — до отлета еще два часа! — а на земле с маленькой буквы, на серой, высохшей земле Байконура, скрытой сейчас от моих глаз плотным слоем бетона...
Несколько шагов, и вот я уже у лифта... Последние напутственные слова провожающих вроде обычного «ни пуха ни пера», со столь же обычным в ответ «к черту!», и лифт возносит меня на самый верх, к кабине космического корабля...
Кабина корабля... Мое рабочее место и мое жилище на четверо суток, которые предстоит прожить в космосе... Герметизируется входной люк... Все...
Теперь я один. Один человек, отрезанный от всего остального человечества! Песчинка, отторгнутая от безбрежных песков; капля, отъединившаяся от океана... Три с половиной миллиарда людей остаются на Земле; один из них покидает ее, чтобы их волей и от их имени прорваться в космос... 3 500 000 000 и 1...
«Вот оно, Одиночество! — пронизывает меня мысль. — Вот оно, начало Одиночества!»
Скорее это даже не мысль, скорее предчувствие ее, предвестие, которое длится какой-то короткий миг и тотчас же отступает.
Я оглядываюсь вокруг: все как всегда, все привычно, знакомо; все так, как уже было сотни раз за долгие две недели предварительных тренировок на космодроме.
Великая вещь — вживаемость!
Я улыбаюсь про себя. Я усаживаюсь в кресло летчика-космонавта — в мое кресло...
На пульте управления приступили к циклу подготовки. Знаю: он будет длиться еще целых два часа. Но я знаю также и то, что с какого-то момента начнется необратимый процесс, стартовая площадка обезлюдеет, возле ракеты не останется ни души; начиная с этого момента уже никто ничего не может изменить. Космонавту — что бы ни случилось! — уже не дано покинуть корабль: только старт, только пуск!..
Но пока продолжается цикл подготовки. Со мною поддерживают двустороннюю связь, за мной, как и тогда в сурдокамере, наблюдают по телевидению. Там, на командном пульте, знают, что нервное напряжение космонавта в эти минуты растет; растет и будет неизбежно нарастать до того самого момента, когда в ракете начнется необратимый процесс и включатся электронные часы — только тогда, в эту предельно насыщенную эмоционально для летчика-космонавта секунду, натянутые до предела нервы отпустит и наступит сброс. До нее полет еще можно отменить, после — уже нет.
Но секунда эта и нервная разрядка, связанная с ней, еще не пришли. Поэтому меня пытаются отвлечь, ободрить дружеским словом, шуткой... Неважно, удачна ли сама шутка или нет; важно, что с ее помощью поддерживается эмоциональный контакт, восстанавливается ощущение, что космонавт не одинок, что за него болеют, переживают, радуются, что он участвует вместе с остальными в одном общем деле... А вместе с тем с земли продолжают внимательно следить за всем, что происходит в кабине. Нервное возбуждение космонавта может привести к ошибкам. В таком случае ему вовремя, тактично, но настойчиво напоминают: сделай то-то, проверь то-то... Словом, нервы нервами, а работа работой...
«Как перед боем», — думаю я. И на душе становится легче. Я жду команды.
— Ключ на старт!
Пошли электронные часы. Пуск ракеты рассчитан с точностью до третьего знака секунды.
Автоматика «опрашивает» двигатели: как давление, температура, словом, все ли в порядке?.. Вместе с автоматикой те же вопросы мысленно задаю себе и я сам...
Вместо ответа чувствую легкий толчок, за ним еще один — это начали расходиться фермы. Сейчас мне, конечно, их не видно, вообще ничего не видно: кабина корабля наглухо закрыта аэродинамическим колпаком — при взлете он примет на себя силу сопротивления атмосферы. Но высвобождение в момент старта ракеты из стальных объятий поддерживающих ее ферм обслуживания я не раз уже видел прежде. Представить это сейчас не составляло никакого труда...
Массивные — сплошного ажурного переплетения — фермы, будто скорлупа расколотого на четыре части диковинного, цилиндрической формы ореха, медленно и плавно раскрываются, как бы вылущивая из себя вместо ядра стройное тело ракеты — гигантский, поставленный на торец карандаш, припудренный иссиня-белым инеем. Вот фермы окончательно разошлись, ракета теперь на стартовом столе совсем одна, кажется, что в мареве испарений она колышется и только чудом удерживает свою гордую, устремленную ввысь вертикаль...
Мысленно я забегаю вперед и дорисовываю воображением не раз виденную картину... Вибрация ракеты усиливается, с ее обшивки осыпается иней, одновременно внизу вспыхивает бурлящий клуб ослепительного бледно-оранжевого пламени, а все вокруг сотрясает мощная волна грохота... Грохот нарастает, раздирая воздух стремительно расходящимися в пространство волнами; подпирающий работу столб пламени растет вверх, ракета плавно сходит со стартового стола и на какую-то неуловимую сознанием долю секунды будто зависает в воздухе... Но это лишь обман чувств, шок, вызванный грандиозностью и фантастичностью зрелища. На самом деле ракета сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее набирает скорость... Проходит несколько стремительных, но в то же время необъятно емких секунд, и высоко в небе, там, куда только что ушла ракета, уже гаснет крохотное пятнышко слабого света — последний зримый след выходящего на заданную орбиту космического корабля...
Но мой «Союз-3» еще на Земле. Я слышу, как усиливается внизу гул, и забежавшая вперед мысль возвращается в действительность; двигатели из подготовительного выходят на рабочий режим.
Электронные часы отсчитывают последние мгновенья перед стартом.
Механизм старта прост. Ракета закреплена специальными, рассчитанными на строго определенное усилие болтами; тяга растет, достигает требуемого уровня; болты срезаются и...
Невидимая сила мягко, но мощно все глубже и глубже вдавливала меня в кресло.
Все в порядке! — усмехаюсь я про себя.
На 290-й секунде кабину внезапно залил яркий, как луч прожектора ночью, свет. Все ясно: сработал пиропатрон, отбросив в пространство ставший ненужным аэродинамический обтекатель. Теперь можно взглянуть в иллюминаторы. Но дело прежде всего, передаю на Землю:
— Колпак сброшен!
— Не волнуйся, дождя теперь уже не будет! — откликнулся кто-то с Земли на мою шутку.
О том, что отстрел аэродинамического колпака произошел точно в рассчитанное время, я знал и сам: перед глазами у меня секундомер. Знал я, разумеется, и то, что за 290 секунд мой «Союз-3» вышел на такую высоту, до которой не дотянуться ни облакам, ни тучам. И все же приятно было услышать подтверждение того, что пока все идет нормально.
Перед тем как окончательно успокоиться, оставалось только одно: благополучно миновать момент отделения корабля от ракеты. Момент этот, образно говоря, должен точно «попасть в яблочко». Диаметр мишени пять-шесть секунд. Перед подходом к ней ракета-носитель добирает последние метры скорости. Если отстрел ракеты произойдет чуть раньше, скорости не хватит и корабль, вместо того чтобы выйти на расчетную орбиту, не сумеет преодолеть притяжение Земли и, описав кривую, приземлится или приводнится где-нибудь у черта на рогах. Скажем, в Индийском океане или в пустыне Гоби... Наоборот, если корабль отделится от ракеты-носителя чуть позже, скорости будет излишек и корабль выйдет на орбиту с координатами икс, зэт и игрек. Что лучше — сказать трудно. Твердо можно быть уверенным лишь в одном: орбита с подобными «координатами» — это далеко не самое лучшее, о чем можно мечтать.
Словом, отделиться нужно не «чуть раньше» и не «чуть позже», а точно вовремя. Только тогда все будет хорошо, только тогда можно будет, как говорится, спокойно жить и спокойно работать.
Отделение корабля ракеты-носителя происходит автоматически: вмешаться в это деликатное дельце я не могу — я могу только контролировать его ход по хронометру. Пассивно контролировать, по принципу: «Ай-ай-ай!.. Что же вы со мной, черти полосатые, делаете!» Но ракету отделяют не черти, а автоматика. Сто раз выверенная и перепроверенная.
Я знаю ее, я горжусь ею, я верю ей; я сижу и гляжу на циферблат хронометра... Тик-так, тик-так, тик...
Глубокий вздох... Все в порядке!
— Находишься на расчетной орбите! — информирует меня Земля.
Выдох... Все! Я начинаю спокойно жить и спокойно работать.
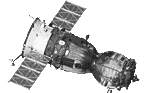 |
Жизнь моя на орбите началась с вживания, с приспособления к новым условиям — условиям невесомости, а работа — серией наблюдений и осуществлением других обязанностей летчика-космонавта.
Делать одновременно несколько дел, пожалуй, проще, чем рассказывать об этом: язык, к сожалению, или к счастью, у человека пока один. Поэтому рассказ о первых своих часах в космосе мне, видимо, придется вести, если так можно выразиться, не параллельно, а последовательно.
Начну с «вживания», или адаптации.
Адаптация — процесс независимый, самостоятельный; организм вживается в новую среду как бы сам по себе, независимо от сознания. Ему требуется только время. А время, как известно, бежит быстрее, когда сознание не томится бездействием, не изнывает от праздного ожидания, а за что-нибудь зацепилось. Ну хотя бы за любопытство. Особенно если оно проявляется в качестве своего благородного синонима — любознательности.
Кому, будем откровенны, неинтересно знать, что происходит с собственной его персоной, если он попал в новую не только для него самого, но и для всякого другого человека на Земле обстановку? Почему, скажем, человек сорока семи лет от роду и с высшим образованием за плечами не может вдруг записать пару слеш в блокнот, а лишь продирает концом карандаша бумагу? Или не способен с первого раза быстро ухватить пальцами свой собственный нос? Или...
Впрочем, оговорюсь сразу. Размышляя о таких вещах, как адаптация, я ни в какой мере не претендую здесь на эрудицию и знания специалиста — просто я хочу рассказать о том, что сам видел и испытал и что по этому поводу думал.
Сам принцип приспособляемости организма был известен мне задолго до полета. Практический материал в этом смысле с избытком поставляла хотя бы та же работа на тренажерах в космическом Центре. Но тут было качественное отличие — тут был космос.
Я знал, что когда человек попадает в какие-то резко отличающиеся от нормальных условия, вначале начинает перестраиваться его центральная нервная и сердечно-сосудистая система, а затем уже менее важные органы. Таков железный закон выживаемости: сперва все ресурсы — главному, затем уже все остальное, второстепенное.
Но субъективно для меня, как летчика-космонавта, главным сейчас являлось как раз второстепенное. Сердце и нервы особой заботы у меня не вызывали — я знал, что они справятся сами по себе; меня больше беспокоили нарушения координации движений.
Есть такой простенький прибор, с помощью которого легко выявить степень подобных нарушений, — небольшой квадратик, рассеченный на вертикали сеткой ровно отстоящих друг от друга линий. Допустим, этих линий в квадратике ровно двадцать. Надо засечь время и успеть пересчитать их глазами, ну как доски забора. Если вместо положенных двадцати получается, скажем, шестнадцать или тринадцать, значит зрительный аппарат еще не успел приспособиться, «вжиться» в новые условия, и время от времени та или иная «доска в заборе» выпадает из поля зрения.
В конце концов через какое-то время все двадцать линий вновь встают каждая на свое место. Следовательно, закончилась перестройка не только жизненно важных органов, но вернулась к норме и нарушенная поначалу координация движений. Но до тех пор, пока не прошло необходимое для этого время, полагаться на привычный автоматизм собственных движений не стоит; их лучше контролировать и корректировать сознанием.
Однако заниматься самонаблюдениями и самоанализом мне было уже некогда. Программа предусматривала начало активных действий в первые часы выхода на орбиту.
В конце первого витка поступила команда, которая, хотя я и был к ней готов, все же сжала сердце острым волнением, — предстояло провести сложный маневр сближения с беспилотным кораблем «Союз-2».
Автоматически включились бортовые двигатели, и «Союз-3», изменив траекторию полета, направился к точке, в которой должно было состояться космическое рандеву. Пока я, как говорится, оставался не у дел. Но я знал, что вскоре мне придется самому взяться за управление кораблем и проводить сближение уже вручную.
Вообще говоря, сам факт сближения двух кораблей в космосе не новость. Еще в 1962 году Николаев и Попович, а затем Быковский и Терешкова на кораблях «Восток» встречались на короткое время друг с другом. Однако у кораблей класса «Восток» возможности для маневра были весьма ограниченные. Тогда все строилось на максимально точном расчете вывода второго корабля на такую орбиту, которая на каком-то этапе пересекала бы орбиту корабля, запущенного сутками раньше. Иными словами, встречи в космосе обеспечивались в основном расчетами, выполненными на Земле; сами же летчики-космонавты не могли по собственному усмотрению менять заданную траекторию полета — они лишь сообщали на Землю параметры орбиты, на основании которых центр управления полетом проводил необходимую коррекцию. Кроме того, они ориентировали вручную корабли в пространстве, чтобы к моменту запрограммированного Землей сближения поставить их, развернув вдоль оси, в такое положение, при котором можно было бы наблюдать друг друга. Помните, знаменитый диалог по радио Николаева и Поповича?
« — Сокол! Сокол! Вижу тебя!
— И я тебя, Паша, вижу!»
Сближение кораблей хотя и проходило в пределах прямой видимости, но достигало тогда 5—6 километров. А через некоторое время корабли вновь теряли друг друга из виду, продолжая двигаться по своим собственным орбитам.
Корабли «Союз» обладали гораздо более широкими возможностями для маневра. Включая и выключая бортовые двигатели, космонавт мог самостоятельно переводить корабль с одной орбиты на другую. Мне предстояло впервые испытать ручное управление таким кораблем.
Вначале все было так же, как и с «Востоком». В результате точных расчетов, заранее выполненных на Земле, оба корабля оказались поблизости друг от друга — их разделяло лишь несколько километров. Затем, как я уже говорил, за дело взялась автоматика. Я видел, как в бездонных пространствах космоса возникла вначале едва приметная, крохотная, тускло поблескивающая пылинка, как она, постепенно увеличиваясь в размерах, обретала знакомые очертания моего старого знакомца, беспилотного космического корабля «Союз-2», как, наконец сблизившись до двухсот метров, оба корабля пошли параллельным курсом, — видеть все это, должен сказать, было незабываемым счастьем. Душу наполнила торжествующая гордость человека — не летчика-космонавта Берегового, а Человека — представителя всего человечества, сообщества всех землян, чей разум и чье мужество, нарастая от века к веку, вышли наконец на рубежи, откуда начинается освоение и покорение вселенной.
Я понимал, что это только первый крохотный шаг по не имеющей конца дороге. Но ведь и развитию разума тоже никто и ничто не положило предела. Ни там, ни тут нет конца; так почему двум бесконечностям не встретиться лицом к лицу и не пойти параллельными курсами — так, как встретились и как идут сейчас бок о бок два созданных на Земле космических корабля?
Говорят, почин дороже денег. И вот почин сделан. Первый шаг совершен. Только что на моих глазах состоялась встреча... Через три месяца, в январе 1969 года, произойдет первая стыковка двух кораблей, пилотируемых Шаталовым и Волыновым, а их «пассажиры» Елисеев и Хрунов будут свободно переходить из отсеков одного космического корабля в другой... Затем наступит черед орбитальных станций... Старты в околосолнечное пространство... Многократное использование космических кораблей... Освоение планет... Поиски контактов с иными цивилизациями... Обмен с ними знаниями и опытом... Новая неподдающаяся пока ни научному предвидению, ни творческому воображению техника... Межзвездные путешествия... Покорение времени и пространства... И так без конца. Путь, начатый Познанием, но неимеющий, как и сама познаваемая вселенная, конца.
Я знаю, что ничего не знаю, сказал один из мудрецов древности. Не претендуя на подобный титул, хочу все же, перефразировав его, сказать: я знаю, что никто не знает, каким путем будет покорена вселенная, но я верю, что она будот покорена. И еще я знаю, что вместе со мной в это верит все человечество. Иначе какой ему смысл строить и запускать в космос свои корабли...
А один из них, «Союз-2», бесшумно несется сейчас в двухстах метрах от моей кабины. По программе нужно свести корабли еще ближе — на расстояние нескольких метров! Пришел черед действовать мне.
Беру управление на себя...
Прежде всего необходимо было соответственно сориентировать корабль в пространстве. Для этого в моем распоряжении имеется несколько малых бортовых двигателей. Есть еще и более мощные двигатели для выполнения самих маневров. Кроме этих двигателей, есть еще посадочный. Существует еще пульт управления с доброй сотней приборов...
Абсолютная скорость, то есть скорость движения по орбите, — 28 тысяч километров в час. Но ее совершенно не ощущаешь. Если не смотреть в иллюминаторы, то вообще кажется, будто неподвижно висишь в пространстве. Тихо, никаких вибраций, подрагиваний — ничего...
Относительная скорость кораблей — скорость самого маневра — невелика. Ее тоже почти не чувствуешь. Поэтому глядеть нужно, что называется, в оба. Причем не в переносном, а в самом буквальном смысле этого слова. И за приборами на пульте, и в иллюминаторы.
Смотрю... Осторожно двигаю ручками управления... Расстояние между кораблями постепенно уменьшается — значит, двигаюсь вперед. Увеличиваю тягу маневровых двигателей — сближение продолжается... Вот он, «Союз-2», совсем рядышком, рукой достать!
Отпускаю ручку. Летим по инерции по своим орбитам. Корабли, имея небольшую разницу в скорости, начинают медленно расходиться... Снова берусь за ручки, снова сближаю корабли...
Чувствую, что устал. Не физически. Сказывается огромное внутреннее напряжение и... нагрузка на глаза. На их долю выпала львиная часть работы. А тут вдобавок процесс адаптации далеко еще не завершен...
К счастью, по графику время, отведенное на маневрирование, истекло. Короткий отдых...
Как он сейчас кстати, как необходим! Закрываю глаза и чувствую, как в них начинает рябить «задним числом»...
Забегая вперед, надо сказать, что через сутки маневрирование согласно программе повторилось. Вновь автоматика сблизила корабли, и вновь я брал управление в свои руки... Но далось это уже гораздо легче — организм к тому времени успел освоиться с невесомостью, что и не замедлило сказаться на результатах.
Впоследствии в связи с этим я записал в бортжурнале, что считаю нецелесообразным выполнять в первые часы полета операции, связанные с точными, требующими четкой согласованности движениями. Вернувшись на Землю, подробно рассказал о своих наблюдениях специалистам. Судя по всему, их учли, и уже в следующем групповом полете (Шаталова на «Союзе-4» и Волынова, Елисеева и Хрунова на «Союзе-5») начало активных действий экипажей планировалось не на первом, как у меня, витке, а значительно позже, через сутки.
На мой взгляд, и этого недостаточно; но я понимаю, что моя точка зрения скорее всего содержит немалую примесь субъективности. Вероятно, частичное — в той мере, в которой это необходимо на практике, — привыкание к невесомости наступает довольно быстро. Шаталов, например, на третьем витке блестяще выполнил стыковку...
Но одно бесспорно: полная адаптация организма в условиях космического полета требует значительно большего времени.
Часть его мне помогли скоротать не только работа, не только собственная любознательность и наблюдения, но и друзья, оставшиеся на Земле. Шутка, начатая еще до старта, закончилась только в космосе. Когда корабль совершил уже несколько витков на орбите, с Земли среди прочих поступила такая радиограмма:
«Загляни в бортжурнал. Надеемся, что тебе это доставит массу удовольствия».
Раскрываю, смотрю: между страниц вложена расписка. Та самая, которую я подмахнул в машине, не читая, и с текстом которой мне было обещано детально ознакомиться в ближайшем будущем. Читаю. Дескать, я, такой-то, обязуюсь не возмущаться тому факту, что пока сам буду, так сказать, вкушать космос, оставшиеся на Земле будут вместо космоса пользоваться за мой счет земными питиями и яствами. И приписка: а если, мол, буду возмущаться, то соответственно будут нарастать и проценты. В чем, дескать, собственноручно расписываюсь...
Вот, думаю, подписал на свою голову! Надо хоть от процентов успеть отбиться...
Радирую в ответ:
— Прочел. В восторге. Больше того: ликую!
И снова с Земли:
— Молодец! Ликуй! И о процентах помни!
Не стоит, разумеется, думать, что радиосвязь с Землей использовалась как бог на душу положит. Все радиограммы имели строго непосредственное отношение к выполнению полетной программы. Но в те редкие минуты, когда в делах наступало затишье, дружеское слово с Земли или штука приходились как нельзя более кстати. Работа работой, а эмоциональная связь с Землей летчику-космонавту подчас просто необходима. Что там ни говори, а космические трассы пролегают пока через чертовски пустынную местность. По крайней мере, так она выглядит, если взглянуть вдоль трассы в иллюминаторы. Но в иллюминаторах видны не одни далекие, утонувшие в беспредельных пустынях космоса звезды; если взглянуть, говоря поземному, вниз, на Землю, то увидеть можно очень и очень многое...
Во-первых, я видел — не понимал, а именно видел, что Земля действительно шар. Банальная истина, не правда ли? Но когда эту «истину» видишь впервые, она, поверьте на слово, как-то утрачивает свою банальность. Во всяком случае, посмотреть стоит...
Конечно, не нужно думать, будто я видел Землю, как еще полагают некоторые, в виде большого глобуса — в иллюминаторе она закрывала все видимое пространство. Но если в поле зрения попадал горизонт, тут изогнутость земной поверхности прослеживалась и явно и четко... А ориентироваться по ней и впрямь можно было как по глобусу. Одним взглядом охватываешь целые массивы суши. Ну скажем, полуостров Сомали или остров Мадагаскар... «Мадагаскар на ладони! — подумалось мне. — Забавно звучит!» Помните карту? Мадагаскар — маленькая туфелька... Но туфелькой то, что я видел, не назовешь, уж слишком она огромна, однако видел я остров целиком, от края и до края...
Красиво выглядят ночью крупные города: на них будто наброшена паутина световых гирлянд: неоновые ее нити светятся бледновато-желтым, цепочки из обычных электрических ламп пробиваются сквозь тьму корешками недозревшей моркови... Зато днем города начисто утрачивают свою привлекательность. Крупные промышленные центры въелись в земную кору серо-грязными пятнами, от которых, в зависимости от направления ветра, тянутся в ту или иную сторону длинные хвосты дыма, тоже какого-то темно-грязного цвета.
Из других деталей хорошо видны реки, средней величины озера, шоссейные и железнодорожные магистрали. Огромный, например, по земным масштабам океанский лайнер не виден; угадать, где он, можно только по остающемуся за ним следу — маленькому белому бурунчику в три-четыре миллиметра длиной...
Словом, посмотреть есть на что! Было бы только время... А его-то, как всегда в таких случаях, в обрез. Эксперименты, опыты, контроль за приборами и работой различных систем корабля, интенсивный радиообмен с Землей... Радиограмм, надо сказать, было много, очень много. Не стану, да и ни к чему пересказывать содержание хотя бы какой-то их части — все они имели лишь специальный, чисто рабочий интерес. Но две из них приведу дословно:
«Докладываю Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза и Советскому правительству: полет проходит нормально.
Успешно выполнил маневрирование и сближение с космическим кораблем «Союз-2». Настроение бодрое. Горячо благодарю Центральный Комитет родной партии и Советское правительство за оказанное мне доверие. Полет проходит по программе. Выполняю научные эксперименты. Системы работают отлично. Состояние отличное.
Летчик-космонавт Г. Береговой».
А вскоре с Земли пришел ответ:
«Дорогой товарищ Береговой Георгий Тимофеевич!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР сердечно поздравляем Вас с успешным началом полета и выполнением задания по маневрированию и сближению космических кораблей на околоземной орбите. Весь наш народ с неослабным вниманием следит за Вашим полетом. Крепко обнимаем Вас и желаем благополучного приземления.
До встречи на родной Земле!
Л. Брежнев, Н. Подгорный, А. Косыгин».
Сказать, что я был счастлив, значило бы сказать слишком мало. Да и к чему здесь слова, и без них ясно, что в подобный момент испытывает человек...
* * *
Впечатления от всего пережитого за первый день моей космической одиссеи были настолько богаты, что первую ночь в космосе я практически почти не спал. Тем более что сыграл на бессонницу я еще один немаловажный в этом смысле фактор — само состояние невесомости. Одно дело невесомость в земных условиях, на тренировках — каких-нибудь несколько десятков секунд и совсем иное — невесомость длительная, можно сказать, стабильная. Заснуть с непривычки в таких условиях штука довольно сложная. Свободное парение в воздухе, как выяснилось, не самая удобная кровать, хотя, пожалуй, самая мягкая. Только вот проку от подобной «мягкости» ни на грош. Шевельнул, скажем, во сне ногой и сразу — по принципу реактивной отдачи — поплыл в сторону. Поплыл — значит, проснулся. Поэтому, в конце концов, ловишь себя на странном, по первой видимости, желании: спеленать себя, вернуться, так сказать, к привычкам младенческого возраста. Но пеленок в инвентаре космического корабля не числится. Вместо пеленок имеются ремни. Вот и стараешься «спеленать» себя без пеленок, зафиксировать как-то себя в пространстве: засунешь в какую-нибудь щель между аппаратурой ноги, закрепишься ремнями и, глядишь, при определенной сноровке, уснешь. Зато уж, заснув, спишь меньше, а высыпаешься лучше: сказывается отсутствие нагрузки на суставы, на мышцы и на все остальное...
Вообще говоря, невесомость ощущается весьма субъективно, и каждый переносит ее как умеет. А точнее говоря, как может. Суть тут в типе нервной системы. Если она легко возбудима, неуравновешенна, тогда с невесомостью лучше не связываться, тогда она как болезнь. Есть даже для таких случаев специальный медицинский термин, так называемый комплекс «гибели мира». Человек со слабым типом нервной системы, попав в условия невесомости даже на короткое время, полностью теряет нормальное восприятие окружающей его среды. Ему кажется, что все вокруг начинает качаться, изгибаться, рушиться, и в конечном счете у него складывается стойкое впечатление, якобы весь мир летит в тартарары.
В космонавты отбирают людей уравновешенных, с хорошо сбалансированной, устойчивой психикой. Комплекс «гибели мира» для них — дверь за семью печатями; и знают о нем они понаслышке, от знакомых психиатров и невропатологов. И все же каждый из них осваивает для себя состояние невесомости индивидуально, всякий по-своему. Но, разумеется, в пределах норм, не отражающихся существенно ни на работоспособности, ни на состоянии психики.
Невесомость настигает сразу же, как только корабль выходит на орбиту. Другого, собственно, и не следует ожидать. Ждал я, как она проявит себя (а говоря точнее, как проявлю я себя в условиях невесомости), когда это состояние продлится достаточно долгий срок.
В первые минуты закрою глаза, откину голову на спинку кресла, и сразу же возникает ощущение, что я медленно-медленно переворачиваюсь, будто делаю заднее сальто. Когда же, думаю, произойдет полный, на все 360 градусов, оборот? Но как только я открываю глаза, иллюзия вращения пропадает. Видишь, что недвижно сидишь в кресле, да вдобавок еще прочно зафиксированный ремнями.
Впрочем, часа через два все это прошло. Кстати, к тому времени я уже освободился от ремней и свободно парил по кабине. Прошло и специфическое ощущение, возникавшее поначалу при резком повороте, когда на какую-то долю секунды казалось, будто у тебя нет почвы под ногами. Ее, разумеется, и на самом деле не было: подошвы то на стенку нацелятся, то на потолок. Но чувство отсутствия почвы под ногами воспринималось чисто по-земному. Примерно так же, как если из-под ног внезапно вывернется табуретка. Но и это, повторяю, прошло — крутись как хочешь. И чем дальше, тем лучше. Часов через пять, когда я более или менее прочно усвоил навыки целенаправленного передвижения, я решил, что постоянное, стабильное состояние невесомости — штука весьма приятная. Ни тошноты, ни головокружения — только небывалая легкость во всем теле; плаваешь в воздухе, куда душа пожелает, а желание подкрепляешь принципом реактивной отдачи: развел, скажем, в стороны руки — голова с корпусом пошли вперед и вниз, на прямое сальто; и наоборот, свел их вместе — и потянуло на заднее сальто и гак далее. Не раз по этому поводу вспоминал наши тренировки в «бассейне невесомости» — очень они помогли.
Но надо отметить, что приятная эта легкость, ощущение, будто ты растворен в окружающей тебя атмосфере, хороши лишь вначале, на первых порах; потом тело начинает как бы тосковать по нагрузкам. Как-никак, а привычка у нас к ним, можно сказать, хроническая — с рождения. К концу суток мне вдруг остро захотелось почувствовать самого себя, ощутить себя изнутри — волокнами мышц, связками суставов; захотелось спружиниться, что ли, выгнуться, потянуться до хруста в костях...
Да и сами мышцы, если они находятся в состоянии длительного бездействия либо нагрузки на них чрезвычайно малы, постепенно начинают слабеть, утрачивать свою силу и эластичность.
Для того чтобы как-то это предотвратить или хотя бы снизить эффект ослабления мышц, берут с собой в космос такие гимнастические снаряды, как эспандеры, резину. Галтели или гири в условиях невесомости, само собой, не помогут. А растягивая в разных вариантах резину или работая с эспандером, можно нагрузить практически любые группы мышц. И все же при длительных космических полетах это тоже не выход: ни резина, ни эспандеры космонавта от атрофии мышц не спасут. Нужно искать что-то другое. Причем принципиально новое; и непременно, обязательно, со всем упорством и настойчивостью — искать. Космические рейсы к ближайшим планетам солнечной системы не за горами...
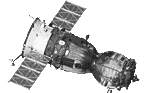 |
Хотя со сном у меня, как я уже говорил, в первые сутки было не густо, но спалось хорошо. Проснулся я на другой день в половине пятого утра; проснулся и решил, что с адаптацией скорее всего покончено. Правда, определить это самому без помощи специальных, выполненных на Земле анализов невозможно. Но, во всяком случае, настроение было у меня, что называется, самое отменное, лучше вроде бы и желать нельзя.
Впоследствии самодиагноз мой подтвердили радиограммой с Земли: «Пульс 64—66 ударов в минуту. Электрокардиограмма, сейсмокардиограмма и пневмограмма без отклонений от нормы».
Не знаю, как кто, а я к себе, честно говоря, почувствовал некоторую толику уважения.
Успешно прошел и анализ психофизиологических проб: работоспособность, как психическая, так и физическая, оказалась вполне на уровне. Словом, возраст мой помехой не послужил. Значит, главная забота с плеч... Оставалось продолжать в том же Духе.
А для начала полагалось позавтракать. Я взял пару туб и, закрепись с помощью ремней, принялся за дело. Прием пищи вне компании сотрапезников обычно сопровождается молчанием. А молчание наталкивает на раздумья. Потягивая кофе, я внезапно поймал себя на том, что к чему-то прислушиваюсь.
К чему?
Земля временно молчит; корабль еще не вошел в очередную зону радиовидимости. В кабине тихо пощелкивают, шелестят, потрескивают бессчетные приборы системы оборудования. В самой обстановке тоже ничего нового...
К чему же?
И вдруг я понял, к чему я прислушиваюсь. Я прислушивался к самому себе. И тотчас же в памяти всплыл бокс сурдокамеры: глухой замкнутый куб, выстланный изнутри звуконепроницаемым покрытием, неусыпно следящие зрачки телемониторов, кусок липы, из которой я выстругиваю в часы досуга своего ЯКа, и внезапное пронзительное ощущение Одиночества и Тишины космоса...
И вот я в космосе, не в воображаемом, а в самом что ни на есть натуральном, без подделки. Так где же они, эти Одиночество и Тишина? Я вслушиваюсь в себя, я ищу их в глубинах своего сознания и... не нахожу. Неужели тогда все это было лишь плодом разыгравшейся фантазии, результатом перевозбуждения нервной системы?.. И я вновь и вновь вслушиваюсь, вслушиваюсь, вслушиваюсь...
Проходит еще несколько долгих секунд, и вместе с ними наконец приходит единственно верный, разом снимающий все вопросы ответ. Теперь я ясно вижу, в чем дело — оно в разнице условий. Как ни странно, на Земле во время проб и тренировок они оказались гораздо более жесткими, чем здесь, в космосе, в условиях реального полета. Здесь, в отсеках космического корабля, жизнь моя до предела заполнена активной и интенсивной деятельностью: уникальная, поглощающая всего целиком работа, огромный, неослабевающий интерес к окружающему, к тому, например, что видишь за стеклами иллюминаторов, наконец, практически постоянная двусторонняя связь с Землей, исключающая болезненную самофиксацию на чувстве одиночества и оторванности... Короче говоря, не жестко и тщательно организованный эксперимент с неизбежно присущим ему внутренним ощущением комплекса «подопытного кролика», как это было в сурдокамере, а живое, захватывающее, насквозь пронизанное сознанием реальной отдачи и пользы дело.
Разумеется, говоря так о сурдокамере, я отнюдь нисколько не хочу умалить ее значения, которое ей совершенно резонно отводится в плане подготовки будущих летчиков-космонавтов. Я лишь хочу как можно ярче подчеркнуть само существо разницы между подготовкой к полету и самим полетом — ту значимость, которую она имеет не для одного конкретного человека, для общества в целом.
Возвращаясь же к понятиям Тишины и Одиночества в космосе, следует сказать, что их восприятие зависит прежде всего не столько от факта самого полета, сколько от тех условий, в которых он осуществляется. Тем, кому доведется в будущем выводить корабли на дальние, исчисляющиеся многими месяцами, а то и годами, космические трассы, вероятнее всего, вновь придется вернуться к переоценке этих двух факторов. Ощутят их грозную силу, вероятно, даже и те, кому длительное время придется работать на первых и потому, видимо, скромных по размерам орбитальных станциях; ведь не исключена возможность, что поначалу такие станции будут обслуживаться весьма немногочисленным штатом...
Покончив с завтраком, а заодно и с размышлениями о настоящем и будущем эпохи освоения космоса, я согласно программе и рабочим записям бортжурнала приступил к своим текущим обязанностям и делам.
Одним из моих постоянных рабочих инструментов был фотоаппарат. А одной из задач, которую можно было решить с его помощью, являлась фиксация на пленке состояния слоев яркости приземной атмосферы.
Все космонавты, побывавшие в космосе до меня, рассказывали, что горизонт имеет как бы три слоя яркости, изменяющейся в зависимости от расстояния от Земли. Поэтому я, разумеется чисто теоретически, был уже подготовлен к тому, с каким изобилием цветов и красок доведется мне познакомиться в космосе. Но верно говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Хотя, надо сказать, я не только слышал рассказы, например, Алексея Леонова, но и видел — Леонов отлично рисует! — его иллюстрации к тому, о чем он говорил. И все же, когда я впервые собственными глазами взглянул из космоса на то, что принято понимать на Земле под горизонтом, меня это одновременно и потрясло, и ошеломило, и заворожило. Богатство космической цветовой палитры поистине не поддается описанию. Никаких слов не хватит... Если же попытаться воспроизвести цветовую щедрость космоса не с помощью человеческой речи, а на холсте или на бумаге, тогда тотчас же почувствуется острая нехватка уже не слов, а тюбиков с красками.
Чтобы не быть голословным, приведу такой пример: в космическом центре мы пробовали прибегнуть к помощи Ленинградского института метрологии. Там охотно откликнулись на нашу просьбу и прислали все разработанные в рамках ГОСТов цвета, всю земную палитру существующих красок.
Сравнение, если можно тут говорить о сравнении, оказалось явно не в нашу пользу. Космос не просто первенствовал — он царил.
Выбрав какой-нибудь один цвет, мы подбирали два наиболее близких его оттенка таким образом, чтобы между ними уже ничего нельзя было поместить. (Если, разумеется, пользоваться красками, которые имелись в нашем распоряжении на Земле.) В космосе же дело обстояло совершенно иначе. Там между двумя такими оттенками умудрялась уместиться еще целая цветовая гамма тончайших полутонов с едва уловимыми на глаз переходами. В общем, если попытаться составить цветовой спектр из земных красок и из космических, а затем их сопоставить, то первый напоминал бы грубо сколоченный из неотесанного горбыля забор, где щелей было бы едва ли не больше, чем самих досок; второй же выглядел бы, пользуясь тем же сравнением, как клавиатура рояля, где каждая клавиша тщательно и точно подогнана друг к другу.
К слову сказать, чтобы представить себе необычайно щедрое богатство «природной палитры», необязательно глядеть на нее из иллюминатора космического корабля. Достаточно, скажем, вспомнить, как выглядит обычное голубое земное небо в разные времена года. Всякий раз голубизна эта воспринимается нами по-разному. Зимой она какая-то колючая, холодная; летом — душная, вроде бы с поволокой; весной — звонкая, свежая, ветреная... Не знаю, сказали ли вам что-нибудь мои слова, вызвали ли в памяти ту разницу, которую каждый из нас не раз ощущал и отложил в сердце. Знаю только, что для того, чтобы попытаться это сделать, мне пришлось искать обходные пути, какие-то подсобные средства — рассказывать об оттенках цвета словами, не имеющими к краскам никакого отношения: «колючая», «душная», «звонкая»... Конечно, для того, чтобы передать то, что я хотел, можно найти слова более точные, более меткие, но все равно они наверняка окажутся не из того пласта слов, который связан с понятиями цвета и краски, а все из того же стана — «обходных путей» и «подсобных средств». Не «колючая», так «иглистая»; не «звонкая», так «колокольчиковая»... Словом, не точность, а образ; не натуральный продукт, а заменитель или суррогат.
Точно так же в этом случае дело обстоит и в живописи. Разница лишь в том, что если в первом случае не хватает слов, то во втором — красок. И художнику для того, чтобы создать на холсте впечатление зимнего или весеннего неба, так же приходится либо жаловаться на отсутствие красок нужных оттенков, либо творить, ища все те же обходные пути.
А вот природе ничего этого не нужно; у нее под руками не заменители и не эрзацы, она всегда пользуется лишь «натуральными продуктами». Надо ей «нарисовать» зимнее или весеннее небо, она его и «рисует» — теми самыми красками, которых нет у нас, у людей, по крайней мере, пока нет.
В космосе цветовая палитра еще богаче, и никакая самая качественная фотопленка не в силах запечатлеть ее подлинное богатство и бесконечно емкую, многогранную красоту. Ни один из снимков того же горизонта, целый ворох которых я старательно нащелкал в космосе с помощью своего фотоаппарата, не способен передать и сотой доли из той цветовой симфонии, которая всякий раз царственно развертывалась у меня перед глазами, пленяя и покоряя душу...
Впрочем, этого и не требовалось. Фотопленки, которые я доставил на Землю, полностью отвечали тем требованиям и задачам, ради которых я прицеливался в сторону горизонта объективом фотоаппарата. И все же жаль, что неповторимую щедрость и красоту космической палитры нельзя было доставить на Землю, хотя бы запечатленной с помощью той же фотопленки...
* * *
Время в полете летит быстро: слишком много необычного, впервые переживаемого заполняет до краев каждый час, каждую минуту — наблюдения, работа, сама обстановка. Но усталости — видимо, сказывается отсутствие гравитации, — несмотря ни на что, не чувствуешь.
Когда с Земли поступил приказ приготовиться к вторичному сближению с моим — теперь уже двухдневным — попутчиком в космосе, с беспилотным «Союзом-2», я чувствовал себя почти таким же бодрым и свежим, как утром. Хотя времени прошло немало...
Сближение, как и в первый раз, началось под контролем автоматики. Но затем снова наступила пора взяться за ручки управления самому; автоматика по команде с Земли покорно передала власть над кораблем в руки человека.
Не стану подробно рассказывать (в общих чертах я уже это сделал), как протекало само маневрирование — процесс этот и сложен, да и заинтересовать может лишь узкий круг специалистов, — скажу одно: по оценкам с Земли ручное управление кораблем прошло успешно, В соответствии с заданиями программы.
Но, помимо локальных, конкретных задач сегодняшнего дня, существуют задачи и проблемы, которым суждено предопределить будущее. Одна из них, на мой взгляд, складывается как раз на базе тех принципов, которые лежат сейчас в основе систем ручного управления космическими кораблями. Общая их тенденция, к сожалению, пока такова, что не дает возможности проявить летчику-космонавту все те свойства и качества, которыми щедро наделила человека природа.
Обычно, когда человек имеет дело с какой-либо машиной, он пускает в ход сразу все виды анализаторов: зрительные, слуховые, тактильные или внутримышечные. Иными словами, видит, слышит, чувствует. Такое разнообразие каналов, по которым поступает информация, не только позволяет ему лучше ориентироваться в обстановке, но и, что не менее важно, высвобождать один из них, когда это нужно, за счет других.
Шофер, например, сворачивая с автострады, измеряет крутизну поворота не только зрительно, но и той силой инерции, которая стремится отклонить его тело в противоположную сторону, — в мышцах возникают соответствующие ощущения. Чем выше скорость и круче поворот, тем больше приходится напрягать мышцы водителю, чтобы не завалиться плечом на дверцу автомобиля. Если, скажем, взять летчика, то, помимо силы инерции, он еще ощущает противодействие со стороны штурвала и педалей. В обоих случаях тактильные анализаторы и внутримышечное напряжение помогают зрительным; и те и другие делают, в сущности, одно и то же дело — информируют мозг, как протекает процесс управления машиной.
Хороший летчик способен вести самолет, не глядя на приборную доску. А иной раз это попросту необходимо. Ведь ас во время воздушного боя не смотрит на приборы — некогда; он ощущает машину на штурвале и на педалях, по перегрузкам, возникающим в ходе маневрирования. Иначе и нельзя: иначе он был бы занят приборами, а не боем.
Примерно то же самое происходит, скажем, при торможении автомобиля. Толковый шофер чувствует, с какой силой нужно выжать педаль, чтобы машину, с одной стороны, не занесло, с другой — чтобы остановить ее там, где надо, или сбросить, как хотелось, скорость. Говоря образно, между педалью под ногой и покрышками на асфальте для него как бы возникает прямая связь; все остальные звенья тормозной системы вроде бы выпадают, будто он тормозит собственной подошвой ботинка. Это означает, что у него выработалось чувство на автомобиль. Но чувство это обусловлено не только мастерством водителя и его опытом — того и другого оказалось бы недостаточно, если бы отсутствовала так называемая гармония в самой системе управления; если бы, другими словами, усилие на тормозную педаль и ее ход были бы несоотносимыми со скоростью движения и весом самого автомобиля.
Что, скажем, произошло бы, если на «Волгу» или «Москвич» поставить руль от велосипеда? Авария. Тот же результат был бы, если вместо велосипедного поставить руль (не только саму баранку, конечно, но всю цепь управления — всю ее силовую часть) от двадцатипятитонного МАЗа — и «Волга» и «Москвич» очутились бы вскоре в кювете. В обоих случаях от малоприятной беседы с сотрудниками ГАИ не спасли бы водителя никакой опыт, никакое мастерство. То и другое оказалось бы попросту бесполезным, так как гармония управления была бы резко нарушена.
Строго говоря, гармония управления сама по себе в какой-то мере — условность.
Считается, например, что для гармоничного управления истребителем необходимо создавать на штурвале усилие примерно в 2 килограмма на каждую единицу перегрузки, а на средних бомбардировщиках — 12—14 килограммов. А почему, собственно? Только потому, что так сложилось на практике. К этим соотношениям привыкали на протяжении всей истории развития авиации. Но когда, к примеру, в авиацию пришли сверхзвуковые скорости с их огромными перегрузками и могучими силами инерции, обычные системы управления стали непригодны — никакой Власов или Жаботинский не справился бы с теми усилиями, которые возникали бы на штурвале или педалях. Пришлось призвать на помощь гидравлику, которая не только ослабляла возникающие при пилотировании усилия, а практически могла бы свести их почти к нулю. И сразу же возник парадокс. При крутом вираже на сверхзвуковой скорости машина испытывает значительные перегрузки, а летчик на штурвале их не чувствует. Для того чтобы сдвинуть ручку, нужно усилие в какие-нибудь 200—300 граммов. Гармония управления нарушилась — пилот может разломать машину на части только оттого, что исчезло привычное соотношение между перегрузками, которые испытывают летчик и самолет, и усилиями, которые возникают у него на штурвале и педалях.
Пришлось срочно разработать и поставить на сверхзвуковые самолеты так называемые АРЗ — автоматы регулировки загрузки, которые чисто искусственным путем привели эти усилия в некоторое соответствие с перегрузками: восстановили, иными словами, ту условность, которая необходима для гармоничного управления самолетом. Когда оно гармонично, пилот как бы соединен, связан через систему управления самолетом с той средой, в которой самолет находится, летит, работает. Нарушить ее — значит разорвать эту цепь, значит исказить поступающую через штурвал и педали информацию.
Именно это и происходило при ручном управлении первыми космическими кораблями. Ручки управление есть, а усилия на них отсутствуют: тактильные, внутримышечные анализаторы летчика-космонавта •в работу не включены и остаются бездействующими. Он маневрирует кораблем, контролируя маневр только зрительно — по приборам и с помощью прямой видимости. А ведь космический корабль по своему назначению такое же (особенно если учитывать ближайшее будущее) транспортное средство, как самолет или автомобиль, только еще более сложное. Управление же им пока осуществляется, с одной стороны, чисто лабораторно, а с другой — обедненно, без учета природных возможностей человека, так, как если бы мы сели за пишущую машинку в варежках или, того хуже, попытались бы влезть на крышу дома по водосточной трубе, пренебрегая пожарной лестницей.
Нельзя забывать, что все типы анализаторов даны человеку извечно, от природы, и он, взаимодействуя через систему управления машиной со средой, где эта машина движется и работает, привык всеми ими пользоваться. Что же выгоднее, эффективнее, проще, наконец, — изменить природу человека или конструкцию созданной им и предназначенной для него машины? Стоит ли приспосабливать человека к космическому кораблю, а не наоборот — корабль к человеку?
Я понимаю: мешает невесомость. Но, во-первых, с ней самой так или иначе, но все равно придется бороться — при длительных рейсах человек неизбежно растеряет в ее условиях необходимую ему при возвращении на Землю силу мышц, а во-вторых, изобретательность мысли, творческая ее способность не имеют ни границ, ни дна; всегда при желании можно найти выход... Конечно, разработка и оснащение космических кораблей системами гармоничного управления усложнят и удорожат и без того сложные и дорогие конструкции, но я глубоко убежден, что все это в конечном счете сторицей окупится благодаря тем возможностям и резервам, которые дополнительно откроются перед космическим флотом. Особенно когда его корабли выйдут на трассы межпланетных, автономных от Земли, самоуправляемых полетов.
Человек — машина — среда. В цепи этой, в конце концов, главными звеньями всегда были крайние. Машина — звено-посредник, звено промежуточное. Так было, так и останется. Машина, если это не игрушка, никогда не сможет стать самоцелью. Роль ее — лишь помогать человеку осваивать среду, окружающий его мир. И чем лучше, чем эффективнее научится он управлять создаваемыми им машинами, тем больше от них будет пользы, тем выше будет отдача. А путь здесь, думается, бесспорно один — не человека приспосабливать к машине, а машины к человеку так, чтобы он, человек, управляя и руководя ими, мог использовать при этом все данные ему природой качества и возможности.
В космосе же это, повторяю, особенно необходимо. Не говоря уж об обедненности управления, которая затрудняет маневр и ведет к снижению его точности, вынужденная бездеятельность большинства анализаторов неизбежно приводит к перегрузке зрительных. Практически почти вся поступающая к летчику-космонавту информация, кроме радиосвязи, идет только по одному каналу — через органы зрения. Глазам достается вовсю! Следить приходится и за приборами, и за Землей, и за положением объекта сближения... Так же, как в воздушном бою, — только в одиночку, без помощи других органов чувств.
Но дело здесь не в субъективном восприятии — устали, дескать, глаза или нет; трудно им или не очень, — речь идет о гораздо большем: о возможности, а в некоторых случаях и неизбежности оши: бок. Когда поступающая информация распределена по разным каналам, вероятность ошибки снижается сразу за счет двух факторов: во-первых, уменьшается доля нагрузки на каждый вид анализаторов, а во-вторых, одни анализаторы, дублируя другие, одновременно же их и контролируют. Грубо говоря, то, что, скажем, видят глаза, подтверждают или опровергают уши... Если же вся масса информации воспринимается только с помощью глаз, зрительные анализаторы могут с ней попросту не справиться, а значит, привести к ложным суждениям и выводам. То же, кстати, происходит и в тех случаях, когда информации не избыток, а, наоборот, недостаточно. Хрен, как говорится, редьки не слаще, в обоих случаях гарантированы ошибки. А за ошибки в космосе приходится расплачиваться.
Говоря обо всем этом, я отнюдь не преследую цели хоть как-то, пусть в самой малейшей степени, критиковать существующие системы ручного управления сегодняшних космических кораблей. Я просто размышляю о тех требованиях, которые к ним предъявит когда-нибудь будущее. Только оторванному от земли мечтателю, вздорному фантазеру может взбрести в голову начинать с конца или с середины. Я знаю, что начинать приходится всегда с начала. А начало чаще всего и есть самое трудное. Особенно если это начало целой эры — эры освоения космоса.
Тот, кто гонится сразу за двумя зайцами, обычно возвращается после охоты с пустыми руками. И поделом! В серьезном же, большом деле (я имею в виду сейчас не освоение космоса вообще, а конструирование и разработку первых космических кораблей) погоня за двумя зайцами выглядела бы в сто раз непростительнее. Здесь необходимы не легкомысленные и безответственные скачки, а серьезная и упорная последовательность.
Иными словами, нынешние достижения в области космической техники не нуждаются ни в дифирамбах, ни тем более в оправдании; они говорят сами за себя. Говорят фактами. А факты, как известно, самый убедительный на свете язык. Однако все сказанное отнюдь не избавляет нас от забот о будущем. Напротив, совершив первые шаги и накопив уже какой-то опыт, именно сегодня следует, опираясь на завоеванные плацдармы, всерьез задуматься о завтрашнем дне и, в частности, как мне кажется, об одной из его принципиальных проблем — о разработке систем гармоничного ручного управления...
Конечно, мысли эти ко мне пришли не вдруг. Не в момент преодоления тех трудностей, которые возникли при сближении кораблей «Союз-3» и «Союз-2»; окончательно сформировались они значительно позднее. Но предпосылка к ним наметилась именно тогда и именно там, в космосе. И я думаю, что это не случайно, а закономерно. Пока не видишь трудностей, нет и стимула задумываться над ними. А затруднения при ручном управлении корабля, повторяю, были: не те, которые мудрено преодолеть, но вполне достаточные, чтобы о них подумать.
* * *
Покончив с маневрированием и мысленно проводив удаляющийся по своей орбите «Союз-2», я занялся другими, предусмотренными программой делами. Одно из них было для меня особенно приятным — телепередачи на Землю из космоса.
Я помню тот жадный интерес, который вспыхнул во мне сразу же после полета Юрия Гагарина: он видел то, чего не видел тогда еще никто! Чего бы я только не отдал, чтобы хоть на несколько минут оказаться на его месте!
Оказаться в кабине летящего по орбите космического корабля пока еще дано весьма и весьма немногим. Поэтому нетрудно понять мою радость, когда я с помощью телекамеры смог предоставить возможность заглянуть туда каждому, кто этого захочет. Извините за невольную нескромность, но я чувствовал себя немного Дедом Морозом, которого судьба наградила счастьем сделать подарки одновременно многим и многим людям сразу.
Правда, вместо мешка с гостинцами в руках у меня была переносная портативная телекамера, та самая, которую мы еще на Земле решили сохранить в качестве сувенира для человека, посвятившего всю свою жизнь тому, чтобы все это стало возможным. Переходя, вернее переплывая, вместе с телекамерой из кабины в смежный отсек, предназначенный для научных исследований и отдыха, я показывал миллионам телезрителей все, что мог. Внутреннее устройство кабины, пульты, с помощью которых осуществлялось управление кораблем, различного рода системы, агрегаты, приборы... И даже Землю — такой, какой она выглядит сквозь стекло одного из иллюминаторов; ту самую Землю, жители которой сидели у экранов своих телевизоров, следя за моим телерепортажем...
Еще раз скажу: это была радостная работа. Радостная, но и, как и любая другая в космосе, нелегкая. Нелегкая как раз из-за состояния невесомости.
Всякий раз, когда я хотел показать что-нибудь более длительно и подробно, перед тем как зафиксировать на показываемом объектив телекамеры, мне прежде нужно было зафиксироваться самому. Зафиксироваться, как минимум, двумя, а еще лучше — сразу тремя точками. Только уперевшись как следует во что-нибудь спиной и засунув в какие-нибудь щели покрепче ноги, можно было считать, что полдела сделано. Причем вторая его половина, в отличие от первой, уже не составляла никакого труда — парадоксально, но факт, в силу все той же невесомости. Мешая в одном случае, она помогала в другом. Вес телекамеры, естественно, был равен нулю, и потому никакой другой опоры, кроме нацеливших ее в нужную сторону рук, не требовалось: держи в фокусе избранный объект хоть час, хоть два — из сил все равно не выбьешься...
Но дело, конечно, не в силе; дело — в графике. График же предоставлял для телерепортажей строго ограниченное число минут: ни больше, ни меньше. Казалось бы, такая его дотошность и педантичная жесткость должны бы, в конце концов, стать для летчика-космонавта обузой. Однако на деле это оказалось далеко не так. Не зря ломали над ним на Земле головы! График был продуман и расписан именно так, чтобы обусловленный им жизненный ритм наилучшим образом отвечал не только запросам человеческого организма, но и, пожалуй, даже желаниям самого летчика-космонавта. В нем, в графике, все время как бы прощупывались две тенденции: разнообразие и исключение усталости от излишней длительности какого-нибудь одного вида работы... Чего же еще желать человеку!
Следует подчеркнуть, что больше всего времени отводилось в программе на различного рода наблюдения. Это и естественно; ведь космонавт сегодня — прежде всего исследователь, разведчик. Разведчик же, где бы он ни очутился, должен глядеть в оба. В связи с этим не могу не рассказать об ощущениях наблюдателя из космоса — о привычных для земного жителя понятиях «верх» и «низ».
У школьника-третьеклассника, впервые знакомящегося с формой Земли, с ее уменьшенной копией — глобусом, всегда возникает недоумение — как это люди на той стороне земного шара ходят вниз головой и вверх ногами? Постепенно в сознании утверждается понятие о низе как о направлении к центру Земли. И тогда все встает на свое место... Проходит какое-то время, и вот новые сомнения — Луну с Земли мы видим вверху. А где же тогда с Луны видна Земля? Внизу? Едва успели освоить, что низ на Луне — это направление к ее центру, а верх в сторону от центра, из чего следует, что для «лунатика» Земля ярко сияет вверху среди звезд на черном небе Селены, как тут же начинает беспокоить новая проблема: а как видит Землю космонавт с орбиты?
Должен сказать, что в условиях невесомости исчезает понятие верха и низа. Если закрыть иллюминаторы, то человек не может указать какое-либо определенное направление, которое соответствует верху или низу.
Вот сижу я в кресле — верх для меня то, что выше головы, а низ — под ногами. Отстегнул ремни, оттолкнулся от кресла, поплыл по кабине, сделал несколько кульбитов, и вот уже кресло у меня над головой, а потолок под ногами. Где тут верх, где низ? Так и с Землей. Если я «подплываю» к иллюминатору перпендикулярно к его плоскости — Землю я вижу как будто бы вверху, над головой. Если иллюминатор у меня сбоку, то и Земля от меня расположена сбоку. А если я смотрю через другой иллюминатор на звезды, то Земля у меня внизу, под ногами.
Так я и гляжу на Землю со всех сторон... Гляжу сквозь объективы телекамеры, кинокамеры, фотоаппарата; гляжу и не вооруженными оптикой глазами. Гляжу и не могу наглядеться.
Земля с высоты 250 километров выглядит иначе, чем, скажем, с высоты Эльбруса или Монблана: она окрашена в сложный бордово-красно-коричневый тон — видимо, сказывается оптический эффект толщи приземной атмосферы. Леса, помимо знакомого зеленого, имеют сверх того еще какой-то серо-грязный оттенок; даже обида берет... Зато океаны хороши!
Видно, никакая высота им нипочем. Прямо в иллюминаторе океан выглядит серо-зеленым; а дальше, если медленно уводить взгляд в сторону, — целая гамма цветовых оттенков: темно-зеленый, бутылочный, бледно-голубой, голубоватый, голубизна с сединой, голубой, темно-голубой, потом опять (на мягких-мягких, не уловимых на глаз переходах) голубой, светло-голубой, еще голубее и — небо!
Правда, следует оговориться, что цветовые восприятия в космосе в какой-то мере субъективны, а в какой-то зависят от характеристик стекла иллюминатора. У Леонова, например, в шлеме скафандра, когда он выходил в открытый космос, были вмонтированы фильтры, которые отражали до 97 процентов •солнечного света, а у меня в иллюминаторах были обыкновенные кварцевые стекла... Так что некоторые расхождения в описаниях цветовых тонов и оттенков неизбежны...
Скорость полета, как я уже говорил, не ощущается; для того чтобы ее почувствовать, опять же необходимы глаза. Зато, когда смотришь на Землю, начинаешь понимать, что это такое — 28 тысяч километров в час! Скажем, подлетаешь к Америке: западный берег, короткий пролет над сушей, восточный берег и — опять океан! Раз-два, и Америки под тобой уже нет! А в ней, между прочим, если даже поперек, — несколько тысяч километров... Даже на огромную, с запада на восток, территорию Советского Союза требуется всего-навсего каких-то 17 минут... Помните, в песне: «Широка страна моя родная...» Широка, спору нет. А мысль человеческая и ее техническое воплощение, выходит, еще шире...
Кстати, перед стартом я немного побаивался, что Земля наша с высот космической орбиты может утратить свою солидность. Как-то неприятно было даже думать об этом — Земля все-таки! Но тревоги мои оказались напрасными. Земля, став доступнее для обозрения, стала еще беспредельней, величавее, масштабней... Хотя какой-то едва уловимый, едва ощутимый холодок между мной и ею все же провеял... Не отчуждения холодок, а какой-то психологической отрешенности — в том смысле, что человечество не вечный, хотя и довольный своею судьбой, ее пленник, а скорее один из ее взрослеющих детей: захочет — останется под родной крышей, не захочет — подастся куда-нибудь обживать другое, новое жилье...
Нет, в этом ощущении не было ни гонора, ни зазнайства: любовь к Земле в человеке — по крайней мере, в сегодняшнем человеке! — беспредельна и неистребима. Скорее ощущение это относилось не столько к самой Земле, сколько к взращенному ею человечеству; и была в нем гордость, преклонение перед мощью его коллективного разума и умения, перед дерзостью его планов и замыслов, перед крутизной спирали прогресса...
Вот я пишу это и вдруг ловлю себя на каком-то странном чувстве неприязни к написанному... Все правильно, все так и есть на самом деле, а все-таки коробит. Будто кощунствуешь... Уж не зачеркнуть ли от греха? Но что?! Что зачеркнуть? Прогресс человечества? Его стремление освоить и покорить вселенную? Этого, сколько ни открещивайся, сколько ни черкай, не зачеркнешь! Так что же тогда? Псевдоизмену Земле? Но ей никто не изменяет... Взгляд, так сказать, на нее сверху вниз? Но с орбиты, если глядеть на нее «снизу вверх», увидишь лишь звезды. Новые, неведомые, необжитые, манящие миры... И хочешь не хочешь, зачеркивай не зачеркивай, человечество все равно будет стремиться к этим мирам — стремиться к звездам!..
Там, в космосе, глядя на Землю и размышляя обо всем этом, мне снова вдруг вспомнился переосмыслившийся уже однажды в сознании авиационный термин — угол атаки.
Угол атаки... Не близок ли он к закритическому, этот выбранный человечеством на путях истории угол атаки? Не слишком ли круто оно пытается забирать вверх? Хватит ли подъемной силы? Не оборвется ли?
Только что я пролетал над борющимся Вьетнамом. Война... Вьетнам, Ближний Восток, Африка. Провокации в Западном Берлине. Войны, бомбардировки, пограничные конфликты и стычки... Гонка вооружений; разрастающиеся, как грибы, военные базы... Напалм, ядерные бомбы, химическое и биологическое оружие... НАТО, СЕАТО и другие военные блоки и пакты; империалистические сговоры и заговоры; новоиспеченные расистские режимы; поднимающий голову неофашизм. .. Массовые расправы с либерально настроенными; тюрьмы и застенки для инакомыслящих; индивидуальный террор; физическое устранение неугодных лидеров — Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг...
Не слишком ли много за каких-нибудь два с половиной десятилетия, прошедших после последней, второй в этом веке, мировой войны? А будущее? Что оно сулит человечеству?
В западной прессе постоянно — причем с каким-то бахвальством и чуть ли не со злорадством — выдвигаются и обсуждаются разного рода самоубийственные «идеи». Что, если, дескать, взорвать все накопленные в мире запасы ядерного оружия, то в солнечной системе одной планетой станет меньше, а земной шар расползется по космосу грязным облаком обломков и ядерной пыли... Что в наглухо запаянных, герметических контейнерах содержится такое количество нервнопаралитического газа, которого достаточно, чтобы превратить Землю в один сплошной желтый дом... Что выращенные в ретортах и временно законсервированные там культуры вирусов способны вызвать в мире всеуничтожающие, гибельные пандемии таких болезней, как чума, холера или черная оспа...
Глупо было бы закрывать глаза, отмахиваясь от действительности. Следует признать, что многие из этих «угроз», которыми неутомимо размахивают некоторые любители, к сожалению, в той или иной мере осуществимы. Позиция страуса, прячущего голову, в наше время бурно развивающейся науки и техники была бы не только неуместна, но и опасна.
Да, человечество сейчас на самом деле достаточно сильно, чтобы уничтожить самое себя. А может быть, даже вместе с собой и саму Землю.
Но не меньше у него сил и для того, чтобы выжить. А точнее — продолжать жить. Причем не просто жить, а жить под определенным углом атаки. Под тем углом атаки, который уже сегодня позволяет ему посылать в космос своих первых разведчиков, а завтра, быть может, — и первых переселенцев...
Наматывая вокруг Земли виток за витком, я видел не только Южный Вьетнам, охваченный огнем войны. Я видел и его ближайшее будущее. Вьетнам Северный, демократический. Оно, это будущее, проносилось подо мной и тогда, когда «Союз-3» пролетал над Африкой. Над той, сегодняшней Африкой, десятки государств которой уже добились независимости и строят теперь собственную жизнь в соответствии с желаниями и интересами своих народов.
Я не стану говорить о той могучей волне революционной, антиколониальной борьбы, которую принесли с собой те же самые два с половиной десятилетия, о ширящемся изо дня в день движении активных сторонников мира во всем мире, об огромных успехах во всех областях жизни стран социалистического мира. Каждый из нас читает газеты, слушает радиопередачи, следит за тем, чем живет и к чему стремится сегодня мир.
Пребывание в космосе лишь обогатило мой «земной» взгляд на вещи. Нет, никакой дополнительной информации по части будущего человечества и его колыбели — Земли, конечно же, я там не получил. Космос, как известно, лишь сильно разреженное, сравнимое с полным вакуумом, пространство. Но, забравшись в это разреженное пространство, откуда чуть ближе к звездам и чуть дальше от Земли, начинаешь как бы яснее, как бы отчетливее понимать, что такое земная цивилизация. Все мы, разумеется, знаем, что дважды два — четыре. Но многие ли задумывались: почему? Все мы, разумеется, знаем, что жизнь на Земле не единственный в своем роде феномен на всю вселенную. Но когда сам попадаешь в космос, истина эта касается не только разума, но и сердца. Ее начинаешь чувствовать...
Видишь в иллюминаторы бескрайние россыпи миров и сознаешь, что они просто не могут быть все пустынными. Паришь, преодолев силу земной гравитации, в кабине корабля и понимаешь, что когда-нибудь люди осилят и притяжение Солнца. Задумываешься: когда-нибудь! «Когда-нибудь» — это означает, что сегодняшний день — только начало. Но цивилизация, которая лишь начинает одно из самых грандиозных свершений вселенной — ее освоение, это не дряхлеющая, не умирающая, а юная, только еще накапливающая силы для грядущих побед. Что же касается военных блоков или истощающей ресурсы стран гонки вооружений, то, наверное, история любой цивилизации, в том числе и земной, не может развиваться прямолинейно, без ошибок и заблуждений.
Если рассматривать историю диалектически, как естественное и неизбежное развитие борьбы противоположностей, то в конечном счете все эти «ошибки» и «заблуждения» сыграют роль лишь временных факторов, которые человечество, бесспорно, преодолеет на пути к высшему и лучшему обществу — коммунизму. Бесспорно и другое: у человечества многое уже позади, но это многое — лишь капля, крохотная пылинка в сравнении с тем, что еще не сделано, не достигнуто, даже, может быть, еще не задумано.
Я верю, что все несделанное обязательно будет сделано, недостигнутое — достигнуто, а еще не задуманное — будет и задумано, и начато, и доведено до конца... Погибает лишь то, что отжило свой век. Но погибает старое не само по себе. А в жестокой борьбе. Отсюда и ядерные бомбы, и напалм, и бактериологическое оружие, которым все еще надеется себя спасти капиталистическое общество. И хотя, умирая, этот мир может принести еще множество горя и несчастий, спасти его уже ничто не может. Конец его близок. Несвершенные свершения человечества уже начинают жить. Это подлинно свободное, бесклассовое, никем и ничем не угнетаемое коммунистическое общество на Земле, предсказанное еще Марксом и начавшее воплощаться в жизнь в России Лениным. Это и мечты об освоении вселенной. И то, о чем мы сегодня не только не мечтаем, но даже и не догадываемся, но что когда-нибудь тоже станет действительностью и явью. Одним словом, гарантия бессмертия человечества — в дерзости и размахе его же собственных начинаний и замыслов, в вечном стремлении, осуществив одни цели, ставить перед собой все новые и новые.
«Если окинуть взглядом тысячелетия развития цивилизации, мы увидим, что успешно развивались только те общества, которые были готовы решать сложные задачи, максимально используя все свои технические возможности; и лишь такие общества, такие эпохи двигали цивилизацию вперед». Слова эти принадлежат директору английской астрономической обсерватории Джодрелл Бэнк Бернарду Ловеллу, и с ним трудно не согласиться. Так же как трудно оспаривать утверждение известного американского антрополога Маргарет Мид, которая говорит о том же, но уже с других позиций: «Сама постановка вопроса о возможности жизни на других планетах, помимо нашей Земли, о возможности основать колонии на других небесных телах, о возможности существования других разумных существ меняет место человека во вселенной. Изменяется все. И потому уменьшается человеческое высокомерие, но зато безмерно расширяются человеческие возможности».
С подобными взглядами (а я ссылаюсь на первые подвернувшиеся мне под руку имена — при желании число тех, кто их разделяет, можно бы увеличивать без конца), повторяю, трудно не согласиться. К ним лишь остается добавить: то, что Маргарет Мид называет «постановкой вопроса», на мой взгляд, для большинства людей является не вопросом, а осознанной, хотя еще и не подтвержденной конкретными фактами, истиной; и еще то, что общее развитие всеземной цивилизации определяется в конечном счете не временными задачами тех или иных локальных политических и общественно-социальных структур, о которых говорит Бернард Ловелл, а общей тенденцией человечества никогда не успокаиваться на достигнутом, заложенным в самой его природе неукротимым стремлением продвигаться от замыслов к их свершениям так, чтобы сами свершения затем стали плацдармом для новых замыслов... Насколько неисчерпаема сама вселенная, настолько же неисчерпаема жизнеспособность познающего загадки и тайны человечества. Именно этим, по-моему, и характерен избранный им угол атаки — крутизна подъема, которому практически нет и не будет конца.
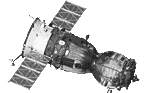 |
Третий день в космосе начался ревом сирены: я проспал.
В смежном с кабиной отсеке у меня был будильник. Но, видимо, сказались наконец первые бессонные сутки: звон будильника не достиг ушей. И тогда, потеряв терпение, с Земли включили сирену: так сказать, «с добрым утром!».
Я был не в претензии: утро и в самом деле оказалось не хуже вчерашнего; я чувствовал себя до краев заряженным энергией, бодростью и великолепным настроением...
«Но физзарядка все же не помешает», — подумалось мне, этого же требовал от меня и график. А график, как уже говорилось, для летчика-космонавта — закон. Сейчас этот закон обязывал посвятить 25 минут физическим занятиям. Я вытащил резину и эспандер и, кувыркаясь в невесомости, разминал в течение 25 минут мышцы...
После завтрака в руках у меня снова оказался фотоаппарат.
Кроме дневного и сумеречного горизонтов Земли, фотографировать в космосе приходится очень многое: отдельные участки суши, снежные покровы гор и предгорий, ледники, различные скопления облаков... Все попросту невозможно бы было перечислить. Земля хочет знать все, что можно. А одним из наиболее простых и в то же время достаточно точных видов информации являются кино- и фотопленка.
Пролетая, скажем, над полуостровом Сомали, я мог наблюдать уникальную по своей наглядности и масштабам картину. Над поверхностью огромной территории как бы свирепствовала злая зимняя метель-поземка. Только остающиеся от нее языки переметов состояли не из снега, как я узнал позднее, а из земли.
Эти мои фотопленки впоследствии были переданы в лабораторию землеведения при Ленинградском университете, где ученые, изучая их, пришли к выводу, что систематическое фотографирование из космоса определенных участков земной поверхности может помочь выявить и понять особенности и закономерности процессов эрозии почв. Ведь помимо того, что зафиксированные мною «языки» размещались в определенном порядке, каждый из них, кроме того, еще отчетливо указывал направление выветривания и переноса почвы — начало «языка» выглядело на снимках более темным, а конец светлее.
Немалый интерес представляют также наблюдение и фотофиксация различных состояний облачности. По форме и расположению облаков, например, нередко можно судить о степени «созревания» зарождающихся циклонов и антициклонов.
Не менее наглядно и точно фотопленка может рассказать об опасных накоплениях снега в горных районах, о назревающих обвалах.
Словом, дела в космосе для фотоаппарата всегда найдутся. И не для семейных альбомов — ради интересов науки, ради запросов практически любой отрасли народного хозяйства...
* * *
Ближе к полудню с Земли на борт корабля поступила радиограмма: мой космический попутчик, беспилотный «Союз-2», в соответствии с программой совершил посадку в заданном районе территории Советского Союза.
«Известие, приятное во всех отношениях», — припомнилась на радостях мне гоголевская строка. Итак, «Союз-2» уже на Земле! Сначала я проводил его в космос, потом встретился там с ним, затем мы дружно и в полном согласии выполнили все запланированные задания по совместному маневрированию и сближению и, наконец, дружески распрощались... И лишь встретить его после космического рейса не довелось... Мой собственный рейс еще продолжался...
Сейчас, когда я вспоминаю эти минуты, вновь задним числом ощущаю их вес и значимость. Совместное маневрирование и сближение двух кораблей! Это начало большой программы по созданию орбитальных станций. Затем первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей — «Союз-4» и «Союз-5». Создание первой в мире экспериментальной космической станции. Это была победа, сравнимая по своему значению разве что только с полетом Юрия Гагарина — первого землянина, приоткрывшего перед человечеством двери в космос. И вот не прошло и восьми лет после его полета, как в космосе уже построено первое пробное человеческое жилье; и строить и обживать его опять же выпала честь представителям нашей страны — летчикам-космонавтам Шаталову, Волынову, Хрунову и Елисееву. (Обскакали-таки «дублеры» своего «лидера»!)
Не все в мире по достоинству оценили тогда эту победу. В газетах тех дней больше писалось не столько о ее принципиальном значении, сколько о том, что Советский Союз, дескать, по-прежнему выигрывает у Соединенных Штатов соревнование в космосе.
Конечно, и тогда нашлось немало трезво мыслящих людей, которые сумели оценить, на каком серьезном и прочном фундаменте строится советская космическая программа. Оценить и сделать соответствующие выводы. Но большинством, повторяю, владело в значительной мере нечто напоминающее спортивную лихорадку; большинство ожидало сенсаций.
И одна из них через полгода удивила мир. Два американских астронавта — Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин — высадились на Луне, совершив по ней кратковременную, но ошеломляющую прогулку. Цель, поставленная еще во времена президентства Джона Ф. Кеннеди, завершилась успехом. «Американцы, в конце концов, обошли все-таки русских» — вот тот чуть ли не первостепенной важности вывод, который рефреном запестрел на страницах западных журналов и газет.
А на мой взгляд, делать выводы было рано.
Чтобы не выглядеть предвзятым, приведу для характеристики американской программы «Аполлон» слова самих же американцев.
«Нам хотелось доказать, что можно достичь недосягаемого», — сформулировал свое отношение к полету один из двух участников лунной прогулки, Нейл Армстронг.
«Дайте мне небольшой кусочек Луны, и я, пожалуй, смогу поведать вам историю солнечной системы», — заявил по этому поводу профессор Калифорнийского университета лауреат Нобелевской премии Гарольд К. Юри.
«США затратили на космические программы 44 миллиарда долларов, из них 24 — только на выполнение проекта «Аполлон». И все-таки люди по-прежнему задаются вопросом: был ли этот полет на Луну действительно необходим? Была ли высадка на Луне всего-навсего бессмысленным трюком или это была великолепная демонстрация беспредельных возможностей человека?» — задал в связи с этим от лица многих своих соотечественников вопрос американский журналист Джин Грегори.
Пожалуй, достаточно.
Оговорюсь сразу же: у меня нет никакой охоты критиковать или тем более ставить под сомнение успехи американцев в деле освоения космоса. Оки бесспорны. Кроме того, мне в числе других довелось принимать у нас в стране одного из трех членов экипажа космического корабля «Аполлон-8», Фрэнка Бормана, впервые в мире облетевшего Луну. А вслед за ним и Нейл Армстронг побывал у нас в гостях.
Был и я с ответным визитом в Соединенных Штатах, где познакомился со многими другими американскими астронавтами. От всех этих встреч у меня остались самые теплые, самые приятные, самые дружеские впечатления.
С такой техникой, которая явилась, по словам того же Грегори, результатом многолетнего коллективного труда и таланта «сотен тысяч ведущих ученых и инженеров США», и с такими людьми, как Армстронг, Олдрин и Коллинз, действительно можно продемонстрировать огромные возможности. Нейл Армстронг оказался прав: вместе со своими товарищами он доказал, что в принципе для человечества, видимо, на самом деле не существует ничего недосягаемого.
Однако риск такой, на мой взгляд, является преждевременным. Да и малооправданным... Изучение планет солнечной системы, в том числе и нашей спутницы — Луны, дело серьезное, сложное и, главное, длительное, кратковременными визитами его не решить. Лучше на первых порах вести такого рода исследования с помощью роботов и управляемой с Земли техники. Но у американцев, судя по всему, иное на этот счет мнение.
«Дайте мне небольшой кусочек Луны», — риторически попросил профессор Калифорнийского университета Гарольд К. Юри, объясняя тем самым необходимость подобных полетов.
И хотя «Аполлон-11», а затем и «Аполлон-12» доставили на Землю не один «кусочек» Луны, а значительно больше, тайны возникновения и истории солнечной системы так и остались пока нераскрытыми. Для этого, видимо, понадобится более солидная программа исследований.
И вот, как бы продолжая ее, с космодромов мыса Кеннеди и Байконура стартовало несколько космических кораблей: «Аполлон-13» и «Аполлон-14» и советские автоматические станции «Луна-16» и «Луна-17». «Аполлон-13» ничем не смог помочь попавшему в затруднительное положение профессору из Калифорнии: его экипаж не только не добрался до Луны, но едва-едва сумел вернуться назад, на Землю. Один из четырех рейсов (я имею в виду те, для которых была запланирована высадка экипажей на поверхность Луны) лишь чудом не закончился катастрофой — вероятный риск оказался равным 25 процентам! Зато обе советские автоматические лунные станции сделали свое дело. «Луна-16», проведя серию наблюдений и захватив образцы грунта, благополучно доставила их на Землю, а космический робот «Луноход-1» несколько месяцев подряд, прокладывая трассы среди лунных кратеров, исправно снабжал Землю обильной и самой разнообразной информацией. Для этого у него в сравнении с американскими астронавтами — масса преимуществ и дополнительных возможностей. Не говоря уже о разнице продолжительности самого «визита»: несколько часов и несколько месяцев! «Луноход-1» хотя и не собирает камни с поверхности, зато снабжен приборами для химического и механического анализа грунта. Обладая автономным питанием от солнечных батарей и управляемый с Земли, он берет пробы грунта, чтобы, проделав прямо на месте все необходимые химические и физико-механические анализы, тут же передать их результаты на Землю...
Таковы факты.
А теперь еще одна оценка — более поздняя, когда уже окончательно успокоились и улеглись первые головокружительные волны опьянения успехом: «Если мы хотим в будущем осуществить широкую программу космических исследований, — заявил вице-президент космического отдела фирмы «Норт америкэн Рокуэл» Боб Грир, — мы должны быть более бережливыми в достижении наших целей, чем раньше. Вернемся, например, к программе «Аполлон». Тут мы увидим, как дорого обошлись нам некоторые детали — и из-за того, что мы взяли на себя обязательство высадиться на Луне к 1970 году, и потому, что многое тогда было технической новинкой. С тех пор, однако, мы поумнели. Мы научились более реально анализировать наши требования и наши технические возможности».
Грир знает, о чем говорит; его фирма занята сейчас разработкой конструкции будущей орбитальной станции, которую, по прогнозам НАСА, американцы намереваются запустить в космос в 70-е годы.
И тут-то, как мне кажется, уместнее всего сказать несколько слов об основных тенденциях нашей и американской космических программ, выявившихся за последние годы.
Рисковать, не считая техники, людьми ради национального престижа и сомнительного первенства не самый лучший подход в таком деле, как освоение космоса. И многие американцы давно это поняли. Иначе вряд ли журналист Грегори решился бы от их имени задать вопрос, не была ли высадка на Луне «бессмысленным трюком». Не стану возвращаться к эпитету «бессмысленный» — кому не ясно, что полеты «Аполлона-11», «Аполлона-12», «Аполлона-14» успешно решили некоторые задачи космонавтики. Скажу одно: процесс пересмотра позиций и переоценки целей, судя по всему, начался и в рамках самой НАСА. Во всяком случае, специально запланированы запуски космических кораблей и их длительное пребывание на околоземной орбите. Результаты этих полетов, как сообщает американская пресса, намечено использовать при разработке и создании орбитальной станции.
Что же касается нашей собственной космической программы, мы всегда считали главной ее задачей на ближайшие годы именно то, к чему так или иначе приходят сегодня и американцы, — исследование с помощью пилотируемых кораблей околоземного пространства и создание надежных, длительно действующих орбитальных станций. Полеты по программе «Союз» дают наглядное представление о той планомерности и последовательности, с которыми мы идем к поставленной цели. Известно, что сборку таких станций выгоднее всего осуществлять прямо в космосе из стандартных блоков, последовательно запускаемых с Земли. Корабли типа «Союз» уже обладают в этом смысле необходимыми качествами: хорошей маневренностью, надежными системами автоматической и ручной стыковки, отличными условиями для работы и отдыха экипажей. Прообраз первой такой пилотируемой орбитальной станции, как я уже говорил, был создан именно на этой основе — посредством стыковки в космосе кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Дальнейшие полеты кораблей «Союз» преследовали те же цели: сварка в космосе, отработка совместных маневров трех кораблей («Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8»), проверка надежности техники и длительности пребывания человека в космосе («Союз-9»). Все это, на мой взгляд, убедительно подчеркивает ту ответственность и дальновидность, с которой закладывались основы нашей космической программы и которые сегодня неуклонно приносят свои первые плоды.
Но этим, бесспорно, наша космическая программа далеко не исчерпывается. Исследование солнечной системы интересует нас не меньше, чем американцев. Однако мы считаем, что исследования эти целесообразнее и эффективнее проводить с помощью автоматических аппаратов. Кстати сказать, ценность автоматов-разведчиков неизмеримо возрастает за счет того, что они действуют не только по заранее запрограммированному плану, но и по командам с Земли — так, будто в их кабинах за пультом управления сидит человек. Причем не один, а целая группа ученых и специалистов различного профиля!
«Союз-9», «Луна-16», «Луноход-1»... Вот он, этот сегодняшний день советской космонавтики! А тогда, находясь в кабине своего «Союза-3» и только что мысленно распрощавшись с успешно завершившим посадку беспилотным «Союзом-2», я, разумеется, не знал, что наши с ним совместные маневры в космосе приведут со временем к столь блестящим результатам.
Тогда я знал одно: «Союз-2» сел, но «Союз-3» полет продолжает.
А раз так, пора было и пообедать.
Обед у меня в тот день выдался роскошный: вобла, куриное филе, печенье, какао с молоком и чернослив. Все, конечно, либо в жидком, либо в пастообразном виде, все в тубах.
* * *
Покончив с обедом и немного отдохнув, я вновь заступил на космическую вахту.
Корабль начал свой 36-й виток, и в соответствии с программой мне предстояло перевести его с помощью ручного управления на другую орбиту. Исходя из показаний датчиков, я сориентировал его в пространстве и включил бортовой двигатель. После этого маневра необходимо было еще раз сориентироваться, но уже на Солнце, и произвести затем стабилизацию корабля в нужном положении.
Первая ориентация необходима для того, чтобы тяга двигателя оказалась направленной в нужную для изменения траектории полета сторону. Вторая обуславливалась тем, что электросистема корабля питалась от установленных на нем солнечных батарей: их плоскость должна находиться под прямым углом к лучам Солнца.
Выйдя на новую орбиту, я запросил с Земли ее параметры: они полностью соответствовали расчетным.
С каждым часом я чувствовал, что все лучше и лучше осваиваюсь с кораблем. Давно остался позади начатый еще на космодроме процесс «вживания» в него. Теперь я уже не вживался, а скорее сживался с ним... «Эх, полетать бы так недельку, а то и две! — думал я. — А то только-только начнешь привыкать, только-только вработаешься — и на тебе, пора на Землю!»
До Земли, правда, было еще далеко; но четверо суток на таком, не боясь слова, скажу, комфортабельном корабле и в самом деле до обидного мало. Да и почему, собственно, не удлинить полет? Дополнительного расхода топлива он не требует — ракета-носитель, сделав свое дело, давно сгорела; витки, следовательно, накручиваешь фактически бесплатно, за счет даровой теперь силы инерции... А воблу — что на Земле переводить, что в космосе!
Размышления эти я, конечно, держал про себя; радировать просьбу о продолжении полета — штука бессмысленная; в лучшем случае предложили бы принять таблетку аспирина. Как жаропонижающее... И все же, отправляясь в смежный отсек укладываться (точнее — «спеленываться») спать, я искренне жалел, что завтрашний день — последний день моего пребывания в космосе....
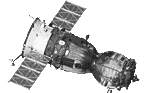 |
Четвертые сутки на орбите... Пятьдесят витков... Два с гаком миллиона километров... Если бы по старинке, пешком — не хватило бы и целой жизни. Даже если идти круглые сутки, изо дня в день, из года в год — и так подряд лет с полета! Все равно не хватило бы...
А скорости, если не смотреть на Землю, так и не чувствуешь. Но на Землю, конечно, смотришь во все глаза! Во-первых, интересно; во-вторых, работа.
Пролетаю над Атлантическим... Красота — взгляда не оторвешь: какое-то буйство красок. При такой скорости быстро меняется угол падения и отражения солнечных лучей, в связи с этим меняется и цвет океана.
Сравнить попросту не с чем. Любое, пусть самое качественное цветное фото — слишком грубо. Глазами границу красок видишь, а ткнуть пальцем, как говорится, некуда — слишком мягок переход, слишком плавен; и есть граница, и нет ее.
А вот уже в иллюминаторе появилась Африка. Четко различима длинная, на несколько десятков километров, сплошная полоса дыма: горят леса. Особенно много очагов лесных пожаров наблюдалось в те дни в Южной Африке...
А вот и тайга; наша, сибирская... Здесь, к счастью, все в порядке: ни огня, ни дыма... Где-то бродят по ней, необъятной, сейчас геологи; ищут сибирскую нефть, уголь, руду... Кому-то повезет, а кто-то и с пустыми руками вернется. Сибирь хотя и не космос, а пешком и там много не выходишь...
«А ведь скоро, — подумалось вдруг мне, — земную кору будут просвечивать, как металл рентгеном, с помощью электромагнитного излучения. И все полезные ископаемые как на ладони. Дело только за орбитальными станциями...»
И тут мне вновь вспомнилась сурдокамера; сомнения, закравшиеся было тогда в голову в ее стенах, — насколько своевременны те колоссальные затраты, которые всаживает сегодня человечество в космические программы, когда на самой Земле столько еще не разрешенных, требующих огромной концентрации сил и энергии проблем?
Помните: «Космос или Сахара»?.. Ответа однозначного, конкретного ответа, я тогда так и не нашел. Пусть, мол, судят потомки...
И только тут, на орбите, я со всей отчетливостью и ясностью понял, что «Космос» и есть «Сахара». Хоть в прямом, хоть в переносном смысле...
Разве в Сахаре нет каменного угля, металлических руд или той же нефти? А подземные пресные моря и озера, в которых так нуждается этот опаленный солнечным зноем край? Но попробуй разыщи под безбрежными, накаленными до 50—70 градусов по Цельсию песками все эти залежи, месторождения, озера и моря... Там геологам придется, пожалуй, похлестче, чем у нас в Сибири. Да и где их взять, этих геологов, если большинство вновь образовавшихся государств Африки только-только успели взяться за свое народное хозяйство...
Да и разве в одной только Сахаре, разве только в карте полезных ископаемых Земли дело? А связь? Прямой прием в любой точке Земли передачи по любому действующему телевизионному каналу; телефонные переговоры со всеми городами и населенными пунктами планеты без помощи междугородных и международных коммутаторных станций; коротковолновые радиопрограммы, которые без помех доходят до антенн каждого радиоприемника... А метеорология?
Долгосрочные, в глобальном масштабе прогнозы погоды; своевременные, сверхоперативные предупреждения о направлениях ураганов и циклонов; сводки гроз, штормов, полярных и арктических метелей... Служба наблюдения и предупреждения о стихийных бедствиях: землетрясениях, извержениях вулканов, лесных пожарах, наводнениях... Навигация, контролирующая каждую трассу летящего самолета или плывущего корабля... Картография с детальной разработкой любого участка земного шара — характер почв, растительность, обводнение... Разносторонняя, своевременная и точная информация для промышленности, гидромелиорации, сельского хозяйства. Скажем, степень созревания хлопка или цитрусовых, контуры мест, зараженных сельскохозяйственными вредителями, миграция промысловых рыб в морях и океанах... Космическая медицина, биология... Новые технологические методы в условиях вакуума и невесомости; производство сверхчистых металлов, новых сплавов, идеальной формы шарикоподшипников... Да разве все перечислишь, разве обо всем скажешь!
Как ни странно на первый взгляд, но полеты пилотируемых космических кораблей открывают самые широкие, какие только можно себе представить, возможности для исследования не столько самого космоса, сколько в первую очередь самой Земли. А еще более широкие возможности скрываются как раз там, куда до сих пор даже и не заглядывало дотошное человеческое воображение.
"Космос или Сахара»? Оказалось, что тогда, в сурдокамере, вопрос был сформулирован мной неверно. Точнее говоря, объективно вопроса никакого и не было. И «Космос» и «Сахара» — вот как следовало ставить эту проблему!
Для того чтобы ясно осознать это, мне потребовалось целых четыре года, потребовалось подняться в космос, чтобы собственными глазами увидеть оттуда и саму Землю и те возможности, которые несет с собой для ее процветания и дальнейшего развития космонавтика...
Что ж, все, пожалуй, естественно и закономерно. Годы обогатили знанием, а орбита «Союза-3» расширила горизонт; если далеко видно с горы, то из кабины космического корабля, выходит, видно еще дальше. И дело, быть может, даже не в высоте орбиты, не в массе накопленной за истекшие годы информации — сам факт полета, мне кажется, послужил своего рода толчком, импульсом для какого-то качественного сдвига в сознании: Земля для меня стала одновременно и меньше и больше, а взглянуть на нее довелось как бы сразу в двух ракурсах — по-земному и по-космически...
* * *
А сутки, последние, четвертые, сутки на орбите, между тем подходили к концу; близился момент посадки...
В 19 часов 03 минуты по московскому времени я доложил на Землю, что вся намеченная на этот день — а значит, вместе с тем и на весь полет, если не считать самого приземления, — программа научно-технических исследований и экспериментов выполнена.
Не стану перечислять, из чего складывалась сама программа этого последнего, четвертого, дня, — все, в общем-то, то же самое, что было и в предыдущие трое суток. Ничего нового, о чем бы стоило рассказать. И в то же время для меня самого все по-прежнему оставалось — будто и не прошло после старта трех с лишним суток! — новым, захватывающим, исполненным острого, неиссякаемого интереса.
Что программа! Программу, ту программу, которую составили на Земле для этого полета, я завершил. Но сколько еще осталось незавершенного, недоделанного, даже еще неначатого и незадуманного?! Вселенная неисчерпаема, и ее освоение — дело, конечно, не одного поколения.
Я всматривался сквозь иллюминатор в угольно-черные, бескрайние пространства космоса, в бесконечную, не имеющую ни числа, ни границ россыпь разбросанных там миров и думал о тех поколениях человечества, которые неизбежно проложат к ним свои космические трассы будущего, подступы к которым сегодня прокладываются через такие вот, вроде моей, орбиты. Я думал о том, какими они будут, эти грядущие поколения...
В последнее время, видимо по примеру Запада, у нас тоже стало как бы модным обсуждать на все лады так называемую проблему "отцов и детей», противопоставляя последних первым в привычках, в образе жизни и мышления, в переоценке ценностей и идеалов. Не знаю, существует ли на самом деле такая проблема. Думаю, что вряд ли. На мой взгляд, было бы куда более правильным говорить не о надуманном, зачастую просто высосанном из пальца противопоставлении поколений, а об их реально существующей преемственности.
Конечно, если сравнивать современную молодежь с тем, как выглядело, чем жило и о чем мечтало в свое время поколение, к которому принадлежу я, разницу — и притом значительную! — разглядеть нетрудно. Но что это доказывает и о чем, в сущности, говорит? Лишь о том, что страна за эти годы прошла огромный исторический путь, изменив не только материальный, но и в определенной мере духовный облик людей. Жизнь стала богаче, просторней; небывало раздались вширь и возможности человека. Разумеется, изменились вместе с этим и какие-то привычки, произошли неизбежные сдвиги в образе жизни, возникли новые моральные ценности, обогатилось мышление, прибавилось и примеров для подражания, и целей, ожидающих своего осуществления. Но, во-первых, изменения эти коснулись не только «детей», но и в той же мере «отцов». Больше того, именно дела и свершения старшего поколения сделали мир таким, каков он сегодня есть. А во-вторых, общественно-социальные идеалы и моральные принципы нашего общества остались все теми же, прежними, постоянно обогащаясь и накапливая вес с течением времени.
Мое поколение, молодежь тридцатых-сороковых годов, жило в несравнимо более суровых, трудных условиях. Многое из того, что сегодня дается легко, чуть ли не само идет в руки, в те времена было или вообще недоступно, или заперто за семью замками. Завидовать здесь, бесспорно, нечему, а вот задуматься есть о чем.
Нас, живущих тогда зачастую в фабричных и заводских общежитиях, с одним легким чемоданом под койкой, ничто не привязывало к насиженному месту. Нам, как говорится, нечего было терять. Да и не было, в сущности, тогда этих насиженных-то мест. Жили как бойцы в походе: менялась линия фронта — снимались, чтобы оказаться в гуще событий, и мы. Жили раскованно, подвижно, ртутно, всегда готовые откликнуться на любой призыв страны, отправиться туда, где трудно, где нужны люди.
Сегодняшняя молодежь живет в совершенно иных условиях. Вместо общежитий — благоустроенные квартиры; вместо чемодана под койкой — порой чуть ли не аукционное обилие нажитых родителями вещей. Иной и захотел бы поехать, скажем, на какую-нибудь стройку по путевке комсомола или так, как говорится, просто по зову сердца, да жаль расставаться с хорошо налаженной жизнью, с домашним уютом, с привычными развлечениями и удовольствиями. Но «жаль» не всегда то слово; подчас требуется куда более жесткий эпитет — в тех случаях, например, когда собственное «я» бесцеремонно противопоставляется интересам общества: с какой, дескать, стати забираться куда-то к черту на кулички, мне и здесь неплохо!
Конечно, я имею в виду лишь некоторую, незначительную часть молодежи, тех, у кого от легкой, без забот и обязанностей, жизни, лишенной вдобавок сколько-нибудь систематического, серьезного воспитания, укореняются исподволь потребительские взгляды, бездумность и легкомыслие, духовная апатия, перерастающие подчас в откровенный, циничный эгоцентризм. Кто с детства привык к тому, что любое желание, а то и просто прихоть удовлетворяются чуть ли не беспрекословно, кто не знает, что такое борьба с трудностями, одоление препятствий на пути к цели, да в придачу еще не обладает ни самостоятельностью ума, ни характером, таким без посторонней помощи трудно устоять на ногах. Они нередко утрачивают чувство реальности, способность критично относиться к себе, начиная видеть в окружающих, в самом обществе, наконец, только средства для удовлетворения собственных нужд и запросов. Соотношение «я — мы» искажается, сдвигаясь в сторону пренебрежительного: «я — они».
Однажды начавшись, процесс этот обычно не останавливается, а продолжает развиваться, доходя до своего логического завершения: вначале сужается круг общественно значимых, перспективных интересов, затем одна за другой постепенно рвутся связи с людьми, и, в конце концов, наступает неизбежная самоизоляция. Индивидуальность, в смысле самобытности личности, уступает место индивидуализму. Причем в самом дурном, в самом вульгарном значении этого слова. Сколачиваются всякого рода микроколлективы и группки, пытающиеся прикрыть собственную внутреннюю пустоту и никчемность претензиями на «непонятость», на «несопоставимость»: мы-то, дескать, понимаем, что к чему, и не желаем раствориться, растерять себя в той рутине, которой живет посредственное большинство; мы, мол, хотим жить ярко, броско, красиво.
Но чтобы жить, говоря этим же языком, красиво, надо знать, где искать красоту. Повязать шею вместо галстука пестрым лоскутом или отпустить волосы до лопаток, претенциозно молоть чушь о конформизме или некоммуникабельности, якобы разъедающих наше общество, просиживать штаны в ресторанах — значит разменять жизнь на вздор и пустяки, подменить ими причастность к подлинно большим свершениям и событиям своей эпохи, которые, в свою очередь, как раз и делают большую жизнь. Жизнь броская становится бросовой, а неумное, но неуемное, желание позировать перед окружающими и перед собой, набить во что бы то ни стало себе цену неизбежно ведет к подмене реальных ценностей дутыми, к духовному опустошению, и в итоге — к искалеченной, сломанной судьбе.
Разумеется, я понимаю, что назвал далеко не все причины, порождающие подобные явления. Бесспорно, что в их основе лежат не только просчеты домашнего воспитания, отсутствие житейской закалки или та сравнительная легкость, с которой нынешней молодежи достается то, о чем нам в свое время чаще всего приходилось лишь мечтать. Упоминая обо всем этом, я просто хочу подчеркнуть, что в сложном, тонком и многостороннем деле, каким является воспитательная работа с молодежью, ничто нельзя упускать из виду. Мелочей, от которых можно хотя бы временно отмахнуться, отложить их на завтра, здесь нет и не может быть. Соблазн, который легко сумеет преодолеть один, для другого может оказаться трясиной, которая затягивает с головой. Любой человек обладает изначально своим собственным, вполне определенным «запасом прочности», силой сопротивляемости на те или иные вредные влияния. Одному, чтобы свихнуться, достаточно какого-то одного фактора, для другого необходимо особо несчастливое стечение целого ряда обстоятельств, но и те и другие, если им оказать своевременную поддержку, способны вновь стать на верный путь — моральная стойкость, к счастью, не остается неизменной на протяжении жизни, запасы душевной прочности человека растут вместе с его собственным духовным ростом. Важно лишь вовремя обратить внимание на то, что может затормозить или отклонить от нормы этот процесс...
Не стоит, конечно, думать, будто размышления мои вызваны каким-то особым беспокойством или тревогой по поводу нашей молодежи. Никаких оснований для этого, на мой взгляд, нет. Но, говоря об общем, нельзя упускать и частности. Я имею в виду не угрозу, сформулированную в старину поговоркой «Паршивая овца стадо портит», просто я хочу подчеркнуть, что любой свихнувшийся парень или сбившаяся с дороги девушка — живой человек. И его судьба — не только его личное дело; ответственность за нее лежит на нас всех. По крайней мере, должна лежать. Ведь никто не оставит без помощи больного. А изломанная, искалеченная мораль, неверно понятые принципы, дурные, извращенные склонности и вкусы — та же болезнь...
Что же касается современной молодежи в целом, смело можно сказать: она не просто переняла все то лучшее, чем по праву гордится старшее поколение, но и творчески обогатила доставшиеся ей в наследство черты характера, обычаи, нравы и традиции. Конечно, не все, что было типично для тридцатых годов, сохранилось до наших дней. Многое со временем отпало, отмерло за ненадобностью. Что-то, наоборот, возникло заново... Жизнь не топчется на месте, а неутомимо идет вперед, потому-то всякой эпохе присущи собственные особенности и характеристики. Но главное, стержневое, то, что цементирует наше общество, остается в своих основных, определяющих чертах нетленным; именно здесь и пролегает фарватер преемственности поколений.
Я хорошо помню идеалы своей юности, людей, дела и судьбы которых воплощали тогда для нас героику, пафос и торжество строительства первого в мире социалистического государства. Папанинцы, челюскинцы, первые Герои Советского Союза Ляпидевский и Каманин, перелет Чкалова через Северный полюс, пионеры — покорители просторов пятого океана — Громов, Коккинаки... А рядом с ними имена героев труда — Стаханова и Бусыгина, сестер Виноградовых, Демченко и Ангелиной, строителей Турксиба, Магнитогорска, Комсомольска-на-Амуре... Их было много тогда в авангарде знаменательных событий и свершений тех лет, но всех их объединяло одно общее — неотделимость личных замыслов и целей от замыслов и целей всего народа. Никто из них не искал славы и почестей лишь для себя; их мужество, их воля к победе ни в коей мере не напоминали дерзость и отвагу действующих за свой страх и риск одиночек — они шли со всеми, хотя и впереди всех. Они боролись не во имя личной судьбы, не ради карьеры, а за общее, важное и дорогое всем дело.
И мое поколение, примеряя на себя их жизнь, их подвиги, хорошо сознавало, что лежит в их основе не индивидуальное честолюбие, а духовное сродство с народом, неразрывное, органичное единство личного с общественным.
Честолюбие не тщеславие, честолюбие — полезная вещь. Оно мобилизует человека, делает его целеустремленнее и собраннее, группирует энергию и волю, не давая распыляться по мелочам. Но само по себе честолюбие слепо, оно нуждается в руководящей им цели, и если она эгоистична, если преследует лишь собственные, сугубо корыстные, безразличные для общества интересы — жизнь легко может оказаться пустоцветом. Бесстрашных, упорных, честолюбивых людей всегда и во все времена хватало, но если они действовали и боролись лишь ради себя, имена их чаще всего попадали не на почетные страницы истории, а в летопись судебной или скандальной хроники.
Те же, кому в свое время подражали и с кого брали пример мы, всегда олицетворяли стремления и чаяния всей страны. Партия и правительство ставили очередную цель, государство обеспечивало ее достижение технически и материально, а лучшие, наиболее одаренные люди прокладывали к ней первые, самые трудные подходы. Единство личного и общественного, всенародность воплощаемых замыслов, коллективная значимость и вес преследуемых интересов — все это позволяло нам ясно видеть суть происходящих на наших глазах событий, разделять общую заинтересованность в их исходе, помогало становлению личности, ее росту с верно и безошибочно выбранным вектором. Романтика подвига и повседневная жизнь шли как бы рука об руку, дополняя и взаимообогащая друг друга. Героика черпала силы в своей тесной, неразрывной связи с народом, в единстве общих замыслов и целей, а мы, мысленно сопереживая и участвуя в знаменательных свершениях тех лет, перенимали лучшие черты и качества самих героев.
Эта сопричастность, острая личная заинтересованность в судьбе всего, что происходит в любом уголке твоей страны, и определяет, по-моему, главное русло преемственности поколений. А вместе с тем ее необходимость и историческую закономерность. Общество, если оно не распадается, не дряхлеет, а неуклонно движется вперед, такое общество наращивает свою жизнеспособность не только за счет притока новых, свежих сил, но и, конечно же, за счет накопленных завоеваний прошлого.
Изменилось ли в этом смысле что-нибудь с тех пор? И могло ли измениться? Вопросы, на мой взгляд, из тех, которые вряд ли требуют сколько-нибудь серьезного ответа. Судьбы каждого из нас по-прежнему неотделимы от судьбы всей страны, а наши личные стремления и цели точно так же, как и прежде, тесно связаны и взаимозависимы от целей и стремлений всего народа. И те, кому сегодня двадцать, понимают это не хуже тех, кому было двадцать четверть века назад. И если мое поколение убедительно доказало свою духовную зрелость, сражаясь плечо к плечу вместе с отцами и старшими братьями на фронтах Отечественной войны, то теперешняя молодежь столь же наглядно утверждает ее на передовых грандиозного мирного строительства, охватившего всю страну от края до края. Семена, посеянные в семнадцатом, дают от поколения к поколению все более обильные всходы, все более зрелые плоды. Так оно, думалось мне, и положено.
* * *
...А «Союз-3», описывая последние витки, все так же бесшумно несся в просторах космоса, и под ним все так же беззвучно проплывала Земля, та Земля, на которую я должен завтра вернуться, чтобы — в силу закона преемственности поколений — передать ей очередную крупицу накопленного в полете опыта. Опыта не только технического, но и — что, на мой взгляд, не менее важно — духовного...
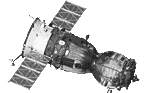 |
Последние записи бортжурнала... Все, что нужно, сделано. Земля скоро скажет: пора!
Оглядываю еще раз все закоулки отсека: все ли взял, не забыл ли чего-нибудь: ведь ему предстоит сгореть при входе в плотные слои атмосферы. Космос пока скуповат в отношении нашего брата, космонавтов, и неохотно расстается с тем, что попало к нему в лапы с Земли. Отсек — это цена расставания с ним.
На Землю вернется лишь та часть корабля, котоpyую принято называть спускаемым аппаратом.
Нет, все в порядке, и, конечно же, ничего не забыто. Все необходимые вещи и аппаратура давно увязаны и закреплены в пилотной кабине, там же и космическая «контрабанда» — переносная портативная телекамера. Мысленно попрощавшись, перебираюсь туда и сам.
Через несколько минут приходит команда с Земли: посадка!
Программа спуска на кораблях «Союз» может включаться автоматически по радиоприказу с Земли, и вручную. Я включаю программу сам. Видно, как корабль, послушно выполняя ее команды, начал поворачиваться вдоль оси, чтобы направить сопло тормозного двигателя в противоположную траектории полета сторону. Для того чтобы сойти с орбиты и начать снижение, необходимо погасить скорость до расчетной величины.
Включился тормозной двигатель. «Союз-3», заканчивая свой четырехсуточный рейс, пошел на посадку. Впрочем, теперь это уже не тот «Союз-3», который еще несколько минут назад несся в просторах космоса; теперь это лишь отделившийся от него спускаемый аппарат; остальное сгорит в воздухе...
Вошел в плотные слои атмосферы. На термометре все те же семнадцать по Цельсию — система терморегулирования в кабине работает как часы. А ведь на обшивке сейчас несколько тысяч градусов! Правда, «Союз» не «Восток»... У тех спуск был не управляемый, а баллистический. Обшивка от трения с воздухом в буквальном смысле слова пылала, да и перегрузки доходили до 8—10 единиц. А здесь перегрузки значительно меньше, порядка 4—5 единиц.
Когда я вновь заглянул в иллюминатор, Земля была уже совсем рядом. «Мать честная! — мелькнуло в голове. — Да где же я ахнусь?! До Земли рукой подать, а подо мной еще только Аравийский полуостров!» Но, взглянув затем на приборы, я успокоился: высоты было более чем достаточно...
Опять, как в первые минуты после старта, подвело зрение. Весь спуск — от включения двигателя до приземления — занимает каких-нибудь полчаса. Глазам же, для того чтобы реадаптироваться, перестроиться снова с космических на земные условия, этого мало. Они все еще, так сказать, настроены на «космическую дальность». Привыкнув видеть Землю с высоты орбиты, какие-то семь-восемь десятков километров показались мне сгоряча сущим пустяком. Не дотяну, дескать, при такой высоте туда, куда надо, сяду где-нибудь на склонах Иранского нагорья. На самом же деле все шло, как положено. Система управления исправно выдавала команды, ориентируя аппарат так, чтобы обеспечить посадку точно в заданном районе. Но, хотя я следил за показаниями приборов и отчетливо сознавал, что спуск проходит без отклонений, глаза по-прежнему отказывались принимать очевидное: Земля все еще казалась мне какое-то время значительно ближе, чем это было на самом деле...
Резкий рывок, удар — и сразу же тишина. Я понял, что сработала парашютная система. До приземления теперь остались считанные секунды... А вот и оно — едва ощутимый мягкий толчок. Рейс закончен.
И только тут я почувствовал, как сжалось на какой -то миг сердце, а в душу внезапно ворвалась жаркая волна радости: «Земля! Черт побери, выходит здорово я по тебе соскучился, Земля! Достаточно оказалось лишь коснуться ее, чтобы сразу сообразить это...»
Я быстро переоделся, открыл люк и ступил на землю. Она мне показалась мягкой, как поролон... Сделал несколько шагов — ну, совсем ковер. И ноги будто ватные; и вместо суставов — металлические шарниры — последнее напоминание оставшейся в космосе невесомости. Впрочем, через несколько минут все прошло. Чувствую, земля, как ей и полагается, опять обрела свою привычную твердость, неколебимость, прочность — можно идти...
А навстречу уже бежали люди...
Первым подкатил какой-то взъерошенный, изрядно запыхавшийся в спешке парень.
— Секретарь комсомольской организации совхоза, — соскакивая с мотоцикла, отрекомендовался он.
«Ну что же, — мелькнуло у меня в голове, — этого следовало ожидать». А вслух сказал:
— Значит, комсомольцы, как всегда, впереди?!
Это были первые мои слова на Земле. Как бы в ответ на недавние раздумья там, на орбите, Земля выслала встретить вернувшегося из космоса человека одного из тех, чьему поколению предстоит продолжать то, что начали мы.
Летопись космического десятилетия
(12 апреля 1961—12 апреля 1971 года)
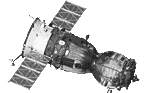 |
Этот день объявлен Всемирным днем авиации и космонавтики.
Корабли сближаются до расстояния 5 км. Между ними устанавливается прямая радиосвязь.
Первым выходит на орбиту Валерий Быковский. Его полет продолжается 5 суток. Он совершает 81 виток вокруг Земли.
«Восток-6» пилотирует первая и пока единственная женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она совершает 48 витков вокруг Земли.
Корабли сближались до расстояния нескольких метров.
В последующий год по программе «Джемини» было запущено в космос еще несколько кораблей — американцы отрабатывали стыковку в космосе пилотируемого корабля с последней ступенью ракеты-носителя.
3
3
В ходе полета выполнялись различные технические эксперименты, в том числе и сварка в космосе.
Однако третья американская экспедиция на Луну не была удачной. В ночь с 13 на 14 апреля произошла авария в двигательном блоке корабля, которая помешала высадке астронавтов на Луну. 17 апреля «Аполлон-13» приводнился в Тихом океане.
К моменту подписания в печать этой книги (март 1971 года) «Луноход-1» проделал по Луне путь длиною более 7000 м. Многократно по всей трассе движения исследовал грунт и результаты физико-механических и химических анализов передавал на Землю.
С помощью «Лунохода-1», управляемого с Земли, изучалась топография лунной местности. По результатам обработки информации подготовлены топографические и геологические карты маршрута.
Получены интересные данные по радиационной обстановке на поверхности Луны и обширная информация о космическом корпускулярном излучении.
Кроме того, «Луноход-1» использовался как база для изучения отдаленных районов вселенной с помощью рентгеновского телескопа.
В течение четырех месяцев все системы «Лунохода-1» работали нормально. Исследования Луны продолжаются.
* * *
Наша краткая летопись космического десятилетия далеко не полна. Всего за это время стартовало с Земли более 1500 космических устройств самого разного назначения и перечислить их все не представляется возможным. Кроме того, следует напомнить, что освоение человеком космического пространства началось еще до полета Юрия Гагарина запуском первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Это был наш советский спутник. В Советском Союзе впервые был произведен запуск искусственного спутника Земли с живым существом на борту — собакой Лайкой, первая ракета в сторону Луны — «Луна-1». Автоматическая станция «Луна-3» 7 октября 1959 года впервые в мире передала на Землю фотографии обратной стороны Луны, невидимой с Земли.
Нет в нашей летописи упоминаний о многих советских космических аппаратах, в том числе о исследовательских спутниках типа «Электрон» и «Протон», метеорологических спутниках «Метеор», спутниках связи «Молния-1» и др., а также спутниках «Интеркосмос», запущенных по программе международного сотрудничества по изучению околоземного космического пространства. Не упомянули мы и многие американские спутники и автоматические станции такие, как «Рейнджер», «Сервейор», «Лунар Орбитер» и другие. Запуски автоматических устройств в космос за эти годы стали обычным делом. Автоматы прокладывают надежную дорогу человечеству в космическое пространство.
(support [a t] reallib.org)