"Искатель. 1965. Выпуск №6" - читать интересную книгу автора
БОЛЕЗНЬ И ХАРАКТЕР
Мрачный, сердитый слонялся Мыкола по больнице. Костыли будто аккомпанировали его мыслям. Сухо пощелкивали, приговаривая в такт: «Так-то, брат! Так-то, брат!»
Однажды по рассеянности он забрел в женское отделение.
Там он увидел девочку, которая читала книгу, пристроившись у окна в коридоре. Она сидела на табуретке, согнувшись, уперев руки в колени. Раскрытая книга лежала на другой табуретке перед нею. Поза была не только странная, но и очень неудобная.
Мыкола в изумлении остановился. Он довольно долго простоял так, пока девочка, наконец, удостоила заметить его присутствие.
Над книгой поднялось измученное, почти серое лицо с прилипшими ко лбу мокрыми прядями. Дыхание было затрудненное, со свистом. Узенькие плечи поднимались и опускались, в мучительном усилии проталкивая воздух в легкие.
— Ну, что ты стоишь? — спросила девочка сердито, но с расстановкой, потому что жадно хватала воздух ртом. — Не видишь разве — у меня приступ?
Мыкола еще больше удивился:
— А ты читаешь.
— Я читаю, чтобы отвлечься.
— Но ты же плачешь, — робко возразил он, видя, что по лицу девочки стекают слезы.
— Фу, какой глупый! Я плачу не о себе. Я плачу о бедной Флоренс.
И она с раздражением перевернула книгу обложкой вверх. Там стояло: «Диккенс. Домби и сын».
Считая, видимо, что все ясно, она снова уткнулась в книгу. Через две или три минуты кинула через плечо:
— Ты еще не ушел?
Смущенный Мыкола запрыгал обратно на своих костылях.
На следующий день, однако, он вернулся. Что-то было в этом непонятное, какая-то загадка. А когда он натыкался на загадку, ему хотелось немедленно же ее разгадать.
Девочки в коридоре не было.
— Кого шукаешь, мальчик? — Грудью вперед из дверей выплыла молодая санитарка, очень веселая и такая лупоглазая, что можно было принять ее за краба-красняка.
Озираясь по сторонам — деру бы дал, если бы не эти костыли, — Мыкола пробурчал:
— Була тут… кныжку чытала…
— А, ухажер пришел! До нашей Надечки ухажер пришел! — радостно, на весь коридор, заорала санитарка.
Ну и голос, пропади ты вместе с ним! Граммофон, а не голос!
Мыкола начал было уже разворачиваться на своих костылях, но громогласная продолжала неудержимо болтать:
— В палате Надечка твоя, в палате! Консилиум у нее. Ты думаешь, она какая, Надечка? Про нее в газетах пишут. Умерла было раз, потом обратно ожила. Клиническая смерть называется.
Она произнесла «клиническая» с такой гордостью, будто сама умерла и ожила. Мыкола совсем оробел. Стоит ли связываться с такой девчонкой? Еще от главного врача попадет. Консилиум! Клиническая! Видно по всему, цаца большая.
Но вечером, ужасно конфузясь, он в третий раз притопал к дверям женской палаты, хотя и знал, что это запрещено.
Вообще-то Мыкола не интересовался девчонками. В окружавшем его разноцветном, необжитом, таившем так много радостных неожиданностей мире было, на его взгляд, кое-что поинтереснее: море, например, рыбалка, военные корабли.
Но «клиническая» Надечка, бесспорно, выгодно отличалась от других девчонок. Умерла и ожила! Это все-таки надо было суметь. И потом он тоже умирал и ожил. В какой-то мере это сближало их.
Девочка сидела на подоконнике, откинувшись, с книгой в руках.
Неожиданно Мыколу встретили по-хорошему.
— Флоренс и Уолтер полюбили друг друга! — радостно объявила Надя.
До неизвестной Флоренс ему не было никакого дела, но, будучи вежливым малым, он одобрительно кивнул головой:
— Цэ добре.
Они разговорились.
Оказалось, что Надя больна бронхиальной астмой.
— Вдруг мои бронхи сужаются. И тогда не хватает воздуха. Как рыбе на берегу, понимаешь?
Это он мог понять. Понавидался рыб на палубе и на берегу.
А часто ли бывают приступы? По пять-шесть в день? Ого! Он сочувственно поцокал языком.
— В больнице реже, — утешила его Надя. — Здесь еще то хорошо, что во время приступа никто не причитает надо мной. А дома мать встанет у стены, смотрит и плачет. На меня это действует.
Вроде бы неприлично спрашивать у человека: «А как вы умирали?» Но Мыкола рискнул.
— О! Это на операционном столе было. — Надя беспечно тряхнула волосами. — К астме не имеет отношения. Я и не помню, как было. Лишилась сознания, сделалась без пульса. Мне стали массировать сердце на грудной клетке, делать уколы и искусственное дыхание. Четыре минуты была мертвая, потом ожила.
Она посмотрела на Мыколу, прищурясь и немного вздернув подбородок. Все-таки она задавалась, хоть и самую малость. Впрочем, и кто бы не задавался на ее месте?
Для поддержания собственного достоинства пришлось упомянуть о мине.
То, что он тонул и вдобавок был контужен, подняло его в глазах новой знакомой. Подробности взрыва пришлось, однако, вытаскивать из Мыколы чуть ли не клещами.
— Ну, бухнуло. А дальше? — допытывалась Надя. — «Как ты тонул? Как задыхался? Что же ты молчишь?
Мыкола с натугой выдавливал из себя слова — до того неприятно было вспоминать про мину. И все же добросовестно рассказал даже о снах.
Услышав о них, Надя притихла. Быть может, ее тоже мучили страшные сны?..
В больнице, кроме них, не было других детей. Естественно, что они стали много времени проводить вместе.
Конечно, Надя не могла заменить Володьки. Была совсем другая, хотя тоже властная. Сразу взяла с Мыколой тон старшей.
А она не была старше, просто очень много прочла книг. И даже не в этом, наверное, было дело. Долго болела, чуть ли не с трех лет. А ведь больные дети взрослеют намного быстрее здоровых.
Она была некрасивая. Это Мыкола точно знал, потому что слышал, как молоденькая докторша-практикантка сказала медсестре:
— Какая же эта Корзухина некрасивая!
— Да, бедняжечка, — подтвердила медсестра и заботливо поправила на себе воротничок перед зеркалом.
Но, быть может, Надя была, как Золушка? Стоило бы ей обуть хрустальные башмачки, чтобы сразу стать красавицей.
Волосы, впрочем, были у нее хорошие — этакая непокорная волнистая грива, черная Ниагара. Зато лоб был слишком большим и выпуклым, а нос очень длинным.
«Как у дятла», — шутила она.
Но она не часто шутила. Обычно говорила сердито и отрывисто, будто откусывая окончания слов, — не хватало дыхания. Слова же от этого приобретали особую выразительность.
Четырнадцатилетняя худышка, замученная приступами, лекарствами, процедурами, она удивительно умела поставить себя с людьми. Даже главный консилиум, наверное, считался с нею. А когда лупоглазая гаркнула опять про «ухажера» и его «кралечку», Надя так повела на нее глазами, что та сразу перешла на шепот: «Ой, нэ сэрдься, сэрденько, нэ сэрдься!» — и отработала задним ходом в дежурку.
Мыкола мстительно захохотал ей вслед. Ничего-то она не понимала, эта ракообразная! Просто ему было очень скучно без Володьки.
Но спеша через день или два к «их» подоконнику, где они коротали время после тихого часа, Мыкола подумал, что, может, дело и не в Володьке. С Надей не только интересно разговаривать. Почему-то хотелось, чтобы эта девочка все время удивлялась ему и восторгалась им.
Но она была скупа на похвалы.
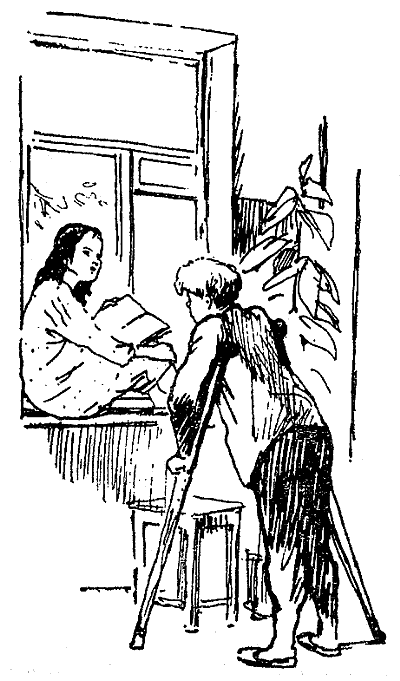 |
А однажды они поссорились.
В обычный час Мыкола явился к подоконнику. Нади не было. На подоконнике лежали огрызок карандаша и неоконченное письмо.
Мыкола, понятно, знал, что чужие письма читать нельзя, но как-то не остерегся, машинально выхватил глазами первую строчку. И чуть не упал от изумления.
«Дорогая мамуся! — написано было там решительными, падающими направо буквами. — Пожалуйста, не волнуйся за меня. Приступов уже давно нет».
Как нет? Что за вранье? Еще на прошлой неделе Надя два дня не вставала с постели и не выходила в коридор, так умаяли ее ночные приступы.
Тут уж никак невозможно было остановиться, и Мыкола, все больше дивясь, прочел:
«Мне очень весело здесь, милая мамочка. У нас в отделении много больных девочек. Я играю с ними и почти каждый вечер смотрю кино».
С ума она сошла, что ли? Какие девочки? Какое кино? Это же больница, а не клуб!
Недописанное письмо выхватили у него из рук с такой силой, что страница надорвалась. Вздрагивающий от негодования голос сказал:
— Фу! Как не стыдно!
Мыкола не знал, что и сказать на это.
— Цэ тоби должно быть стыдно, — неуверенно забормотал он. — Брэхаты… Та й ще кому? Матэри…
Конечно, он был не прав. Он понял это, едва лишь вернулся к себе в палату. Ведь Надя рассказывала ему, как тревожится о ней мать. И кажется, у матери больное сердце.
Мучимый раскаянием, он готов был немедленно бежать к Наде. Однако Мыкола знал ее характер. Она была злючка, но отходчивая. «Нэхай охолонэ», — сказал он себе благоразумно.
Через два дня, робея, он притопал к «их» окну.
Надя сидела по обыкновению на подоконнике с книгой. Как будто бы с героями все было благополучно, Мыкола порадовался этому.
— А шо цэ ты, Надечка, чытаеш? — вкрадчиво спросил он, приблизясь.
Надя обернулась:
— Я читаю о Генрихе Гейне.
Этот Гейне, видимо, был не хуже Флоренс и Уолтера, потому что глаза Нади сияли.
— Понимаешь, — она заговорила так, словно бы никогда и не было размолвки между ними, — Гейне был очень-очень больной. Последние годы жизни совсем не вставал с постели — прозвал ее своей матрацной могилой. Над ним вешали веревку, и он цеплялся за нее, чтобы приподняться или повернуться на бок. А он был знаменитый поэт. И он все время работал. Его последние слова были: «Бумагу и карандаш!» Потом началась агония…
«Как закалялась сталь» в ту пору еще не была написана, Николай Островский только начинал свою героическую борьбу с роковым недугом. Пример с Гейне поэтому произвел впечатление.
— Он напряженно работал перед смертью, — продолжала Надя. — Спешил закончить свои воспоминания. У него было много врагов. Тут написано: «Гейне за день до смерти показал жене кипу исписанной бумаги и, мстительно улыбнувшись, сказал: «Ну, теперь им не поздоровится! Тигр умрет, но останутся когти тигра…» Нет, ты не, понял, я вижу. О когти можно поцарапаться, верно? Даже если шкура лежит на земле. Тигр и мертвый по-прежнему опасен.
Да, придумано с когтями здорово.
Надя вообще умела выискивать в книгах важное, как птица очень быстро и ловко выклевывала зернышки.
Однажды Мыкола раздобыл в библиотеке книгу о кораблекрушениях. Надя увидала ее.
— Покажи!
Торопливо перелистала.
— О! Слушай! Один моряк пишет о себе: «В этих трудных и сложных обстоятельствах я спасся лишь благодаря выдержке и дьявольскому желанию жить». — Она повторила, зажмурившись: — «Дьявольскому желанию жить»! — И взглянув на Мыколу: — Подходит и нам с тобой, нет?
Мыкола очень удивился. Ведь и он читал про этого моряка. Но мысль о том, что есть какое-то сходство в их положении, как-то не пришла ему в голову.
— А почему? Потому, что ты не очень сосредоточенный. Думаешь и думаешь о своей болезни. А надо думать о другом. О том, чтобы поскорей выздороветь. Ты хочешь выздороветь?
Мыкола жалостно вздохнул.
— Ну вот! Значит, все мысли твои должны быть полезные. Правильно будешь думать — и поступать будешь правильно! В кораблекрушении уцелеешь, от всех своих болезней избавишься.
Мыкола только восхищенно покрутил головой. Ну, сильна! Быть ей непременно врачом (хотела стать врачом), а то даже и главным консилиумом!
Он не знал, что в данном случае Надя лишь повторяет чужие слова. Ей просто повезло, этой Наде. Лечащим врачом ее был Иван Сергеевич.
Он был большой, громоздкий, медлительный в движениях, похожий своей окладистой бородой на былинного богатыря: очень много доброй жизненной силы было в нем.
Надя рассказывала, что, когда он во время приступа подсаживается к ней на койку, ей уже делается легче.
Впрочем, лекарства он прописывал те же, что и другие врачи. Дело, видно, было не в одних лекарствах.
Как-то зашла на пятиминутке речь о больном Григоренко.
— Но мальчик хроник, и безнадежный, — сердясь, сказала Варвара Семеновна. — Я же показывала его анализы и рентгенограммы.
— Не единой рентгенограммой жив человек, — пошутил Иван Сергеевич. Потом серьезно добавил: — Я, конечно, доверяю рентгенограммам. Но не хочу, чтобы они закрывали передо мной нечто не менее важное.
— Что именно?
— Самого больного, его способность к сопротивлению, его дух.
— Отдает идеализмом, — пренебрежительно заметила молоденькая практикантка.
— Почему идеализмом? Чуть что, сразу идеализм! Вот вы, например, прописываете своим больным кали бромати, но ведь, кроме бромати, нужна какая-то рецептура радости. Он же мальчик еще!
— Варвара Семеновна подарила ему пластилин.
— По-видимому, мало этого. Пусть она подарит ему надежду.
— По-вашему, я должна лгать?
— Нет. Поверьте сами в его выздоровление. Он сразу почувствует это.
— Повторяю, он хроник.
— Ну и что из того? Длительную болезнь я рассматриваю как внутреннего врага, который должен мобилизовать больного для борьбы. Кстати, я видел этого вашего Григоренко. У него упрямый лоб.
— Да, мне нелегко с ним.
— А ему с вами? Ну, не сердитесь. Вдумайтесь в этого Григоренко. Не сковывайте его психики. Он должен очень хотеть выздороветь. Поставьте перед ним яркую, манящую цель, и пусть ваш Григоренко изо всех сил упрямо, самозабвенно стремится к ней.
Но, кажется, он не убедил Варвару Семеновну.
А с самим Мыколой Иван Сергеевич говорил только раз, и то почти на ходу.
В развевающемся халате, оживленный, шумный, доктор шагал по коридору, перебрасываясь шутками со своими больными. Надя спрыгнула с подоконника.
— Иван Сергеевич, вот тот мальчик. Я рассказывала вам о нем. Его контузило миной. Очень хочет быть моряком. Но…
Она так спешила рассказать все, что задохнулась.
Мыкола несмело поднял лицо. На него смотрели совсем не строгие, жизнерадостные и очень пытливые глаза.
Надя что-то вякнула насчет костылей.
— Тут ведь дело не в костылях, — услышал Мыкола задумчивый, спокойный голос. — Тут дело в том, есть ли у него характер.
Впервые, говоря с Мыколой о его будущем, ему смотрели прямо в глаза, а не косились на его костыли.
Они даже как будто не интересовали Ивана Сергеевича. Он продолжал спокойно всматриваться в мальчика на костылях, что-то обдумывая и взвешивая про себя.
Мыколе представилось, что это какой-то странный молчаливый экзамен.
Сдаст ли он его?
Он услышал тот же задумчивый, неторопливый голос:
— Ты знаешь, Надюша, дело, по-моему, не так уж плохо. Характер у твоего приятеля есть.
Только всего и сказано было Иваном Сергеевичем. Улыбнувшись детям, он зашагал дальше по коридору. Но размышлений и волнений по поводу его слов хватило Мыколе на много дней.
Он придумал тренироваться — втайне от всех. Готовил Наде сюрприз. Забирался в глубь сада, чтобы его никто не видел, и хотя бы несколько метров пытался пройти без костылей. Делал шажок, подавлял стон, хватался за дерево, опять делал шажок.
Земля под ним качалась, как палуба в шторм. Пот катился градом. Колени тряслись.
Но рот его был сжат. Мыкола заставлял себя думать только об одном: то-то удивится Надя, когда увидит его без костылей! Или еще лучше: он притопает к ней на костылях, а потом отбросит их — ага? И лихо выбьет чечетку!
Увы, как ни старался, дело не шло. Правильнее сказать: ноги не шли. Руки-то были сильные, на перекладине мог подтянуться десять раз. А ноги не слушались. Как будто вся сила из них перешла в руки.
А Надя, не зная о тренировках, по-прежнему придиралась к нему: почему он вялый, почему невеселый?
— Очень жалеешь себя, вот что я тебе скажу! Это пусть нас другие жалеют. А ты себя не жалей. Ты же сильный, широкоплечий. Вот как хорошо дышишь! Я бы, кажется, полетела, если бы могла так дышать.
Да, почти до самого конца она была суровая, требовательная и неласковая.
В тот день они, как всегда, сидели на подоконнике и разговаривали — кажется, о кругосветных путешествиях.
Окно было раскрыто настежь. Внизу по-весеннему клубился-пенился сад. Не хотелось оборачиваться — там, за спиной, вяло шаркали туфлями «ходячие» больные. Коридор был узкий, заставленный шкафами, и очень душный — каждую половицу в нем пропитал опостылевший больничный запах.
И вдруг пахнуло прохладой из сада.
От неожиданности Мыкола откинул голову. Между ним и Надей просунулась ветка миндаля. Это ветер подул с моря и качнул ее, стряхивая лепестки и капли — только что быстрый дождь прошел.
Надя порывисто притянула к себе ветку.
— Какая же ты красавица! — шепнула она, прижимаясь к ней щекой. — Как ты хорошо пахнешь!.. Я бы хотела быть похожей на тебя!..
Она покосилась из-за ветки на Мыколу.
— Будешь меня помнить?
Что она хочет этим сказать? Мыкола заглянул ей в лицо, но она уже отвернулась и смотрела в сад.
— Видишь, какой он сегодня? Белые и розовые цветы — как вышивка крестиком на голубом шелке, правда?
Мыкола посмотрел, но не увидел ничего похожего. Просто стоят себе деревья в цвету, а за ними видно море, по-весеннему голубое. Такое вот — вышивка, крестик, шелк — могло примерещиться только девочке.
И тем же ровным голосом, каким она говорила о вышивке, Надя сказала:
— Уезжаю завтра.
— Как?!
— За мной приехала мать.
Мыкола сидел оторопев.
А волосы над ухом зашевелились от быстрого взволнованного шепота:
— Ты пиши мне! Хорошо? И я буду. А следующим летом приеду: ты будешь без костылей, а я уже стану хорошо дышать. Но ты пиши.
— Надечка… — сказал Мыкола растерянно.
Но не в натуре Нади было затягивать прощание. Неожиданно для Мыколы она неумело коснулась губами его щеки — будто торопливо клюнула. Потом отпущенная ветка мазнула по лицу и стряхнула на него несколько дождевых капель.
Так и остался в памяти этот первый в жизни поцелуй: ощущением прохладных брызг и аромата, очень нежного, почти неуловимого.
Нади давно уже не было, а Мыкола все сидел на подоконнике, удивляясь и радуясь тому, что с ним произошло…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |