"Искатель. 1967. Выпуск №5" - читать интересную книгу автора (Федоров Юрий Иванович, Шерстенников Л.,...)
8
Летние дни прыгали, как целлулоидные шарики, с бездумным легким постукиванием в бездумном хаосе, но для Адьки прыжки этих шариков были ограничены по крайней мере двумя стенками. Первой стенкой была необходимость уговорить Колумбыча, а второй стенкой, ах, являлась акробатка.
Конечно, они встретились с ней после ее поездки с мальчиками, среди которых был и Изумруд. Встретились они на пляже, куда прикатили с Колумбычем после попыток привести виноградники в надлежащий вид.
— Ну его к псам, — сказал Колумбыч. — Ты знаешь, он в Уссурийском крае просто в тайге растет. И ни черта с ним не делается.
— Правильно, — сказал Адька и зашвырнул ножницы. — Едем обмывать трудовую пыль.
Казалось, что в этом дурацком городе имелся только один «Запорожец», а так сплошные «Волги» по шоссе, и Колумбыч компенсировал чувство неполноценности тем, что старательно «делал» каждую «Волгу». Водитель он был классный, еще с монгольских времен, и мотор, надо отдать должное аккуратисту Колумбычу, у него всегда был отрегулирован до тонкости. А может, все дело заключалось в том, что за рулями тех «Волг» сидели пузатые собственники-копеечники, у которых страх за добро начисто съел самолюбие.
На пляже Колумбыч миновал стоянку, что размещалась на площадке плотного грунта рядом с дорогой, проехал дальше и лихо, с разгона взлетел на песчаный вал, отделявший полоску пляжа от простой суши. Так он и встал в высоте, маленький зеленый «Запорожец», над всей человеческой суетой и грохотом, а люди и прочие классные машины были просто внизу… Колумбыч на сей раз не похвастался, но ехидная радостная ухмылка так и растягивала без того щелевидный рот.
Тотчас внизу из коричневого мельтешения вынырнула акробатка и побежала к ним, приветствуя Адьку словами:
— Адька, ты где ж пропадал?
— А ты уже вернулась? — спросил Адька. — Как отдых на лимане?
— Да ну их, — простодушно ответила акробатка. — Я вначале поехала, а потом передумала.
Сказала и оставила Адьку размышлять над загадочным смыслом этих слов. Сейчас она опять походила на свойского конопатого парнишку. Куда она ухитрялась спрятать в себе ту рыжеволосую мадонну с полупудовой короной волос и мерцающим взглядом, оставалось неизвестным.
— Поплывем? — сказала акробатка. — Тут одни склеротики и паралитики. Плавать умеют, а подальше уплыть боятся.
— Конечно, — сказал польщенный Адька.
И опять они болтались вдвоем на зеленой воде где-то около противоположного берега Азовского моря, и весь пляж с публикой, машинами и мачтой спасателей казался отсюда маленьким и ничтожным.
— Давай, кто глубже опустится, — сказала акробатка.
Они опускались в прозрачную зеленую воду, в которой можно было отлично видеть друг друга, только все казалось зеленым и расплывчатым. Там, на каком-то метре глубины, Адька ее поцеловал, после чего, конечно, пришлось спешно выбираться наверх, ибо воздуху не хватало. После того как они отдышались, акробатка посмотрела на Адьку и хмыкнула так, что его бросило в жар, несмотря на прохладу воды и вообще неподходящую морскую обстановку.
Весь этот день акробатка вела себя по-ангельски и не покидала их трио из Адьки, Колумбыча и «запорожца»; домой она возвращалась вместе с ними, а вечером они с Адькой отправились в кино на фильм «Брак по-итальянски».
Опять Адька провожал ее в благоухании южной ночи. Акации над асфальтовым тротуаром в темноте казались могучими столетними липами, звук шагов четко раздавался в тишине, и казалось, что они идут в каком-то тоннеле или черт его знает из каких детских воображаемых картинок взятой аллее средневекового, парка. Он и она, там, за спиной, за деревьями, прячется замок со всеми своими мостиками, рвами и силуэтными на фоне молчаливыми часовыми на гребне стены, а ему завтра ехать в Палестину бить нечестивых, а она будет ждать его три тысячи лет подряд — и, между прочим, все эти три тысячи лет оставаться все такой же молодой и прекрасной.
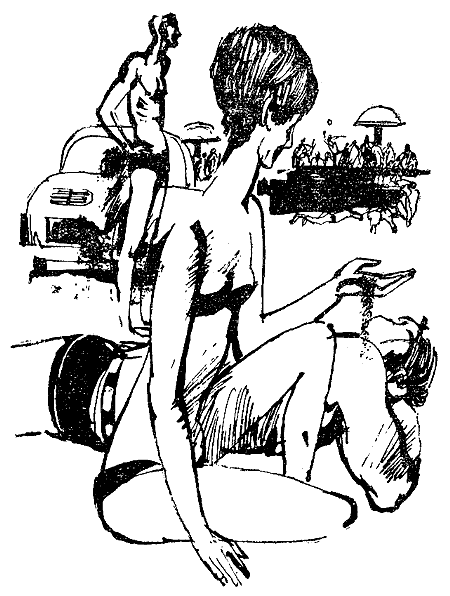 |
Пятачки света от фонарей позволяли посмотреть друг на друга при свете. Акробатка была молчалива на сей раз, и, когда Адька смотрел на нее в очередном световом пятачке, она улыбалась смущенно и хорошо.
Около одноэтажного домика почты, где светилось в этот поздний час только крыльцо круглосуточного телеграфа, она сказала:
— Подожди, я к девчонкам забегу.
И убежала поговорить о чем-то с подружками, дежурными телеграфистками, а Адька сидел в тени акации за столом. Стол был окован жестью, на нем курортники, отсылающие пуды фруктов в ящиках с дырочками, упаковывали эти свои ящики.
Адька взволнованно курил, цикл его сумбурных мыслей можно представить примерно так: «Да-а, юг, черт возьми. Обстановка действует. И вообще…» О ребятах, которые маются сейчас с теодолитами на далеких горных вершинах или дрогнут в отсыревших спальных мешках, он не вспоминал.
Потом они спускались вниз по опасному для обуви переулку, и опять был ночной крик: «Ларка! С кем ты там?»
Он попробовал ее торопливо поцеловать, но она ловко подставила щеку и прошептала скороговоркой:
— Завтра увидимся.
Когда Адька вернулся домой, Колумбыч сидел за столом в очках. Очки он надевал, когда надо было что-либо мастерить. На столе на газетке лежала куча всяких приспособлений.
— Знаешь, — сказал Колумбыч. — Ложа-то у меня у ружья лаком покрыта, а у порядочных ружей она только с полировкой, без всяких лаков. С ореховым маслом отполирую — будет высший класс моя двустволочка. Осенняя охота скоро, а утки здесь — пропасть.
Адька ничего ему не сказал, посидел, посмотрел, как Колумбыч работает, всегда было приятно смотреть, как Колумбыч что-либо мастерит своими лапищами величиной с пол журнального столика каждая, и знать, что из этих рук обязательно выйдет вещь.
Потом Адька ушел спать счастливый. В палатке он долго лежал с открытыми глазами. На землю гулко хлопались недозрелые яблоки. Они попадали почти все, ибо зной иссушил землю, а до поливки у Колумбыча как-то не доходили руки. Во тьме южной ночи собаки вели разговор из одного конца городка в другой, иногда по улице с приглушенным треском проносился мотоцикл: шла сложная потайная жизнь городка.
Адька чувствовал спиной, как где-то на необозримой глубине под ним дышат, шевелятся и живут земные пласты глинистой майкопской толщи, той самой, о которой Адька знал по геологическому курсу в институте, что она дает нефть. Адька успел уже заметить, что в здешних краях нет привычных ему камней, а есть глина разных цветов и немного плохого песка.
Ему еще много ночей предстояло пролежать вот так в палатке с открытыми глазами. Легкомысленное прыганье целлулоидных шариков завораживало, и весь план Адькиного отпуска летел к черту. А он должен был, именно должен, а не то чтобы здорово хотелось, посетить еще все эти Ялты, Мисхоры, Симеизы и прочие Сочи, чтоб потом твердо ответить как положено: «Был на юге». Может, даже и пластинку привезти: «О море в Гаграх…» — или что там сейчас привозят. И фотографии: куча ничем не примечательных типов, на углу фотографии надпись: «Гурзуф. Скала Трех Любовников. 196…» И указывать пальцем — это вот я. И хранить эти фотографии до гроба, а потом, когда будет свой дом и, естественно, гости, которых нечем занимать, вынимать из комода на вежливую муку пришедшим.
Но все это летело к черту, ибо Колумбыч вел себя как впавший в склероз конь, не желающий понимать простых вещей. Он уходил от серьезного разговора под предлогом забот о большом хозяйстве: крышу красить, яблони окопать, виноградник весь зарос, забор надо чинить, пса подстричь, построить хозяйственный настоящий сарай, где будут зимой храниться лодка и лодочные моторы, и так без конца.
Но Адька ясно видел, что все это хозяйство идет само по себе, все зарастает и забор не чинится. Начав чинить забор, Колумбыч вдруг вспоминал о машине и уже не отходил от нее сутки, регулируя какой-то волосяной зазор в зажигании. А когда Адька предлагал строить этот пресловутый сарай, Колумбыч вдруг начинал сортировать патроны и вообще ревизовать охотничье хозяйство — охота-то осенняя на носу.
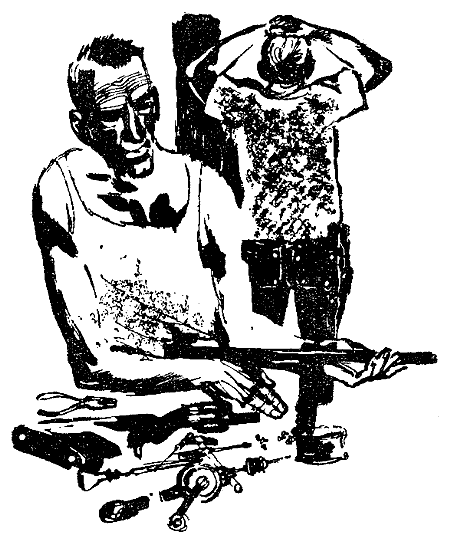 |
Все-таки в один из вечеров Адька заставил Колумбыча заговорить.
— Что ты, Адик! — сказал Колумбыч. — Я уже поистаскался и к дальним перемещениям не способен. Здесь мой дом и окончательная крыша. А интересного я и тут кучу найду. Знаешь, какие на Тамани идут раскопки?..
Адька пресек разговоры о таманских раскопках.
— Не могу бросить, — сказал Колумбыч. — Оставить так — все придет в полную разруху. Здесь это быстро делается. Продать — ну подумай, в мои годы и опять без угла своего и вообще с неясными перспективами, оставайся лучше ты здесь. Проживем.
Столь наглого предложения Адька не ожидал, и упрямство его ожесточилось.
А с акробаткой дело обстояло не лучше. Она вела себя примерно так, как ведет себя знак электричества на выводах динамо-машины переменного тока. То он видел ее на пляже среди кучи парней, которые, сделав из рук мостик, подбрасывали ее в воздух, а она крутила двойное сальто. Адька смотрел и сгорал от ревности. То она говорила: «Шумно очень, давай отойдем», — и они отходили в сторонку и лежали на ракушке, а она сыпала на Адьку эту ракушку из ладони и бормотала разную женскую чепуху, которую приятно слушать. Внешние ее метаморфозы были просто поразительны. Иногда они днем ходили по городку, выбирая какие-то нужные ей пустяковые покупки, и все встречные мужики прямо брякались на знойный песок от нахлынувших чувств и зависти, что такая девушка идет под руку с Адькой, а не с ними. Наверное, у Адьки был слишком многообещающий вид готового на все человека, и потому приставать, заговаривать и даже отпускать замечания они не решались.
Вечера они проводили в основном вместе. Именно в основном, ибо она частенько вдруг бросала Адьку: «Подожди, мне надо поговорить вон с тем мальчиком», — и говорила с ним по часу и больше, а он должен был изучать витрины. Плюнуть на все, повернуться и уйти было делом бесполезным. Адька и это пробовал, но она через час приходила к ним, вызывала Адьку и спрашивала простодушно: «А чего ты меня на улице бросил?» Простодушие ее обезоруживало, оставалось только клясть свою душу, способную на грязные подозрения. Иногда она попросту исчезала.
Колумбыч в этих делах был не советчик, да и вообще за все годы самых задушевных бесед они никогда не касались женского вопроса.
С горя Адька стал ходить в заведение буфетчика Ильи и там искать забвения в обществе Трех Копеек. Адьке требовалось не вино, а та доза вяло-циничного отношения к жизни, которым Три Копейки был так и пропитан.
Адька клял свое сибирское упрямство, без него было бы проще. Далась ему эта акробатка, вон сколько девчонок ходит, да и без них можно прожить. И пусть Колумбыч остается со своим заросшим огородом.
— Упрямство — опасная вещь, можно сказать, подсудная, — сказал ему Три Копейки. — У моего друга инспекция сети сняла. Он из упрямства поставил их опять на том же самом месте. Их опять сняли. Он из того же упрямства поставил третий раз — теперь отбывает. У инспекции тоже нервы есть, браток, как и у судьбы, запомни это.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |