"Проблема SETI" - читать интересную книгу автора (Мороз Олег Павлович)
ГЛАВА I ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?
 |
Тут как-то я прочел в одном научно-популярном журнале, что в общем-то разумная жизнь — штука маловероятная, что, может быть, кроме как на Земле, нигде ее больше нет.
Не скажу, чтобы известие это меня поразило, — сначала я даже и не уловил как следует, о чем идет речь, — но вскоре после того я почувствовал, во мне началась какая-то подспудная работа, засело и стало расти какое-то смутное беспокойство. В конце концов я понял, в чем тут дело: как большинство людей, я привык считать само собой разумеющимся, что таких планет, как Земля — населенных разумными существами, — во Вселенной бесчисленное множество; пусть эти существа безумно далеко, пусть они совсем не похожи на нас, но они все-таки есть — вот что главное. Это как в коммунальном доме: вы живете в своей квартире (отдельной, изолированной), время от времени сталкиваетесь возле лифта с соседями по площадке, а кто живет выше или ниже, этажом, можете вовсе не знать, но вы все-таки знаете, что они существуют, и коли вам уж приспичит, вы можете вступить с ними в контакт.
Попробовал было потолковать кое с кем из знакомых — как они относятся к такой новости — о нашем вселенском одиночестве. Никакого впечатления. Пожимают плечами иронически. Реакция в духе известной кинокомедии. Помните, на новогоднем вечере чудаковатый лектор выходит на сцену, чтобы прочесть лекцию о жизни на Марсе? Прежде чем он успевает сказать хотя бы слово, с ним происходят разные забавные приключения, подстроенные веселыми молодыми людьми, которые, конечно же, совсем не жаждут в ночь под Новый год слушать глубокомысленные речи об инопланетной жизни. В конце концов, после нескольких рюмок коньяка, лектор произносит такую необыкновенно содержательную тираду: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это неизвестно», — после чего пускается плясать лезгинку.
Тогда, в годы моей юности, комедия эта пользовалась колоссальным успехом, а фраза насчет жизни на Марсе прямо-таки стала фольклором. Действительно, как говорится, не в бровь, а в глаз: с одной стороны, черт знает чем занимаются эти умники (жизнь на Марсе!), а с другой — ничего ведь путного и сказать-то об этой жизни не могут — уж лучше бы честно, как этот подвыпивший лектор, признались, что ничего о ней не знают.
Так вот, и мне мои знакомые отвечали все в таком же духе: мол, есть ли жизнь во Вселенной, нет ли жизни во Вселенной — науке это неизвестно. Дескать, охота тебе всякой мурой заниматься!
Читатель, может, думает, будто я пытался переубедить их, высказывал свое недоумение: «Как же можно быть равнодушным к таким вещам! Как можно спокойно относиться к мысли о космическом одиночестве! Абсолютном одиночестве! Как можно жить с этой мыслью!» В общем-то я действительно так думал — искренне недоумевал про себя. Но вслух ничего такого, естественно, не говорил. Не настолько я наивен. Да и вообще подобные разговоры происходят обычно в легком ироническом ключе (и с твоей стороны тоже). Этакий светский треп. Подходишь к приятелю, заводишь речь о том о сем. После: «Да, старикан, ты слышал, что написал профессор такой-то в таком-то журнале? Будто разумная жизнь скорее всего существует «в единственном экземпляре» — на Земле…» Ну, и видишь это насмешливое пожимание плечами, и слышишь в который раз эту фразу — насчет жизни на Марсе.
В конце концов я задумался: а действительно ли я так уж всерьез отношусь к этому вопросу? Может быть, на самом деле мне, как и моим друзьям, наплевать?.. Просто что-то вбил себе в голову? У меня так бывает. Я человек книжный. Прочту о ком-то или о чем-то и невольно начинаю этому кому-то и чему-то подражать, да так, что и сам об этом подражании не всегда догадываюсь. Начинаю думать таким же образом, как какой-то литературный герой, собственные жизненные ситуации отождествлять с теми, в которых он оказывался… Будто не живу, а роман пишу. Казалось бы, хорошо: задатки литературного таланта, Ан, нет: «роман»-то — подражательный, эпигонский. Не литература, а литературщина. Таким, как я, вредно много читать. Сейчас я, правда, и не читаю много — так, кое-что из нового, текущего. Это в юности я книгу за книгой проглатывал. А сейчас нет — некогда. И подражаю литературным героям меньше, чем в былые годы. Впрочем, не потому, что меньше читаю… Хотя отчасти и поэтому. Но главное тут в другом: в конце концов, наверное, даже человек, по складу своего характера склонный к инфантильности, с годами становится в какой-то мере зрелым.
Стоп! Вот они, нужные слова. Нашлись. Возможно, все дело в том, что мои друзья более зрелы, чем я. Я — инфантилен. От этого-то меня так и удручает мысль, что мы, люди, одиноки во Вселенной. А они относятся к ней совершенно спокойно. Но над этим надо еще подумать…
Сперва все же — вопрос о книжности. Нет, вряд ли это книжность. Вряд ли мое волнение по поводу космического безлюдья — отраженный свет чьих-то литературных переживаний. Ничего такого я не читал в последнее время. Не говоря уже о том, что такого рода переживания могли бы встретиться разве что у кого-нибудь из фантастов, а фантастику я вообще не читаю, за исключением двух-трех авторов. Нет, это, пожалуй, исключено.
Что касается инфантильности, детскости — ну что ж, в конце концов, при желании многое в человеке можно посчитать инфантильностью. Честность, искренность, например. Доброту. Но что из того? Разве эти качества плохи? Или, может быть, они становятся хуже оттого, что мы называем их как-то не так, как они на самом деле называются, — каким-то другим словом?
В итоге всех этих размышлений я пришел к выводу, что все дело в каких-то особенностях того круга людей, которые составляют круг моих знакомых. Ведь это мы только так думаем, что круг знакомых подбирается более или менее случайно. На самом деле тут действует закономерность. Мои приятели всё люди трезвомыслящие, практического, даже скорее прагматического склада ума. Сам же я, как уже мог убедиться читатель, по-видимому, не такой уж трезво- и здравомыслящий, не в такой мере нацеленный на «дело», чтобы хотя бы время от времени не отрывать взор от земли (в буквальном смысле) и не помышлять о вещах далеких и туманных. Возможно, здесь действовал принцип притяжения полюсов. Я люблю людей деловых, твердо, обеими ногами стоящих на земле.
Казалось бы, мне должно быть трудно найти с ними общий язык. На самом же деле — ничуть не бывало. Мне всегда нравится разговор о вещах общепонятных и практически важных. Он наполняет душу ощущением спокойствия и равновесия. Свое я держу при себе. Я отдаю себе отчет: если я заговорю о своем, все сразу станет зыбким и ненадежным.
Впрочем, что такое это мое? Я затруднился бы это определить. Сегодня одно, а завтра другое. Легче всего мое можно было бы определить через отрицание: мое — это не относящееся прямо к насущности, не составляющее предмета практической важности.
До сих пор, как я уже сказал, у меня не было повода досадовать, что я не могу всерьез, не иронически, поговорить с приятелями о своем. Это первый такой случай выдался. Как бы то ни было, мне вдруг действительно стало ужасно досадно, что не с кем перекинуться словом о том, что меня взволновало. И ужасно захотелось расширить круг людей, из числа которых я мог бы выбрать собеседника.
У меня в голове созрел некий план. В общем-то план довольно утопический, нереальный. Но когда нас осеняет какая-либо идея, мы редко бываем в состоянии оценить ее реальность. Таково свойство вдохновения. По-видимому, природа специально позаботилась, чтобы в момент озарения человек не одергивал себя — иначе никогда ничего путного он не придумает и не создаст.
Я набрал номер:
— Алло, это редакция?
— Редакция.
— Отдел науки?
— Отдел науки.
— Моя фамилия Борисов. Я ваш читатель. Вы меня не знаете…
— Я вас слушаю, товарищ Борисов.
— Видите ли, я хотел бы поговорить с вами. У меня есть к вам одно предложение.
— Гм… А не могли бы вы изложить его в письме?
От мысли, что моя затея близка к провалу, мне становится не по себе. «В письме». Знаю я эти письма. В редакцию идет поток таких писем. Мой листок утонет в этом море без следа.
— Видите ли, — говорю я волнуясь, — я хотел бы лично, если можно… У меня к вам очень интересное предложение. Оно вас непременно заинтересует.
— Гм… — Человек раздумывает. — Ну, хорошо. Давайте в среду или в четверг. После обеда. Только позвоните, пожалуйста, перед тем как ехать. На всякий случай. Вдруг меня не будет на месте.
Ура! Полдела сделано. Согласился. Это самое главное. Уж убедить-то его я сумею.
В среду я звонить, естественно, не стал (а ну как передумает!) — поехал в редакцию сразу. На четвертом этаже на одной из дверей табличка: «Ю. А. Рыбников, зав. отделом науки». Навстречу мне поднимается человек в серой водолазке и дымчатых очках. На вид ему лет тридцать пять (позже выясняется — за сорок):
— Рыбников. Слушаю вас.
— Борисов…
Волнение мое все нарастает. Прежде мне не случалось бывать в редакциях. Все вокруг кажется мне исполненным какой-то особой значительности и таинства. Куча телефонов и селекторов на столе… Оттиски газетных страниц на стенке, на гвоздиках (насколько я понимаю — из не вышедшего еще номера). И как только я осмелился припереться сюда со своим идиотским предложением? Отвлекать занятых людей от дела…
— Видите ли… — мямлю я. — У меня к вам предложение…
— Это я уже слышал, — нетерпеливо говорит Рыбников. — Что за предложение? Слушаю вас. Только покороче, пожалуйста. Самую суть. Некогда, знаете ли. Должен бежать к начальству. — И добавляет несколько раздраженно: — Мы ведь с вами договаривались, что вы позвоните мне предварительно.
Я что-то бормочу виновато: дескать, я звонил, но, понимаете, автомат… — однако он прерывает меня:
— Пожалуйста — к делу.
Я чувствую, что вряд ли из-за волнения толком сумею ему что-нибудь объяснить. Поэтому я просто достаю из портфеля листок, который загодя приготовил, и протягиваю Рыбникову:
— Вот… Посмотрите…
— Что это? — Рыбников вертит бумажку в руках.
— Анкета.
Чтобы читатель понял, о чем речь, скажу несколько слов о придуманном мной плане. План заключался в следующем. Я составляю несколько вопросов насчет так называемых внеземных цивилизаций — мол, есть ли они или их нет, где и как их искать? Одним словом — анкету. Газета ее публикует. Читатели присылают ответы. Я с ними разбираюсь — сортирую, анализирую. Газета получает материал для публикации, а я — возможность поговорить с людьми, которых волнует то же, что и меня.
Вопросы я придумал такие:
1. Интересует ли вас проблема существования внеземного разума? Проявляют ли к ней интерес окружающие вас люди?
2. Как вы полагаете, есть ли разумная жизнь где-либо за пределами Земли?
3. Когда, по вашему мнению, будет установлена связь с какой-либо внеземной цивилизацией?
4. На каком примерно расстоянии находится ближайшая к нам внеземная цивилизация?
5. Какими вы представляете себе инопланетных разумных существ? Обязательно ли они должны быть похожи на нас?
6. Существуют ли где-либо во Вселенной цивилизации искусственных разумных существ?
7. Ограничен ли срок жизни космических цивилизаций или, возникнув однажды, они существуют вечно?
8. Какую пользу, на ваш взгляд, могут принести людям контакты с внеземными цивилизациями?
Эту-то бумажку вот с такими вопросами и держал теперь Рыбников.
— Видите ли, — сказал он (почему-то почти все наши с ним реплики в этом разговоре начинались с «видите ли»). — Видите ли, вопрос о внеземных цивилизациях, безусловно, интересен… Но… Как бы это вам сказать… Мы ведь газета, а не научно-популярный журнал. Мы пишем о вещах насущных, злободневных… Вот, например, проблема диссертаций. Больной вопрос. Защищают всякую муру, вплоть до плагиата. Получают степени, звания. Засоряют науку. Как этому поставить заслон? Это наш вопрос. Или возьмите другое — вопрос об оплате (я имею в виду, конечно, об оплате научных работников: мы ведь отдел науки). Сейчас как: защитил один раз диссертацию — и получай всю жизнь надбавку. Правильно ли это? Тут надо подумать, обсудить. Ведь у нас принцип «каждому — по труду». По труду, а не по степени. Одним словом, и это наш вопрос. А внеземные цивилизации — это так, для общего развития. Просветительство. Этим научно-популярные издания должны заниматься…
Очень он старался объяснить мне подоходчивей, почему внеземные цивилизации не их дело. Я послушно кивал ему, боясь показаться непонятливым. Что ж тут было не понять — ребенку ясно: не газетная это тема — как я сразу о том не подумал? Впрочем, если полистать подшивки, печатают и газеты статьи по поводу всяких научных проблем. Популярные статьи. Но тут уж, как говорится, дело хозяйское — что печатать, что не печатать. Со своим уставом в чужой монастырь нечего лезть.
Из газеты я направился в научно-популярный журнал.
— Что? ВЦ? — с комическим ужасом закричал сотрудник, ведающий физико-математическими науками (фамилия его, кажется, была Корень). — По ВЦ мы уже выполнили пятилетний план. В три года. В позапрошлом году дали интервью с академиком Анисимовым, в прошлом году — статью, и в этом… Вот, только что вышла. В последнем номере. — Он резко раскрыл журнал на нужной странице, так что тот хрустнул у корешка. Показал мне статью, словно опасаясь, что я ему не поверю.
Мы еще поговорили с ним немного, причем он по-прежнему именовал внеземные цивилизации сокращенно — ВЦ — как бы в знак того, что у него с ними короткие отношения. На прощание он записал мой телефон. На всякий случай.
— А что? — кричал он мне все в том же шутейном тоне, когда я был уже в дверях. — Чем черт не шутит — может, начальству захочется перевыполнить план. Начальство у нас любит ходить в передовиках. Тогда и двинем вашу анкету. Я вам позвоню. А нет, так в следующей пятилетке. ВЦ — это дело такое, не горит.
Он захохотал.
«Как же, позвонишь ты», — думал я тоскливо, видя, как бумажка с моим телефоном бесследно исчезла в груде других бумаг на столе у Корня.
— Вить, а Вить!
— А?
— Ну, что ты опять задумал?
— В каком смысле?
— Ну, с этими… Цивилизациями.
— А-а! — догадываюсь я наконец. — Так, ничего особенного. Интересуюсь.
— Интересуется он! — Лида злобно всхлипывает. — А обо мне ты подумал? А о Вовке?
Ну вот, началось…
Лида — это моя жена, Есть, правда, у нее еще одно имя — Аида. Когда-то в юности, а точнее, лет двенадцать назад (мы с ней тогда еще не были знакомы), захотелось ей вдруг имени звучного, необычного, красивого. Тем более что и сама она красива. Как говорится, грех роптать. Чтобы не утруждать себя долгими хлопотами, Лида взяла да и подставила в паспорте черточку. Вместо «Лидия» получилось «Аидия». В общем-то имя вышло дурацкое — Аидия Сергеевна, но в ту пору никто еще полным именем ее не называл. Аида да Аида. Это теперь она начинает ощущать последствия своей затеи. «Аидия Сергеевна, составьте, пожалуйста, справку о новых поступлениях!» Или: «Аидия Сергеевна, перекодируйте, будьте добры, академического Блока!» (Лида работает библиографом в одной крупной библиотеке). Смешно. А «Аида» — ничего, действительно красиво, хотя и несколько помпезно, оперно. Для близких Лида, разумеется, осталась Лидой…
…— В чем, собственно, дело? — говорю я примирительно и как бы непонимающе. — Что за слезы?
В ответ раздаются рыдания. Лида плачет, уткнувшись в подушку.
— Говорили же мне, дуре; не связывайся с этим юродивым! Мать говорила… Чужие люди говорили… Нет, не послушала! Поделом тебе, дуре!
Я начинаю тревожиться, как бы она не разбудила сына. Он спит в другой комнате, но дверь туда открыта: Вовка часто потеет, когда спит, и Лиде то и дело приходится менять ему рубашки.
— Ты только подумай своей головой, — продолжает между тем Лида, — тебе уже тридцать шесть — а чего ты добился? Старший инженер, полторы сотни зарплата. Диссертацию забросил… Хотя бы учеников брал! А у него все, видите ли, увлечения. То эта чертова древняя философия, то теперь эти внеземные….. (Лида упорно не хочет два слова — «внеземные цивилизации» — произнести вместе). Увлечения хороши в восемнадцать, а в тридцать шесть давно пора взяться за голову!
Что ж, по существу она права. Ошибка ее лишь в одном: она думает, что мои увлечения — блажь, которую нетрудно преодолеть. Между тем в этих увлечениях, наверное, мой характер, моя человеческая суть, По-видимому, рано или поздно я в самом деле расстанусь с ними. Как она требует. Как жизнь требует. Но это будет моим концом. Я знаю.
— Простите, можно вас на минутку?
— Да, пожалуйста. А в чем дело?
Невысокий плотный мужчина с густой седой бородой пытливо вглядывается в меня, видимо, теряясь в догадках, кем бы я мог быть и для чего он мне понадобился.
— Я корреспондент журнала «Наука и общество». Наш журнал проводит опрос в связи с проблемой внеземных цивилизаций.
— В связи с какой проблемой?
— Внеземных цивилизаций.
— Извините, это меня не интересует.
Мужчина удаляется с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах.
— Простите… Наша редакция… Проводит опрос…
На этот раз передо мной интеллигентный юноша. В очках. Должно быть, умница. Вундеркинд.
— Да, конечно, — говорит он мне с извиняющейся улыбкой, — я читаю много фантастики, но вряд ли мое мнение о внеземных цивилизациях может быть вам интересно. Я специально не думал над этим.
Приходится и его отпустить. Конечно, можно было бы собирать всякие ответы — в том числе и такие вот. Для статистики. Но мне статистика не нужна. Мне нужны люди, родственные души.
Возможно, читатель уже догадывается, в чем дело. Потерпев неудачу в двух редакциях, я тем не менее не отказался от своего плана. Я решил предпринять опрос самостоятельно, на свой страх и риск. Правда, для этого мне пришлось пойти на некоторую авантюру — действовать от имени журнала, который на самом деле такого поручения мне не давал. Но в общем-то, как мне представлялось, авантюра эта была довольно безобидная. Ну, что такое внеземные цивилизации? Какая-то абстрактная проблема. Вот если бы дело касалось скандальной, конфликтной ситуации, тогда, чего доброго, и удостоверение могли бы потребовать. А так кому какое дело — ну, опрос и опрос. Да если на то пошло, ведь пообещал же мне Корень, что в будущем, может быть, журнал вернется к этой теме. И меня к этому привлечь обещал. Правда, весьма туманно. Не исключил такую возможность. Но все равно — не такой уж я самозванец.
Тут проблема в другом. Если бы анкета была напечатана, интересующиеся люди сами дали бы о себе знать, всплыли бы, словно опилки в воде. Оставалось бы выбрать из них самых интересных, с самыми интересными суждениями. А так из десятков и сотен приходится выискивать, кто хотя бы слышал об этих, как говорит Лида, «внеземных»…
Но тут уж ничего не поделаешь. Таковы правила игры. Не мы их устанавливаем.
…Все-таки совестно приставать к людям на улице с вопросами, к которым они совсем не готовы. Я всегда внутренне краснею, когда вижу это по телевизору. Допустим, идет человек по своим делам, ничего не подозревает. И вдруг подскакивает к нему этакий добрый молодец (или красна девица) с микрофоном: «Что такое счастье?» Или: «Любите ли вы поэзию (музыку)? Кто ваш любимый поэт (композитор)?» Прохожий мнется, наскоро соображает, что в таких обстоятельствах нужно говорить, с трудом выдавливает из себя какие-то банальные слова… Нет, это надо как-то иначе. Надо, чтоб хоть повод был какой-то. Чтоб разговор сам собой, естественным образом подошел к тому, о чем ты хочешь спросить человека.
…Мартовский вечер. Я провожаю своих с дачи в Москву. Сам поеду утром. Такое счастье — побыть здесь еще вечер и еще ночь (и начало утра!) среди шумящих деревьев, под весенним звездным небом. На платформе почти никого (наша станция вообще безлюдная, хотя до Москвы рукой подать). Лишь двое, мужчина и женщина, вместе с нами ждут электричку. Вовка ни секунды не стоит на месте, вертится, как юла, заставляет меня играть с ним в салочки. Лида на него сердится: «Опять ведь рубашка, наверное, намокла? Где я тебя переодевать буду?» Вдали показался прожектор электрички. Мы прощаемся. Нет, оказывается, это не электричка. Поезд дальнего следования. За ним проходит товарный. Мы начинаем нервничать, но Вовка все обращает в игру: завидев очередной состав, он бросается ко мне прощаться, при этом хохочет заливисто. Смеемся и мы. За товарным следуют две проходные электрички, хотя давно уже время подойти нашей. Дорога работает ни к черту. Наконец подошла. Я остаюсь на перроне один, только вдали, у схода с платформы, виднеется фигура давешнего мужчины. Тоже, значит, провожал…
Отгрохотали последние вагоны. Станция погружается в тишину. Иду по хрустящему мартовскому снегу. В такие минуты заставляешь себя: «Насладись всем этим — тишиной, воздухом, звездами, весной. В полной мере насладись. На целую жизнь». Умом понимаешь: может быть, не так уж много таких весен осталось, вот еще одна проходит. Но чтобы ощутить счастье этого вечера, надо ведь сделать над собой колоссальное усилие, отрешиться от той суеты, которая сидит и гудит в тебе.
Мужчина, идущий впереди, остановился, прикуривает. Я нагоняю его. Оказывается, сосед. Неблизкий, правда: живем на одной улице, знаем друг друга в лицо. Одним словом — шапочное знакомство. Здороваемся. Дальше идем вместе.
— Что, не торопитесь в город? — спрашивает мой попутчик.
— Не тороплюсь. Куда торопиться?
Вспомнил еще: его зовут Владимир Кириллович. Литератор, кажется. Впрочем, может быть, и нет.
— Я вот тоже каждую минуту у города отвоевываю.
— Что ж совсем в село не переедете?
— Шутить изволите, — смеется Владимир Кириллович.
В самом деле — куда же нам из города?
Разговор идет о преимуществах сельской жизни, то бишь жизни около земли. В наших условиях — дачной.
Чудеса на свете творятся: я вот рос в Подмосковье, в пригороде; в детстве мы смертельно завидовали московским ребятам: этакие счастливчики, все у них под боком — и кино, и цирк; теперь мой сын так же, если не сильнее завидует своим сельским сверстникам. Не удивительно, что тянет к земле взрослого — я сам, когда переехал жить в Москву, понял, что я потерял, — но чтоб такую сильную тягу мог ощущать ребенок…
— Что вы хотите, — говорит Владимир Кириллович, — это и есть то, что мы называем деурбанизацией. Раньше человечество завороженно смотрело из села в город, а теперь оно свой взор обратно поворачивает. И то, что даже дети чувствуют это веяние, как раз и свидетельствует: процесс этот не поверхностный — глубинный.
Мы подходим к нашей даче, но мне хочется еще поговорить с ним. Я приглашаю его зайти.
— Давайте лучше погуляем, подышим. Смотрите, ночь-то какая… Звезды какие… — Владимир Кириллович делает широкий жест в сторону неба. Впрочем, только небольшой его клочок виден нам среди деревьев.
Я думаю: сколько раз за историю Земли один землянин вот так вот приглашал другого полюбоваться звездным небосводом. Миллионы? Миллиарды? Отчего же это не стало банальностью? Оттого, по-видимому, что банальность рождается не из простого повторения давно известного. Что-то еще для этого необходимо, более существенное…
Звезды — это уже по моей части. Разговор как раз подошел к той точке, когда его можно перевести на интересующий меня предмет. Это ведь совсем не то, что пытать случайного прохожего, поймав его за пуговицу где-нибудь на Новом Арбате.
— Как вы думаете, есть там кто-нибудь, среди звезд?
Перепрыгивание с одного на другое, как известно, русских людей не смущает. Для них в разговоре важно не единство темы, а единство настроения.
— Вы знаете, — говорит Владимир Кириллович, — может быть, потому, что я гуманитарий — причем не только по профессии, но и по складу характера, — я верю, что существует множество таких вот планет, как Земля, — населенных разумными обитателями. И существа эти, мне кажется, весьма похожи на людей. Ну, есть, наверное, какая-нибудь там разница, ведь и на Земле люди не все одинаковые — есть белые, есть черные, есть повыше, есть пониже… Конечно, вы с научной точки зрения можете меня опровергнуть (почему-то он считает меня ученым; должно быть, потому, что я работаю в институте — ему это, видимо, известно)… Наверное, уже имеются какие-то более точные данные на этот счет — я специально не интересовался. Но я вот так считаю. У меня никогда не было сомнений в том, что «они» есть. Есть повсюду. В каждом уголке этого вот неба. И, если говорить откровенно, что бы я в жизни ни делал, я всегда ощущал каким-то краешком даже не сознания, а подсознания их незримое присутствие — там, в отдалении, на огромном расстоянии, но тем не менее присутствие. Должно быть, сходное чувство испытывает актер, играющий на сцене: пусть даже зрители ему не видны (допустим, в зале полумрак, или другое — некоторые актеры вообще «не видят зрителей»), но он знает: они есть, они присутствуют…
Так, разговаривая, мы шли по стекленеющей мартовской улице мимо заснеженных, еще не очнувшихся от зимней спячки дач (у большинства из них окна закрыты ставнями, лишь кое-где виднеются огоньки). Попавшаяся нам навстречу дворняга облаяла было нас, но тут же завиляла хвостом, как бы говоря: «Ничего, ничего, это я так, для порядка. Не обращайте, пожалуйста, внимания. Следуйте своей дорогой».
— Видите ли, — сказал я, — то, что вы верите в «их» существование, это… — Я запнулся, подбирая выражение. — Это естественно. Все мы в это верим. Ну, не все, так большинство. Вселенная огромна, а Земля ничем особенным вроде бы не примечательна. Но не это главное. Главное в другом: что бы вы сказали, если бы выяснилось, что нигде больше такой вот Земли нет? Понимаете — нигде. Нигде больше нет разумных существ.
Он засмеялся:
— А что, наука уже к этому подошла?
— Не подошла, но некоторые утверждают… Некоторые ученые, я имею в виду.
— Знаете, — сказал Владимир Кириллович, улыбаясь, — может быть, это покажется странным, но я, человек ненаучный — будем говорить так, — имею некоторые преимущества перед вами, человеком сугубо научным. В частности, я совсем не обязан верить всему, что утверждает наука. Или отдельные ее представители. Я, конечно, понимаю, что в век НТР это звучит как крамола, как ересь, но (он развел руками и вобрал голову в плечи) ничего с собой поделать не могу. Так вот, сколько бы мне ни говорили, что разумных существ, кроме как на Земле, нигде больше нет, — я этому никогда не поверю. Вот ведь какой собеседник вам попался необразованный, — он снова засмеялся.
Мы уперлись в конец улицы. Дальше был лес. Прямо перед нами высилась огромная металлическая ферма водонапорной башни. Башню давно забросили: воду в поселок подает насос. Так она и стоит здесь бесполезным монументом. Памятником этой самой НТР. Несколько лет назад ее вроде бы облюбовали какие-то хулиганы. Говорят, пили там, наверху, водку, играли в карты… Хулиганов забрали. Но с тех пор эта башня наводит на местных ребят, в том числе и на моего Вовку, священный трепет: как же, разбойничий притон!
У подножия башни валялась какая-то металлическая штуковина. Я взял ее и постучал по основанию фермы. Башня отозвалась каким-то неземным не то звоном, не то стоном.
— Мне кажется, вы со мной хитрите, — сказал я. — Вы прекрасно знаете, что пока у науки нет каких-либо решающих аргументов за или против внеземных цивилизаций.
Он засмеялся, по-видимому, очень довольный: дескать, вот ведь и ярым технократам, завзятым приверженцам науки случается признавать ее бессилие в некоторых вопросах.
— Но допустим, вам выложили бы на блюдечке неоспоримое доказательство, — продолжал я между тем, — что бы вы почувствовали в этом случае?
Он задумался.
— Вы знаете, — сказал он наконец, — вы заставляете меня мысленно пережить такую ситуацию, которую я до сих пор не переживал. Которую человек переживает, может быть, раз в жизни. Смерть отца, например. Или матери Я должен представить, что это в самом деле свершилось, почувствовать нечто от сознания, что это свершилось, и затем точно описать свои ощущения. Задали же вы мне задачу!
Некоторое время мы шли молча. Он, должно быть, напрягал свое воображение, а я не хотел ему в этом мешать.
— Нет, не могу, — рассмеялся он наконец. — Хоть убейте. Что другое могу, тьфу, тьфу, тьфу (он шутливо сплюнул три раза), а это нет. Ненаучный я человек!
Мы переменили тему разговора.
По домам мы с ним разошлись во втором часу ночи. А в шесть я уже поднялся, побежал на электричку. Кажется, много ли четыре—пять часов сна, но на даче, на воздухе, этого вполне достаточно. Мне, во всяком случае.
Нет, все-таки неэффективный это способ «анкетирования»: за целый вечер — всего лишь один человек. Конечно, приятно познакомиться с собственным соседом, — а мы с Владимиром Кирилловичем только в тот вечер, по существу, и познакомились по настоящему, — но с точки зрения приближения к моей цели (известной читателю) больно уж накладно. Вот если бы все-таки в газете тиснуть вопросы… Впрочем, что ж мечтанье, — спиритизма вроде, как сказал поэт. Газета — это мечта, утопия. Придется и впредь обходиться домашними средствами.
…Я стою возле пропускных автоматов на станции метро «Сокольники». Мимо меня валит народ. Рядом со мной двое молоденьких милиционеров-лимитчиков, совсем подростки. Стоят скучают. Дежурят. Когда народу было поменьше, перебрасывались шуточками с девицей, обслуживающей автоматы. Такой же молоденькой. Теперь же, когда пошел сплошной поток, девице некогда: гляди в оба — не зевай.
Чтобы не скучать, милиционеры затеяли игру — кто раньше заметит пьяного. Сегодня день получки, и этого добра вдосталь. У ребят глаз наметанный, замечают еще у входа, метров за пятьдесят.
— Вон та шапка, чур, моя!
— Какая? Вон та, что ли, лохматая?
— Да нет, вот эта, пыжиковая. Чижик-пыжик, где ты был?..
«Шапка» идет, качается, не подозревая, что судьба ее на данном этапе предрешена.
Я ожидаю приятеля. Точнее говоря, коллегу. Из смежного института, кибернетического. Тут как-то мы сделали им чертежи одной штуки, и вот, в знак благодарности, он собирается, как он говорит, «поставить мне бутылку», то бишь сводить в ресторан. По правде говоря, бутылка его нужна мне, как рыбке зонтик. Я почти не пью. Так, пригубливаю. А рестораны вообще терпеть не могу. Но малый он вроде бы интересный. С головой. Стоит потолковать. К тому же отказ может быть неправильно истолкован: если бы не мы (когда бы не моя скромность, я сказал бы: «если бы не я», — тут в самом деле все от меня зависело), так вот, если бы не мы, чухались бы они с этими чертежами год, а то и больше; так что благодарность должна быть зафиксирована установленным ритуалом; пусть в полной мере ощутят, чем они нам обязаны, может быть, и они нам пригодятся. Надо укреплять неформальные связи.
Народу все прибавляется.
— Вон те очки — мои!
— А моя — борода!
«Очки» совсем уж плохи: не дойдя до автомата, они обхватывают рукой колонну и повисают на перилах. Одному из милиционеров, тому, который эти «очки» застолбил, приходится выйти навстречу. Другой хохочет: «Ну, ты себе отхватил очки!» «Борода», напротив, оказывается вполне в норме. Обмишурился сержант.
Я вглядываюсь и узнаю в «бороде» моего кибернетика. Он идет широкой матросской походкой, вперевалочку (оттого, должно быть, он и показался милиционеру пьяным), улыбается во весь рот. Протягивает мне широкую крестьянскую ладонь.
Вообще весь он похож на крестьянина. Коренастый. Ширококостый. Как уже говорилось, бородатый. И имя у него, которым он представляется, крестьянское — Егор (на самом деле его зовут Георгий, но Егор действительно больше ему идет). Только лицо под бородой — тонкое, интеллигентное. Не чертами тонкое — черты тоже довольно грубые, — выражением. Выражением глаз, губ.
В ресторане Егор сразу берет быка за рога.
— Водочки? — спрашивает он меня, потирая руки, как бы в предвкушении великого удовольствия.
Я мычу неопределенно. Егор делает распоряжения.
Мы выпиваем по рюмке, и он тут же наливает по второй. Я с опаской слежу за его активностью.
— Пустяки! — говорит он успокоительно. — Лишняя рюмка русскому человеку не повредит.
Однако вторую рюмку, я замечаю, Егор ставит, почти не отпив из нее. Внимательно наблюдает за танцующими (уже музыка играет). Вообще, мне кажется, он вовсе не такой рубаха-парень, за какого себя выдает. Просто прячет свою стеснительность под маской развязности. Такое сплошь и рядом бывает с застенчивыми людьми. Да и пьяница он, видно, небольшой. Вроде меня. Что ж, это мне на руку.
Своим чередом подходим мы в разговоре к «моей» теме.
— А, мура все это, — машет рукой Егор.
— То есть как мура?
— Так, мура. В принципе, конечно, возможно, что где-то они есть, эти ВЦ, но ведь далеко чертовски! — Егор жизнерадостно хохочет.
— Ну, и что из того?
— Послушай, Виктор, вот давай так рассуждать, — говорит Егор, держа перед собой недопитую рюмку, словно тост произнося. — И американцы, и мы ведь уже искали эти цивилизации возле ближайших звезд. Щупали радиотелескопами… Это около десятка световых лет от нас. Ничего не нашли. Стало быть, если они и есть, эти цивилизации, то где-то дальше. Допустим, в сотнях световых лет от Земли. Ты представляешь, что это такое? Чертовски огромное расстояние! — Егор уже поставил рюмку на стол и вертит в руках коробку спичек, рассматривает ее так и этак.
— Мне кажется, тут главное — сознавать, что они есть, — говорю я. — А на каком расстоянии, не так уж важно.
— Гм… Ну, вот что такое — сотни световых лет? — оживляется Егор. — Что делать с этими сотнями? Как их преодолеть? На космическом корабле перелететь? Знаю я эту муровину, понаписали всякой фантастики, — Егор опять хохочет. — Ну, давай говорить серьезно, Виктор. Я считаю, перелететь такое расстояние невозможно. Значит, что остается? Обмениваться сигналами. Они — нам, мы — им. Ну, вот предположим, мы уловили что-то такое, какой-то там сигнал, и думаем, что его послали разумные существа. Вот занимаемся его расшифровкой. Расшифровали. Как мы узнаем, верно или нет? Надо спросить тех, кто посылал сигнал. Правильно? Ну, вот, спрашиваем, отправляем ответный сигнал. Что получается? До них наш вопрос идет сотни лет, и до нас их ответ — сотни… Ну, что это за разговоры, Виктор! — Егор снова хохочет. — Так что для нас эти ВЦ что существуют, что не существуют, — заключает он.
За нашим столом, напротив нас, сидят еще двое — Егор заказывал столик на двоих, но в последний момент, естественно, выяснилось, что они все заняты. Нашим визави лет по тридцать пять — сорок. Сидят, попивают из своей бутылки. Как и мы, мирно беседуют друг с другом. Однако чем дальше, тем все больше у них прорезается жажда более широкого общения. Особенно у одного из них.
 |
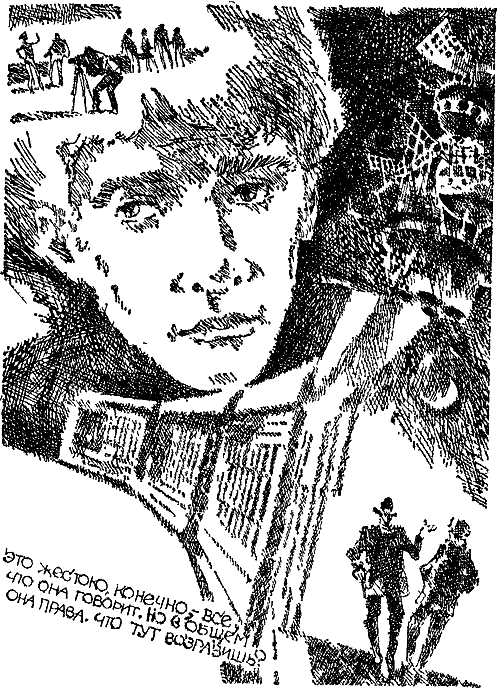 |
— Ребята, — говорит он нам, — как-то нехорошо получается: сидим мы вроде за одним столом, а вы как-то все между собой шу-шу-шу да шу-шу-шу. Нехорошо. Может, познакомимся? Меня зовут Володя, — он делает мощный рывок всем телом, чтобы встать, отчего весь стол сотрясается. Падает чей-то фужер.
— Извините, ребята, — говорит Володя. — Извините меня. Я — от чистого сердца. Все нормально.
Выясняется, что оба наших новых знакомца работают на студии документальных фильмов. Володин приятель, которого зовут Женя, — звукооператором, а сам Володя — неясно кем, тоже что-то в этом роде.
Говорит в основном простодушный Володя. Приятель же лишь посмеивается при каждом его слове: мол, вы уж нас простите, ребята, мы немного того, не в себе.
— Кто не в себе? Это я не в себе? — искренне изумляется Володя. — Девушка! А девушка! — кричит он через весь зал официантке. — Можно вас на минуточку? Вот мы тут встретились с друзьями (жест в нашу сторону)… Можно вас попросить еще одну… «Столичную»…
Наша бутылка почти не тронута. Мы предлагаем выпить «на брудершафт» из нее, но Володя ни в какую не соглашается. Нет, инициатором нашего знакомства был он, и все должно быть за его счет.
— Давайте дружно… Посидим… Поговорим… — увещевает нас Володя, разливая по рюмкам. — А то нехорошо как-то получается: сидим за одним столом, а все как бы поврозь — шу-шу-шу да шу-шу-шу.
— …А вы знаете, о чем мы говорили? — густо покраснев, спрашивает Егор. Я чувствую, что в него вселился какой-то бес. — О внеземных цивилизациях! — Он как-то неестественно смеется, глядя сквозь очки на Володю.
— О чем, о чем?
— О внеземных цивилизациях. Ну, о разумных существах на других планетах.
Володе кажется, что здесь какой-то подвох. Какая-то насмешка.
— Не-е, ребята, мы к вам по-хорошему… Как говорится, со всей душой… А вы…
— Елки-моталки, — словно бы сердясь на его непонятливость, втолковывает ему Егор. — Я же серьезно: мы говорили о внеземных цивилизациях.
Молчание. По всему видно, что на эту тему Володе сказать нечего. А потому он переводит разговор на другую. Однако эта новая тема, естественно, тоже должна каким-то боком касаться науки, чтобы не подумали, что он уж вовсе невежда, лаптем щи хлебает.
— Видели новый фильм о тунгусском метеорите? — спрашивает нас Володя. — На днях по телевизору шел. Во картина! Кадры есть — классные. Мой приятель снимал. Особенно когда с вертолета, над тайгой… А краски!
Я видел этот фильм. Краски там действительно неплохие. Однако самое сильное впечатление оставляют вмонтированные в ленту черно-белые кадры, довольно несовершенные, — снятые оператором из экспедиции Кулика, первой экспедиции к месту «падения» этого так называемого метеорита. Земля, на много километров изуродованная чудовищным взрывом и пожаром. А ведь около двадцати! лет к тому времени уже прошло, как «упал» этот метеорит.
От фильма о метеорите Володя переходит к другим фильмам, мигом сообразив, что тут его позиции наиболее сильны: везде-то у него друзья-приятели в мире кино, причем не только документального, но и большого, художественного; мы же от этого мира — ох как далеки, так что от нового конфуза (как с внеземными цивилизациями) он застрахован. Скорее наоборот — того и гляди, мы перед ним осрамимся.
Без всякой логики Володя перескакивает с одной киношной темы на другую. Вот только что он говорил о том, сколько денег ухлопал режиссер неудавшегося фильма, и тут же, вслед за этим, — о предосудительном, с его точки зрения, поведении вдовы одного известного киноактера, недавно умершего.
— Я ж ей говорю, стерве: «Ты хоть любила Кольку-то, когда он живой был?» А она: «Ладно, — говорит, — Володь, что было, то было и быльем поросло». Тьфу, вот все они такие, стервы!
Володя совсем затосковал. Повесил голову. Видно, что хмель одолел его.
Внезапно он выпрямился и уставился на Егора как бы в надежде, что тот облегчит его страдания. Должно быть, перед его хмельным взором мужицкий облик Егора предстал как олицетворение всего истинного и надежного, что только есть на свете.
— Старик! — сказал он, глядя Егору прямо в глаза. — Ты мне очень нравишься. Давай с тобой выпьем!
При этих словах он вновь рванулся через стол. На этот раз много посуды загремело, не один фужер. Графин с грушевым напитком грохнулся об пол. За соседним столиком взвизгнула какая-то женщина. Подбежала официантка, стала совестить Володю. Тот оттолкнул ее, причем как-то уж чересчур злобно, должно быть, еще держал в памяти вдову артиста. Из дальнего угла зала к нам пробирался метрдотель. Дело принимало неважный оборот.
Вот так всегда. Нет чтобы уйти вовремя.
Главное: как-то уж больно неожиданно всегда финал наступает. Сидит человек, вроде бы здраво рассуждает, хотя и о всякой ерунде. И вдруг — повело.
…Приключение это заканчивается для нас за полночь — после объяснения в служебной комнате ресторана и в милиции, после расставания с Володей, которого, несмотря на наши увещевания, милиция отправляет-таки на ночлег в казенное заведение.
Егор смущен: это ведь он затеял этот благодарственный ужин. Я же больше всего раздосадован тем, чго у нас с ним не получился разговор.
Ладно, до следующего случая.
Утром я подъезжаю к институту. Припарковываюсь неподалеку от ворот (машина у меня, естественно, хоть и своя, да не своя — наследственная, Лидиного отца; самому мне, как говорится, ни в жисть такую не приобрести). Справа от меня перламутровый «Москвич», слева — лиловые «Жигули». Красота, достойное соседство. В «Жигулях» сидят двое. Молодые ребята. Один толстомордый, с обвислыми усами и шевелюрой до ворота. Запорожец. Из ансамбля «Песняры». Другой щуплый, невзрачный. Никакой. Я закрываю машину и иду к проходной. Что-то не нравятся мне эти двое. И не видел я никогда их здесь прежде. Бывает, сидят вот такие празднолюбцы в машине, покуривают, позевывают, поплевывают. Подъезжает какой-нибудь деятель вроде меня. Хлопает дверцей, отправляется по своим делам. И ведать не ведает, что два глаза цепко за ним следят, пока он не скроется из виду, что его кожаная куртка (или клетчатое пальто, или светлый плащ) отчетливо помечены воображаемой метой, ни с чем другим не спутаешь. А в это время две руки (конечно, другого, не того, что стоит «на атасе») уже подбирают ключ к двери оставленной машины или к багажнику. Кто что подумает? Обычное дело: пришел владелец к своему лимузину, копошится себе помаленьку. А когда настоящий владелец пожаловать изволит — у него уж то ли приемника в кабине, то ли запасного колеса в багажнике нет… После этот владелец удивляется: «Представляете? Я ведь только на пятнадцать минут отошел!» Мне нравятся эти разговоры. Как будто для того, чтобы снять приемник, умелому человеку сутки необходимы.
Вот с такими мыслями прохожу я через проходную, делаю еще шагов десять и резко поворачиваю назад. Тут же раздается негромкий свист (или мне только показалось?). Вахтер смотрит на меня удивленно: что, мол, за географические новости? Я бегу к своей машине. Издалека вижу, как правая передняя дверца лиловых «Жигулей», ближняя к моему автомобилю, быстро захлопывается. За ней, на месте пассажира, сидит вислоусый. Прежде он за рулем помещался. Щуплого в машине нет — вдоль забора прогуливается. Он, должно быть, и свистел (если, конечно, мне не показалось).
Машина моя закрыта. Я осматриваюсь в кабине. Все вроде бы на месте. Проверяю зажигание. В порядке. Мало-помалу волнение мое проходит. И тут меня осеняет дерзкая, идея. Я вдруг ощущаю себя этаким заправским западным репортером. А что, если попросить этих молодцов ответить на мою анкету? Костяшками пальцев я стучу лиловым в окно. Толстомордый нехотя приспускает стекло.
— Чего, отец? Чего зря барабанишь?
— Ребята, я корреспондент журнала «Наука и общество». — При слове «корреспондент» оловянные, навыкате глаза запорожца становятся свинцовыми, серыми. — Мы проводим опрос о проблеме внеземных цивилизаций. Не могли бы вы сказать, что вы об этом думаете? Существуют ли они?
— Не, отец… Мы тебе это не будем рассказывать, — говорит вислоусый хриплым голосом, внимательно глядя мне в глаза своими рыбьими глазами. — Мы — без цивилизаций. Мы сами по себе.
Щуплый дает задний ход. Лиловые на всякий случай покидают стоянку. Я записываю их номер. Демонстративно, чтобы видели. Чтобы не вздумали еще раз соваться.
Диалог у нас получился, конечно, неинтересный, но будьте спокойны, для репортера и этого было бы достаточно. На моем месте он что-нибудь придумал бы. Что-нибудь в таком роде:
Вчера утром я застал в своей машине двух угонщиков.
— Хелло, ребята, — сказал я им, — раз уж я вас накрыл, вы в моих руках. Или вы расколетесь, или я передам вас полиции.
— Но мы ничего не знаем, сэр. Случилась ошибка: мы перепутали вашу машину со своей. У нас точно такая же, она стоит за углом. Вы можете проверить.
— Итак, ты утверждаешь, что вы ничего не знаете. По правде говоря, о том, о чем я собираюсь вас спросить, никто толком ничего не знает. Тем не менее у каждого есть свое мнение. Итак, каково ваше мнение: существуют ли внеземные цивилизации?
— Прошу прощения, сэр, не очень попятные слова. Мы ведь с Биллом колледжей не кончали.
— Ах, да. Ну, конечно. Разумеется. Короче говоря, как вы считаете, есть ли люди на других планетах?
— Если там есть воздух, почему бы им не быть, сэр?
— Ха, воздух! Значит, кроме воздуха, тебе ничего не нужно?
— О нет, сэр, я не в этом смысле, — загоготал мой собеседник. — Но я полагаю, на первый случай…
— Раз на других планетах есть люди, значит, надо их искать, не так ли?
— Вы считаете, что у нас в стране мало своих людей, сэр?
— Экий ты болван, Джо. (Тебя, кажется, зовут Джо?) Разве не интересно увидеть совсем других людей? Может быть, они окажутся с двумя головами. Или с тремя ногами.
— Конечно, интересно, сэр, но по правде говоря (если уж вы обещали не выдавать нас полиции), нас интересует не столько вопрос: «Есть ли на других планетах люди?», сколько: «Есть ли на других планетах машины?» Г-г-г-ы-ы…»
Вот так бы написал буржуазный репортер. Я думаю, примерно так. Конечно, он мог бы все это сочинить просто так, сидя у себя дома за письменным столом, в глаза не видя этих воров, не заставая их в своей машине. Но это было бы уже не профессионально. Все-таки факт есть факт: воров он застукал на самом деле, хотя бы двумя словами с ними перекинулся…
Довольный этой своей выдумкой, я отправляюсь наконец на работу и весь день посматриваю в окно на свои «Жигули».
…Интересно бы вычислить, по какому закону изменяются мысли и чувства человека, который ничем не занят, никуда не торопится, ни от кого ничего не требует, ни с кем ни о чем не говорит, даже ни на кого и ни на что не смотрит — лежит себе тихонько, прикрыв глаза, где-нибудь на берегу моря, хотя вовсе и не в одиночестве, но как бы в одиночестве. Подозреваю, что, если бы такой закон был найден, обнаружилось бы, что большую часть времени человек просто испытывает некие психологические паузы, когда в голове — никаких мыслей, а в сердце — никаких чувств.
Именно в таком состоянии полного безмыслия и бесчувствия я лежу на пляжном топчане приморского поселка. Поселок называется Планерское. Впрочем, некоторые интеллигенты по старой памяти упорно именуют его Коктебелем.
Я знаю: стоит мне открыть глаза, двинуться с места — пауза кончится.
И я открываю глаза…
Одиночество прерывается. Я оказываюсь в самой гуще распаренных южным солнцем человеческих тел. Справа от меня четверо иссиня-черных молодцов с заткнутыми за пояса плавок сигаретами играют в карты, обмениваясь громкими междометиями. Слева какая-то толстуха, сидя на надувном матраце, прилежно намазывается кремом для загара. Крем называется «Аида». Должно быть, потому, что Аида была эфиопка (стало быть, дама загорелая). В головах у меня некий сухопарый гражданин, пока что довольно белотелый, но уже успевший поджарить плечи, шею, а потому накрывшийся неимоверно большим махровым полотенцем, что-то торопливо заносит в тетрадочку. Должно быть, впечатления. Писатель. Хотя, казалось бы, какие могут быть впечатления от этой жизненной паузы, от банального пребывания «на юге»? К тому же у писателей здесь пляж особый, по соседству с этим — возле их Дома творчества. Наконец, со стороны моря кольцо вокруг меня замыкает лохматый пляжный пес Таир, примостившийся на единственной узенькой полоске песка, не занятой топчанами. Этому загорать не нужно. Он здесь просто так, за компанию.
Жарко. Надо бы искупаться. Я поднимаюсь и медленно бреду к колеблющемуся краешку огромного зеленого водного пространства. Таир идет вслед за мной, словно бы тоже собирается выкупаться. Ступив на шаг в воду, мы останавливаемся в раздумье…
— Эй, красивый! — доносится до меня чей-то голос. — Отойди в сторонку.
«Красивый» — это, конечно, я. Такие окрики, исходящие от одного из местных фотографов, я слышу по многу раз в день. И обычно беспрекословно им повинуюсь: кого-то собираются запечатлеть «у кромки прибоя» — я здесь не при чем, мне в кадре делать нечего. Но тут на меня что-то находит. «Какого черта! — думаю я. — Что это — студия или пляж? И потом, что за идиотская манера — вечно изображать на снимке этакое песчано-водное безлюдье! Будто граждане фотографируются не на переполненном горпляже, а на собственной вилле в Ницце».
Между тем фотограф не теряет надежды сдвинуть меня с места:
— Эй, симпатичный!
Я не шелохнусь.
— Эй, в очках!
Постепенно и окружающая публика начинает волноваться:
— Мужчина, к вам обращаются…
Я не слышу.
Сделав все-таки несколько кадров и проходя мимо меня с фанерным дельфином под мышкой, фотограф выдыхает злобно (температура воздуха вокруг меня сразу подскакивает на несколько градусов):
— Слышь, ты, очкарик! У нас когда просют — тогда уступают.
…Купаться не хочется. Я возвращаюсь на свой топчан.
Давешний «писатель» объясняет моей соседке-толстухе, как изменяется в зависимости от времени года, дня недели, часа, от числа людей на квадратный метр возможность нарваться на неприятность. Вот что, оказывается, он подсчитывал в своей тетрадочке.
…В Планерском мы с Лидой и Вовкой остановились на квартире (если можно назвать квартирой двухместный, выбеленный снаружи и изнутри сарайчик, расположенный во дворе хозяйского дома в ряд с другими такими же сарайчиками). Хозяин, лицом похожий на актера Леонова, являет собой тип человека, вполне довольного жизнью и доходами.
— Разве так надо работать, как вы работаете в городе?! — философствует он. — Пришел — снял табель, ушел — повесил… Работать надо от зари до зари!
Смысл этой речи в том, что, дескать, только так можно заработать на хорошую жизнь, на автомобиль (он у него имеется, тоже во дворе стоит, в особом сарайчике), хотя и дураку ясно, что основную статью доходов у этого труженика, по крайней мере летом, составляют квартиранты, такие вот горожане — «бездельники», как мы с Лидой.
Поговорить хозяин любит. Вечером мы с ним дружески беседуем, сидя у телевизора, выставленного прямо на дворе, под лозами винограда с мутными зелеными ягодами. Днем же, когда я встречаю его на дорожках писательского Дома творчества с садовым инвентарем в руках, он меня нарочито не замечает.
— Ну а что вот Брюсов?.. — говорит хозяин, помешивая ложечкой чай. — Как так понимать: сначала был царский поэт, а после — советский?
Вопрос обращен к квартирантке-филологине. Поначалу струсив от его прямоты и неожиданности, та, однако, быстро находится:
— Брюсов был передовой поэт. Прогрессивный.
— А-а… Ну да… — хозяин кивает понимающе, продолжая позванивать ложечкой.
Разговор продолжения не имеет.
Далее наступает моя очередь поддерживать беседу.
— Как это у вас так получается? — обращается хозяин ко мне. — Теория происхождения жизни… Сначала не было ничего живого, а потом оно вдруг возникло… Как же так? Из чего же оно возникло? Из камня, что ли? Из песка? Как это так: живое — из неживого?
Он смотрит на меня вопросительно. Я молчу.
— Вот наоборот — это бывает, — продолжает хозяин. — Это мы всякий день видим: как живое неживым становится. Вот я сорвал травинку — и дух из нее вон. А чтобы из мертвого живое — этого никто пока что не видал.
— Но ведь речь идет о миллионах лет… — говорю я нехотя. — За миллионы лет всякое могло случиться… Могли сложиться подходящие условия…
— Не-е… Не верю я в это… — наклонившись над стаканом чая, хозяин мотает головой. — Не может живое из неживого получиться.
— Как же, по-вашему, возникла жизнь на Земле? — наивно, по-детски спрашивает филологиня.
— Из космоса ее занесло! — едва не в полный голос выкрикивает хозяин, хлопая ладонью по столу. — Из Вселенной! — Он указывает пальцем на черное небо и победно смотрит на нас — так, словно ему первому пришла в голову такая идея.
— Ну, хорошо, — говорю я примирительно. — Допустим, первые микроорганизмы были занесены на Землю с какой-то другой планеты… Но туда-то они откуда попали?
— Да ясно же откуда — еще с одной планеты… А на эту планету — с другой…
Я выдерживаю паузу, перевожу дыхание.
— Послушайте, — говорю я хозяину, — неужели бы не видите: где-то же должно быть начало! Где-то все-таки должно было произойти самозарождение жизни!
Хозяин смотрит на меня озадаченно. Видно, что к такому повороту дела он не готов.
Мне становится его жалко: этакий благополучный человек — и вдруг затруднение на жизненном пути. Непременно надо его выручить, бросить спасательный круг.
— Вот вы, Петр Петрович, говорите «жизнь, жизнь». Ну, а разумная жизнь где-нибудь есть еще, кроме как на Земле, как вы считаете?
— Как я считаю? — хозяин делает ударение на «я».
— Да, как вы считаете?
— Сдается мне, — говорит он, — что неразумная жизнь давненько вымерла… Ибо уже сам факт жизни — необычайной сложности явление, а процесс самосознания наверняка начинается с одноклеточных. Так что же подразумевать под жизнью разумной? Хотя бы такое дело — вирус. Как понять: живет он или существует? Я имею в виду — по нашим меркам. Так вот, отвечаю: массовые эпидемии, пандемии и прочие вирусные неприятности убеждают — живет, прекрасно живет пока. Или — муравей. Понять мир так, как его понимает муравей, — ничуть не проще, чем слетать в другую галактику…
Ну, пошел умствовать. Разводить глубокую философию на мелких местах.
— Так что разумная жизнь есть понятие очень широкое, — заключает хозяин. — И убежден: широко она распространена во Вселенной.
Все ясно. Все объяснил и растолковал. Мыслящие вирусы. Думающие муравьи. Главное, уметь ведь надо — сказать так, что ничего не поймешь. Живет или существует? Раз вызывает эпидемии — значит, живет. Раз живет — значит, мыслящий. Неотразимая логика.
Сходить, что ли, к морю, прогуляться перед сном.
Бреду по неширокой тропе между морем и подножием Карадага. От земли поднимаются струйки воздуха: гора щедро отдает принятое за день тепло. Чайка норовит примоститься на прибрежном камне, но то и дело соскальзывает в воду. Наконец решает, что и в самом деле на воде будет удобней, опускается на поверхность моря, плывет, покрикивая умиротворенно.
Участок берега огорожен. На ограде какая-то надпись. Читаю: «Рыболовецкий колхоз «Голубая волна». Причал № 12. Посторонним вход воспрещен». Из домика за оградой выходит рыбак. «Читайте не очень долго. Заходите», — кричит он мне. Рыбаки продают свежую рыбу. Мне рыба не нужна, готовить негде. Продолжаю свой путь вдоль берега. Рыбак смотрит некоторое время мне вслед и идет до ветру.
Вот и звезды проступили на небе. Глаза Вселенной. Звезды… Что только мы не принимаем за звезды. Даже огромная галактика — знаменитая туманность Андромеды кажется нам светящимся пятнышком. Причем не таким уж заметным — всего лишь пятой величины. Два миллиона световых лет до нее. Подите-ка, долетите. Два миллиона! А человеческий род существует всего сколько?..
Два миллиона лет — это немыслимо! Это, по сути дела, вечность! Впрочем, если разогнать корабль до скорости света, у космонавтов время потечет медленнее. Говорят, всего двадцать восемь лет пройдет у них на корабле, пока они будут добираться до этой туманности. Двадцать восемь лет — туда, двадцать восемь — обратно. Всего пятьдесят шесть. Что ж, это все-таки не два миллиона. Срок приемлемый, хотя бы теоретически Представляете? За пятьдесят шесть лет космонавты слетали к туманности и обратно, а на Земле минуло два миллиона лет. Парадокс близнецов. Теория относительности. Говорят: космонавты никого уже не застанут в живых из своих современников. Это через два миллиона-то лет? А что они застанут? Землю-то они застанут? Совсем на другую планету прилетят…
Впрочем, вряд ли такие путешествия когда-нибудь станут возможны…
Где-то здесь, среди этих светящихся точек, — летящая звезда Барнарда. Быстрее всех движется по небу: за сто семьдесят лет сдвигается на целый солнечный диаметр. Действительно летит. Наделала шуму эта звезда! Как-то заметили астрономы, что полет ее не совсем прямолинеен. Слегка искажается прямая-словно бы волнистой делается. Стали разбираться, отчего да почему. Ну, и пришли к выводу, что вокруг летящей звезды три невидимых спутника вращаются. Три планеты. Это была сенсация: первая планетная система открыта! Первая — не считая Солнечной.
Звезда Барнарда — одна из ближайших к Солнцу. А что это означает? Я имею в виду — что означает тот факт, что планеты обнаружены в такой близости от нас: только что высунулись за околицу — и нате вам, пожалуйста! А то, что планетных систем, стало быть, вообще чрезвычайно много. Так надо полагать. Вероятность их существования сразу резко подскочила. А вместе с ней — и вероятность существования планет, подобных нашей, — населенных разумными существами.
К сожалению, потом вроде бы выяснилось, что, наблюдая за летящей звездой, астрономы ошиблись — телескопы их вроде бы подвели. На самом деле говорить об иных планетах пока что рано…
Лида старается отвлечь меня от моих звезд. По этой причине здесь, на юге, мы в основном проводим время во всяких экскурсиях, пеших и колесных (я, конечно, имею в виду время после обеда: с утра у нас — только пляж, и больше ничего, каждый день, без выходных; таков железный закон юга).
Нынче вот к Волошину наладились. В дом-музей. На выставку его акварелей. Попасть туда нелегко. Впрочем, как и повсюду — везде толпы изнывающих от безделья курортников. Очередь пришлось занимать спозаранку, а после, еще до открытия кассы, бегать каждые полчаса, показываться: вот он, мол, я, здесь стою, здесь моя очередь.
Акварели — на первом этаже, в трех комнатах. Второй — на ремонте. Лиде и Вовке волошинский дом в новинку, а я уже не раз здесь бывал. Впервые лет семнадцать назад, в начале шестидесятых.
Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом открыт навстречу всех дорог.
В ту пору еще Мария Степановна была жива, вдова. Ныне-то она уже несколько лет как лежит рядом с мужем — на Лысой горе, на вершине, продуваемой всеми ветрами.
Когда я в тот раз пришел, дверь не была открыта навстречу всех дорог, долго пришлось стучаться. Отворила наконец Мария Степановна. Я представился, спросил, нельзя ли почитать стихи Максимилиана Александровича (знал, что есть тут такой порядок — незнакомые люди приходят, садятся, читают волошинские стихи, хотя музеем этот дом в ту пору еще не был, да и не в каждом музее это заведено — сидеть вот так и читать).
— Как вы мне все надоели! — сказала Мария Степановна с сердцем. — Как я от вас устала!
Однако пустила. Провела в главную комнату, ту, что тремя стенами-гранями выходит на набережную. Посадила за добротный некрашеный стол собственной волошинской работы, принесла увесистый том стихов, отпечатанных на машинке, самодельно переплетенных (тогда Волошин еще не был издан), и оставила одного.
Я просидел за этим самодельным фолиантом несколько часов кряду, ни на секунду не поднявшись со скамьи (такой же простой, добротной, как и стол). Поэзия в то время была моим увлечением. Так же, как сейчас ВЦ. Я читал и перечитывал каждое стихотворение по нескольку раз.
С того дня и стал для меня Крым — Киммерией, древней землей, из каждой складки, из каждой трещины своей источающей историю и поэзию.
В акварелях волошинских — те же спазмы и судороги страсти возлюбленной их крымской, киммерийской земли. Усталая экскурсоводша механически объясняет это разношерстной толпе отдыхающих. Но вряд ли то, что она говорит, многим понятно, Вот Вовке моему непонятно наверняка. А Лиде? Я взглядываю на нее исподволь. В джинсах она особенно стройна. Волосы по плечам распущены. Никогда мы почему-то с ней об этом не говорили. Да и как об этом говорить? Как это передать? Это надо самому почувствовать, прочитав стихи, увидев рисунок или, особым зрением, самое землю, природу… Киммерию.
Интересно, есть ли где-нибудь еще, на какой-нибудь другой планете, такие вот пейзажи? Наверняка есть.
Тут ведь речь не о жизни идет (это с жизнью вопрос неясен). В крымском пейзаже жизнь — деревья, трава — не главное. Главное — складки и разломы земли. По крайней мере так Волошин видел этот пейзаж.
Вот только вода еще нужна. Какой же Крым без воды, без моря? Если и не видно его на пейзаже, она все равно где-то здесь, рядом, неподалеку. Слышится ощущается его дыхание…
— Вить, а Вить!
— А?
— Ты помнишь, как мы с тобой в первый раз были на юге?
— Помню, конечно.
— Как хорошо тогда было, правда?
— Да.
В первый раз мы с ней поехали на юг вскоре после женитьбы. Вовки, естественно, с нами тогда еще не было, и не ожидался он даже. И были мы с ней вольны, как птицы. В ту пору мы по югу кочевали: поживем в одном месте несколько дней — и в другое. Причем заранее не загадывали, сколько где пробудем: оставались в оседлом положении, пока не надоест, пока хоть чуть-чуть не наскучит.
— Ну, как? Не надоело? — спрашиваю я ее.
— Дай подумать, — хохочет она. — Вот эта вывеска вроде бы уже осточертела.
— Какая вывеска?
— Ну, афиша… Идиотская такая, на набережной висит, во всю стену: «Смехом — по помехам!» Меня уже тошнит от этого помехосмеха.
— К черту афишу! К черту помехосмех!
Тут же мы бежим на вокзал или на пристань, захватив с собой наш немудреный багаж.
В другом месте — она ко мне с вопросом:
— Сэр, не наскучила ли вам здешняя обстановка?
— М-м… Вроде бы рано заводить такие разговоры: всего два дня, как прибыли.
— Так, значит, не наскучила? Очень вы, значит, ею премного довольны?
Я чувствую: чем-то ей не понравился данный населенный пункт. Горит она желанием поскорее отсюда слинять.
— Как вам сказать, мадам… В принципе это не самое плохое место на земле: солнце, море… И если бы…
— Что если бы? — Она хватает меня за горло и устрашающе смотрит мне прямо в глаза. Этакая голово-резка. — Что если бы?
— …И если бы не эта бородавка на носу у работника местной Союзпечати, коей размеры, прямо скажем, превышают допустимые приличиями, если бы не эта небольшая деталь местного пейзажа, тогда здесь можно было бы прокантоваться еще часа двадцать четыре.
— К черту бородавку! — Она уже швыряет в чемодан свои купальники, платья.
Такие вопросы не обсуждались: стоило хотя бы одному из нас выразить желание немедленно поднять якорь, — это желание считалось непреложным, как закон
…Прокатились мы в тот раз по всему крымскому побережью, начиная от Ялты, перемахнули через Керченский пролив — и на Туапсе, Сочи, Хосту, Адлер, Гагру, все дальше, дальше на юг — до самого Батуми. V-песенка нас тогда сопровождала: «Батуми, эх, Батуми! Тра-та-та-та-та та-та-та-та». Была такая в моде. Повсюду на танцах крутили на солнечном юге (а мы с Лидой в ту пору и танцплощадки еще стороной не обходили, не брезговали ими).
Когда же это было? Постойте, постойте, дайте-ка вспомнить. Вовке сколько сейчас? Десять. А это было года за полтора до его рождения. Ну да, за полтора года. Точно. Стало быть, меньше чем двенадцать лет назад. Надо же! Всего-то двенадцать лет. И как все изменилось. И мы сами, и вообще… Все вокруг. Ну, в общем-то больше всего мы сами изменились. Попробуй нас теперь сдвинуть из этого Планерского. Черта с два сдвинешь. Тягачом не вытащишь. Весь месяц проторчим здесь как привязанные. Хотя, если подумать, — что здесь такого примечательного? Ради чего стоило бы здесь сиднем сидеть?
Но главное не в этом, конечно. Главное — что изменились наши отношения. Что-то в них лопнуло, треснуло, хрустнуло…
Тривиальный случай, как сказала бы Лида, знай она, о чем я сейчас думаю. Она лежит рядом со мной на кровати. Я — на раскладушке. По другую руку от меня, тоже на кровати, Вовка. Да, тривиальный. С миллионами людей, или, так скажем, супружеских пар, такие случаи происходят. Так что если немножко приподняться над нами двоими и окинуть мысленным взором все это великое множество, ситуация банальная, конечно. Двое любили друг друга, а потом… Что потом? Разлюбили? Привыкли друг к другу? Тс-с-с… Не надо никаких словесных определений. Это ведь не роман. Это сама жизнь. Не все можно обозначить словами. Физики давно уже это поняли: у них там, в микромире, много всяких штук, для которых слов не находится. Хорошо бы, допустим, к электрону прицепить этикетку «частица». А вот он и не совсем частица — можно его еще волной поименовать. Но и волна он такая, что не совсем волна. Ну, в общем, нет подходящего слова в языке, и все тут. Физики это хорошо знают. А мы все стараемся сказать, как отрубить. Либо любовь — либо нелюбовь. Если нелюбовь — ищи себе другую. А что с другой — другое что-нибудь будет? А дети как же? Они в чем виноваты? Или, может быть, они в самом деле нынче инкубаторские, в наш научно-технический век? Может быть, уже не нужны им отец и мать?
Лида, конечно, думает, что всему виной мои увлечения. Вот теперь эти ВЦ. Впрочем, она не так глупа, чтобы так думать. Она понимает: главное, что между нами что-то лопнуло, треснуло, хрустнуло… Понимать-то понимает, но — принять не хочет. Это чисто по-женски — не принимать неприятный факт. Нет чтобы до конца посмотреть правде в глаза — и перемениться сообразно обстоятельствам. Не хочет она меняться. Не хочет поверить, что не может быть все между нами так, как тогда, двенадцать лет назад.
А я? Почему я не переменюсь? Тут такое дело… Не под силу это одному. Тут все должно быть обоюдным. Потом откуда мне знать, что у нее на уме. Может быть, она уже приняла какое-то решение? Может быть, она поставила себе целью: либо у нее со мной все будет так же, как двенадцать лет назад (она не хочет верить, что так быть не может), либо у нее будет так с другим. То, что она ставит перед собой подобную цель, вполне возможно. Это на нее очень похоже. В некоторых вещах она форменная фанатичка, куда мне перец ней с моим ВЦ-фанатизмом! Да и вообще женщина, испытавшая настоящую любовь, сделает все, чтобы ее вернуть. Не так, так этак. Ибо она знает, что она хочет вернуть. Тут никакие плотины ее не остановят.
А с другим, разумеется, у нее все может быть так, как у нас с ней двенадцать лет назад. Ну, не совсем, наверное, так, но почти. Невесомость полная. Захватывающая новизна. Счастье. Безоглядное счастье.
Но тут уж, как говорится, я — пас.
Может, и у меня что-то такое могло бы получиться с другой. Но мне это не нужно. В этом разница между мной и Лидой. Все должно быть в жизни один раз. Прошел мой петушиный возраст.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |