"Мальчишка" - читать интересную книгу автора (Колосов Михаил Макарович)
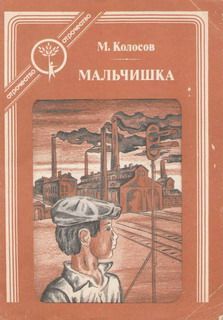 |
Михаил Макарович Колосов Мальчишка
Глава первая Мишка, Настя и мать
Мишка считал себя самым разнесчастным человеком на белом свете. Не везет ему в жизни, это теперь совершенно ясно. Каждый день какая-нибудь беда обязательно свалится на его голову. Позавчера мать нашла в ранце коробку перьев с расплющенными концами для игры, расстроилась, бросила их в печку. Стыдит, ругает его, а у самой слезы на глазах. А потом и совсем по-настоящему плакать стала. Хуже всего, когда она плачет. Лучше б ударила, и то легче…
— Как тебе не стыдно? До каких пор ты будешь меня тиранить? Когда же поймешь, что не для меня учишься, а для себя? Головушка ты моя горькая! Я работаю, стараюсь, стараюсь, а ты…
Больно Мишке слушать материны упреки, а еще больнее видеть ее слезы. Насте, сестренке, той хорошо, никаких забот: в третьем классе — что там делать? Даже экзаменов нет. А тут одна математика замучит. Шестой класс — это тебе не третий!
И вот только позавчера все это обнаружилось с перьями, он дал слово больше не безобразничать, а вчера опять несчастье.
На последней перемене Мишка выключил свет. Мимо бежал, подпрыгнул — щелк, свет и погас. Девочки в темноте начали визжать, а ребята — бегать по партам. Мишка хотел включить свет обратно, но не вышло, никак не мог достать.
Прыгал, прыгал на стенку, пока не пришел дежурный по школе. Взял Мишку за рукав и повел к директору. А директор строгий, у него разговор короткий:
— Без матери в школу не приходи!
И вот теперь он на улице. Что делать, куда идти? Домой? Там Настя, она в первой смене учится — сразу обо всем догадается. А как быть с матерью? Сказать ей, попросить прощения, поклясться в последний раз?
Мишка медленно шел по улице поселка, низко опустив голову, волоча за оторванный ремень ранец.
Куда идти, что делать?
Домой возвращаться, конечно, нельзя. Уехать куда-нибудь? Если бы потеплее было, а то ведь замерзнешь на буфере. Летом можно было бы махнуть на Кавказ или в Ташкент, как Мишка Додонов из книжки «Ташкент — город хлебный».
Что же делать? Несчастный-разнесчастный он! Уж лучше и не жить, чем так мучиться… «Утопиться, что ли?» Вот утопится, а потом все пожалеют его. Даже директор, пожалуй, скажет: «Жалко мальчишку, лучше бы я его не выгонял из школы…» А учительница будет рассказывать: «Способный был мальчик, только шалил». Она не скажет «баловался», а «шалил». Больше всех будет плакать, конечно, мать: «Зачем же ты, головушка моя горькая, оставил нас, покинул?.. Да чем же я тебе не угодила?..»
А он будет лежать и молчать, и когда все уже раскаются в своих прегрешениях перед Мишкой, тут бы в самый раз ему раскрыть глаза и подняться. Да только разве покойники оживают? Такого еще никогда не было. Поплачут, поплачут и отнесут его на кладбище, закопают, и конец всему. И не будет больше никогда Мишка ходить по улицам, никогда он уже не скажет никому ни хорошего, ни дурного слова и ничего не увидит больше… Пройдет время, его станут забывать. Да за что его и помнить, что он такое сделал?
Жалко Мишке самого себя, грустно, что никто его не вспомнит добрым словом, так грустно, что даже слезы потекли из глаз. Все люди умирают, как люди, а многие — как герои: Павлик Морозов, Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская. Эх, а тут вдруг головой в воду, и все… Скажут: «Дурак, не мог уж поведение исправить, до чего безвольный человек был. Мог бы и учиться лучше, не тянуться еле-еле на троечки». Мишка не раз слышал, как о нем говорили, что он способный, только ленится. Об этом он и сам знает: лени у него хоть отбавляй, да и от баловства не может себя удержать. И вот теперь из-за этого бросаться в омут. Нет! Но и домой возвращаться нельзя, это факт.
Он заметил на дороге окурок, поднял его, хотя раньше никогда не курил, оторвал сжеванный, грязный конец мундштука, зажал папиросу в кулаке. И тут же поймал себя: «Зачем взял папиросу? Опять баловство?» Но какой-то второй голос ответил: «А что тут такого? Просто поднял, могу бросить, могу и скурить. Говорят, курение нервы успокаивает». И Мишке захотелось закурить, спичек только не было. Он порылся в карманах, нашел гривенник, обрадовался, направился к магазину, хотя к нему надо было идти добрых полкилометра. Но тут его опять постигла неудача. Продавщица посмотрела на него и спросила:
— Зачем тебе спички?
Мишка помолчал, подумал и соврал:
— Мама прислала.
— По глазам вижу: врешь, — сказала продавщица. — Баловаться. Детям спичек не отпускаем, запрещено.
— Жалко одну коробку, да? — сказал Мишка и вышел на улицу.
Он уже хотел швырнуть окурок, но тут какой-то мужчина, прежде чем войти в магазин, бросил горящую папиросу. Мишка кинулся к ней и, схватив, прикурил. Он втянул в себя дым, закашлялся и почувствовал, как по всему телу разлилось что-то тяжелое, дурманящее. Перед глазами поплыли разноцветные круги, затошнило.
— Фу, дрянь какая, — Мишка бросил окурок и поплелся дальше куда глаза глядят.
На самом краю поселка он увидел сползшую в кювет грузовую машину. Шофер подкладывал под задние колеса камни, куски досок, залезал в кабину и включал мотор. Колеса, завывая, крутились и вместе с грязью с остервенением выбрасывали из-под себя камни и доски. Шофер вылезал, снова все собирал, расчищал лопатой грязь, но ничего не помогало.
Мишка любил машины, не пропускал ни одной, чтобы не посмотреть на нее. Он мог, сидя в комнате, по звуку определить, какой марки прошла машина.
Увидев застрявший «газик», он остановился и стал наблюдать за работой шофера. Его обдало голубоватым дымком, пахнущим бензином и резиной. «Вкусно пахнет», — подумал Мишка и подошел поближе. Спешить ему некуда, надо где-то провести время. Поэтому Мишке захотелось, чтобы машина не выбралась как можно дольше. Тут стоять все-таки не так стыдно, вроде как при деле…
Шофер нервничал. Когда Мишка подвернулся ему под руку, он зло посмотрел на его и, сплюнув, проговорил:
— Эх, тоже мне радость родительская! Люди делом занимаются, а он битый час стоит, ворон ловит. Пошел отсюда, не мешайся.
Мишка сконфузился, отошел в сторону. «Неужели и этот догадался, что меня выгнали из школы?» — подумал он. Мишка обиделся на шофера и стал придумывать, чем бы досадить ему. Отойдя из предосторожности подальше, крикнул:
— Чтоб тебе до ночи не выбраться!
Шофер бросил под колесо большое бревно, посмотрел на Мишку, вытер рукавом лоб и улыбнулся, покачав головой. Потом снова сел в кабину, включил мотор, и машина выскочила из кювета.
«Как назло все наоборот делается!» — подумал Мишка и поплелся дальше.
Он заглянул в щель забора — там когда-то был клуб. Уже после отступления немцы разбомбили его. Мишка хорошо помнит эту бомбежку, это был последний их налет на поселок. Фашисты не думали уходить, они построили кругом укрепления и хвастались: «Рус капут!» Но наши обошли их с двух сторон, и им пришлось убегать. Многие попали в плен, и, когда их вели, Мишка и другие ребята бежали вслед, кричали:
— А что, фриц, «рус капут»?
Гитлеровцы стали такими робкими и словоохотливыми, что даже детям отвечали. Они крутили головами и говорили:
— Найн, Гитлер капут.
Ребята были довольны, хохотали.
Фронт ушел далеко на запад, уже даже не стали делать светомаскировку, как вдруг неожиданно ночью налетели фашистские самолеты.
— Злятся, — сказала мать тогда, — не могут так уйти, чтобы зла не причинить. Хоть стекла побьют…
Но они не только стекла побили, разрушили много домов и улетели. С тех пор все дома отстроились, и только один клуб стоял в развалинах, огороженный дощатым забором. Теперь очередь дошла и до него: разобрали стены и начали рыть котлован под фундамент Дома культуры шахтеров. Но сейчас здесь интересного ничего не было: экскаватор стоял в глубокой яме, уткнувшись зубатым ковшом в землю, не работал. Наверное, он уже кончил свое дело и ждал, когда его перетащат на другое место.
Пока Мишка торчал у машины, он порядочно продрог: погода сырая, холодная, вот-вот выпадет снег. Холод забирался в рукава, за спину. Захотелось есть, и он опять подумал — не вернуться ли домой? Обогреться, поесть, а там будь что будет. Если спросит мать, можно сказать, а не спросит — лучше промолчать, может, все обойдется.
Мишка направился домой. Ему показалось, что прошло уже много времени и теперь, наверное, как раз из школы будут идти.
И все-таки домой он пришел рано. Не успел открыть дверь, как Настя спросила:
— Уже из школы? Не было последних уроков? Учительница заболела?
Мишка не знал, что отвечать. Сверкнул на сестру злыми глазами, проворчал:
— Не твое дело.
Настя, вредная девчонка, закусила нижнюю губу, глаза ее заискрились злорадством. Отступив на всякий случай в другую комнату, она прикрыла дверь и пропела в щель:
— Ага! Выгнали из школы? Вот я маме скажу-у-у!
Мишка швырнул в нее ранец. Настя спряталась, и тут же раздался ее голос:
— Злюка. Все равно скажу.
— Попробуй! — пригрозил Мишка. — Только пикни! Костей не соберешь, скелет непричесанный.
Это была самая обидная кличка, какую мог придумать Мишка. Но и этого ему показалось мало, он добавил:
— Не выходи — хуже будет, уродина.
Настя притихла, она хорошо знала своего братца. Мишка не раз бил ее, хотя всегда ему тут же становилось стыдно и жаль сестру. Он готов был отдать ей что угодно, только бы она не плакала. Но Настя в таких случаях обычно всхлипывала до тех пор, пока не приходила мать. И как только мать открывала дверь, она принималась реветь во весь голос.
— Ми-и-ш-ка би-и-л… — тянула она, вытирая кулаком красные от слез глаза.
Начиналась расправа над Мишкой, а Настя тут же переставала плакать, улыбалась, строила Мишке рожицы и как ни в чем не бывало говорила:
— Мама, будем обедать?
Наказанный Мишка, посапывая, грозил ей кулаком.
— Мама, а он кулак показывает, — сообщала она.
— А ты не смотри на него, — недовольно отвечала мать. — Сама хорошая штучка…
Мишка сел за стол, положил голову на руки, задумался. Что делать? Лечь в кровать и прикинуться больным? А дальше? Ведь все равно не сегодня, так завтра мать узнает… Только бы она не плакала. Больнее всего было Мишке слышать материны упреки и видеть ее слезы. Лучше бы она побила, только молча. В прошлом году зимой так однажды было. Он в воскресенье весь день катался на льду ставка. Ребят было много, погода хорошая, и до позднего вечера никто не уходил домой. Когда стало совсем темно, мать забеспокоилась, пошла искать его. А когда дома выяснилось, что он еще не учил уроков, мать рассердилась, схватила попавшийся под руки веник и побила Мишку. В этот день у них была бабушка, она хотела заступиться за внука, но мать крикнула:
— Не лезьте, а то и вам попадет! Он все нервы мне вымотал, а слов не понимает.
— Да веником-то не бьют, короста будет, — сказала бабушка.
— А чем же? Мужика в доме нет, где ж я ремень возьму? Специально для битья покупать, что ли?
И мать, ударив несколько раз Мишку ниже спины, бросила веник, сказала:
— Был бы отец…
— Веником нельзя бить, — твердила свое бабушка.
На этом все и кончилось.
«Вот и сейчас, пусть бы вгорячах схватила веник, раза два ударила, а потом бы жалела. Только, наверное, теперь такое не повторится…» — думал Мишка.
В это время послышались шаги, скрипнула дверь, и в комнату вошла мать. Сердце у Мишки екнуло, забилось в тревоге. Все, о чем думал, вмиг улетучилось из головы, вскочил, не зная, куда спрятать глаза. Навстречу матери выбежала Настя. Жесткие волосы ее торчали во все стороны. Она скосила на брата большие черные глаза, в которых он увидел злорадство и ехидство, и, заморгав длинными ресницами, многозначительно сказала:
— Ма-ма… — таким противным голосом она всегда начинала свои доносы на Мишку. — Мама, а Мишку…
«У, ведьма противная», — мысленно обругал Мишка сестру.
— …вы-г-на-ли… — продолжала Настя нараспев.
— Знаю, — вдруг резко оборвала ее мать.
Наступила тишина. Настя сконфузилась, замолчала. Мишка затаил дыхание. Хорошо, что мать оборвала Настю, хорошо, что она все уже знает, не надо объяснять, но… что будет?
Мать молча положила на стол завернутый в газету хлеб, прошла мимо Мишки и будто не заметила его. Она сняла с себя платок, медленно заправила за ухо прядь черных волос, взяла с гвоздя фартук, надела его и подошла к плите. Здесь она остановилась в задумчивости. Мишка увидел, что у нее на лбу появились новые глубокие морщинки, а вокруг глаз — темные, будто синяки, круги. Мишке стало жаль мать, он хотел подойти к ней и сказать, что больше никогда не будет баловаться, начнет учиться… Но он только подумал об этом и ничего не сказал…
Настя стояла в нерешительности, не смея раскрыть рот. Она тихо подошла к матери и тронула ее за руку.
— Я картошки начистила, — сказала она.
Мать взглянула на Настю и, словно проснулась, кивнула ей и принялась готовить обед. Настя, будто виноватая, помогала ей.
Мать не ругает, не плачет, не уговаривает его учиться, а как-то странно молчит и что-то думает, думает, даже перед собой ничего не видит — ходит как впотьмах.
Подошла к шкафу и остановилась, вспоминая что-то. Потом взглянула на Мишку и долго смотрела как на чужого.
«Начинается», — подумал Мишка и сжался в комочек.
Но ничего не начиналось, мать молчала.
Мишка вспомнил, как она вот так же молчала, когда принесли извещение о гибели отца. Мишка был еще маленьким, а Настя и того меньше. Мать обняла их, и так все трое долго молчали, пока не заплакал Мишка, а за ним Настя, а потом словно лед растаял на сердце — брызнули слезы и у нее.
— Ладно, — сказала она тогда, — что ж, будем жить, вас надо вывести в люди…
Жалко отца, они так гордились им, так любили. Отец был паровозным слесарем. Однажды он водил Мишку к себе в депо, показывал, где работает. Раньше Мишка ни разу здесь не был и очень удивился, увидев, что депо — это большущий дом без потолка. А в этом доме под самую крышу стоят паровозы, огромные, с красными колесами, возле которых копошатся люди, совсем маленькие в сравнении с машинами. И еще Мишке запомнилась крыша. Это даже и не крыша, а широченные окна, и оттуда, сверху, падал свет.
Понравилось Мишке в депо, и он решил во что бы то ни стало стать слесарем и, как отец, ремонтировать паровозы. Отец хвалил его за это, обещал научить слесарному делу. Теперь его нет, убили…
Вспомнил все это Мишка, и еще тоскливей стало на душе.
Мать взглянула не него. Он сидел маленький, жалкий, обиженный. Видно, что он раскаивается во всем и готов сделать что угодно, только бы ничего такого не было!..
В кастрюле закипела вода, полилась на раскаленную плиту, зашипела. Мать сняла с кастрюли крышку и, обжигаясь, перевернула ее ручкой вниз, положила на угол плиты. Крупные брызги выскакивали на плиту и шариками, словно ртуть, катались по ней, пока не испарились.
— Мама, картошку класть? — спросила Настя.
— Клади, — кивнула мать и тут же сказала: — Дай, я сама сделаю.
Когда суп был готов, мать налила его в тарелки, поставила на стол. Мишка молча, еле сдерживая слезы, вылез из-за стола, стал в сторонке у порога как чужой и не имеющий никакого права прикасаться к еде в этом доме.
Мать пристально посмотрела на него, недовольно сказала:
— Что это за фокусы? Еще и сердится, будто кто-то виноват. Садись.
Мишка не выдержал, заплакал.
— Перестань! — прикрикнула мать. — Надоели твои слезы, и ничего они не стоят. Садись.
— Да, а что я сделал такого? Сразу выгонять.
— Ты никогда ничего не делаешь, ты всегда прав. Нападают на тебя! Садись.
Мишка медленно сел за стол и, тихо всхлипывая, стал есть. Еда не шла, хлеб застревал в горле.
Молчание матери и ожидание пока еще неопределенного наказания тяготило.
Настя сидела тихо. Она знала, что в таких случаях может влететь ни за что только потому, что попадешь под горячую руку.
После обеда Мишка ждал, что теперь наконец начнется главный разговор. Но мать медлила. Она убирала со стола, потом принялась мыть посуду.
Мишка скатал из хлеба шарик, вылепил на нем несколько шипов. Шарик стал похож на головку булавы. Он знал, что, сколько хочешь бей этот шарик о пол, шипы не сломаются. Мишка уже хотел встать и со всей силы ударить им, но вовремя вспомнил, что он провинился, взглянул на мать.
Она поймала его взгляд, строго спросила:
— Наелся и горюшка мало, смотришь, как скорей на улицу уйти?
— Ну да, на улицу… — проворчал он.
— Еще и огрызаешься, паршивец! Ни стыда, ни совести, хоть говори, хоть бей — все одно, как с гуся вода.
«Наверное, правда, я какой-то урод…» — и Мишке при этой мысли стало жалко себя, слезы защекотали в носу.
Мать подошла к нему, он вздрогнул, думал, она бить будет.
— Дрожишь! Пальцем больше к тебе не прикоснусь, живи, как хочешь. Для меня учишься, что ли? Кому нужно, чтоб ты учился? Мне? Нет, тебе, дураку. Тебе жить впереди. А что ты теперь будешь делать? Работать никуда не возьмут, мал. Одна дорога — воровать. А мне воры не нужны… Стараюсь, все силы кладу, чтобы выучить, чтобы хоть вы жили по-людски. Ну куда ты неучем пойдешь? В грузчики? В смазчики вагонов — мазут в буксы заливать? Отец твой всю жизнь…
— Он слесарем работал… — осмелился подать голос Мишка.
— А слесарь, думаешь, шишка большая? Все равно в мазуте ходит. Отец в сенцах раздевался, и ты хочешь так жить? А у Петруниных отец всю жизнь в белом кителе на работу ходит, летом — будто на первомайский парад — весь в белом идет. И получает, слава богу, три семьи можно прокормить. И Федора тянут.
— Не всем же в белых кителях ходить, кому-то и работать надо, — буркнул Мишка. — Дался тебе этот китель… Петрунин! Он и на фронте не был, так что — хорошо?
Петрунины живут через три дома всего. «Но куда уж с ними равняться. Их отец каким-то большим начальником на станции работает, на кителе у него широкие с двумя просветами погоны. Мало того, что он много получает, у них и корова есть, молоко сами каждый день едят, да еще и продают. Там денег — полны карманы. Федор ихний что захочет, то ему и покупают, и у самого всегда деньги. Конечно, так бы и я учился», — думает Мишка.
Мать Федора — толстая тетка, нигде не работает, ходит по улице, как утка, переваливается с боку на бок. Мишка ее побаивался. Но зато Федору, этому рослому, красивому парню, он завидовал. Федор носил чуб с зачесом назад, мать разрешила ему и даже с директором школы спорила из-за этого чуба.
«Сравнила! Таким, как Федор, можно жить!» — отвечает мысленно Мишка матери.
— Что же ты, хуже Федора? — продолжает мать. — А он кончит десятилетку, на Пушкина пойдет учиться…
— Что? — не понял Мишка.
— Мать его хвалилась, я, что ли, выдумала? На Пушкина поедет учиться. В Москве будто есть такой институт, где писателей делают, так вот он туда. А ты хоть бы на инженера на какого-нибудь стремился.
— А я не хочу ни на инженера, ни на Пушкина, я хочу быть слесарем, — сказал Мишка.
— Слесарем… — покачала мать головой. — А на слесаря, думаешь, учиться не надо? Тебя и в слесари не возьмут.
Мишка задумался, но ненадолго. Мать резко повернулась к нему, вскрикнула:
— Ну, пойми ты, головушка моя горькая, для тебя я стараюсь, для тебя, а не для себя! Жизни не жалею, а ты тиранишь меня, изверг ты. Говорю — учись, учись, и больше ничего! Нет! Господи!.. — она вдруг громко зарыдала, Настя бросилась к ней, вцепилась руками в кофту.
Мишка прощения не просил, но про себя думал: «Если примут опять в школу, не буду ничего такого делать, только учиться…»
На другой день мать на работу не пошла, вместе с Мишкой направилась в школу.
Она долго о чем-то разговаривала с директором, пока наконец позвали в кабинет Мишку.
С большим трудом директор допустил его к занятиям и предупредил, что он делает это «только ради матери».
(support [a t] reallib.org)