"Привязанность" - читать интересную книгу автора (Фонсека Изабель)
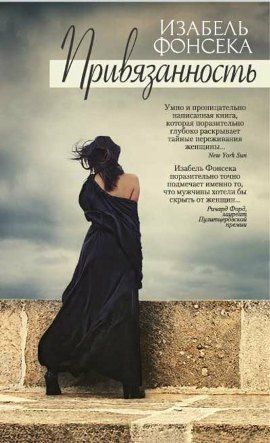 |
Изабел Фонсека Привязанность
Сен-Жак
Внезапно упасть духом — или, словами Аминаты, испытать «грусть жизни», — среди либерийцев, проживающих на острове, такую неприятность объясняют открытым
—
Подразумевался участок черепа, который остается неокостеневшим на протяжении первых недель жизни, где под свежей шелковистой кожицей мягко пульсируют жизненно важные ткани. Руки Аманиты Диас, гордой владелицы единственного первоклассного салона на Сен-Жаке, выписывали на голове Джин медленные круги. Затем Амината вышла, задрав свои широкие плечи, и тут же вернулась — локти у нее были прижаты к бокам, а сильные ладони скрывались в мыльной пене, густой и плотной, как взбитые яичные белки.
— Беда с
Из этого разговора Джин заполучила колонку в первую же неделю своего пребывания на острове. Оказалось, отправить ее куда труднее, чем написать, — отсыревшие телефонные линии шипели и потрескивали, а порою и вовсе вырубались. Но когда, наконец, ей удалось передать свою заметку редактору журнала «Миссис» из Интернет-кафе в городе, то все эти затруднения лишь обострили ее удовлетворенность. На этом острове ей нравилось все: обрывочные соединения обеспечивали свободу от телефона, меж тем как Интернет-кафе, где вход загораживали спящие собаки, а пол был усыпан песком, предлагало чарующее утешение для ее природной одинокости, позволяя находиться среди людей, однако оставаться самой по себе.
Работа на этом острове оказалась подобна бризу, насчет этого Марк был прав. «Горячим, знойным бризом, — говорил он, — где материалы для твоей колонки падают с пальм, словно кокосы». Конечно же, уже изрядное их количество было разбросано в их доме на холме, в высвободившейся конторе старого оловянного рудника над Гранд-Байе. Марку всегда требовался какой-нибудь проект, и Сен-Жак был его детищем. «Какой смысл, — говорил он, — владеть собственной фирмой, если она тебя порабощает?» Он возглавлял одно из самых продвинутых рекламных агентств в Лондоне и преследовал «уклонистов» настолько безжалостно и с таким широким охватом, что сам себя называл Интерполом. Движение автоматически приводит к открытиям, полагал он, к целым сонмам открытий. Джин тоже была относительно нескованна: она вела колонку здоровья для агентства печати и, пока выдавала свои 1150 слов каждый второй четверг, могла жить хоть на Марсе.
Однако намного лучше было приземлиться на крошечном Сен-Жаке, крапинке, затерянной в Индийском океане. Джин донельзя привлекали малые масштабы: миниатюрный дождевой лес и единственный большой город Туссен, полоса полуселений, связанных единственной кольцевой дорогой из красной глины, запруженные рынки, дружелюбные, незлобивые люди, яркая и волнительно безопасная птичья жизнь… На протяжении трех месяцев она наслаждалась этим продленным пиршеством, сиянием солнца и писанием с натуры, где все было так же достижимо, как в диораме. Вплоть до нынешнего дня.
Медленно вращавшийся вентилятор с деревянными лопастями почти не избавлял от жары, царившей в приемной женской клиники. Джин смотрела на незнакомый бланк, который ей дали заполнить; она обнаружила, что ей трудно на нем сосредоточиться. Вместо этого она думала об открытом
Чтобы избавиться от собственных взбаламученных мыслей, Джин пыталась разгадать, откуда эта женщина родом — из Западной Африки, это ясно, но из Сенегала ли, как Амината? Не из Либерии или Сьерра-Леоне? Джин становилась утонченным каталогизатором островитян — небольшой общности выходцев из Западной Африки, разбросанных анклавов восточных африканцев, индийцев с субконтинента, христиан, мусульман и индуистов. Большинство народу было смешанного происхождения, хотя имелась державшаяся особняком группа китайцев, потомков наемных работников, а на самой северной оконечности острова располагалось поселение «французов» — белых с отдаленными европейскими корнями. У самой Джин лицо было густо-розовым, как у рассерженного ребенка, и не только из-за необычной жары этого дня; ее щеки пламенели из-за шока, испытанного утром, когда она напоролась на неудобоваримые сведения.
Джин нашла это письмо, погребенное в новой партии старой почты — журналов и истрепанных путешествием приглашений на коктейльные вечеринки, благотворительные собрания и ленчи с клиентами, срок которых давно истек к тому времени, когда они, преодолев шесть тысяч миль, добрались до Хаббардов. Каждый месяц вечно смурной почтальон, Кристиан, тарахтел вверх по дороге на своем мопеде, самолично окрашенном им под золото. Пакет с почтой висел у него за спиной наискосок — в точности так же женщины на Сен-Жаке подвязывают у себя за спиной своих младенцев. Младенцем Кристиана были его волосы: двадцатидюймовый батон, похожий на переросшую морскую губку и любовно запеленатый в радужный носок.
Джин заметила его через кухонное окно, рядом с которым стояла, нарезая ломтиками папайю. Вытирая руки о передник, она подошла ко входной двери и встала там, уперев руки в бока и широко улыбаясь, обрамленная двумя розовыми кустами гибискуса в полном цвету.
— Бонжур, мадам Аабахд, — прокричал Кристиан с подъездной дорожки. — Каким наш превосходный день находит хозяйка этого дома?
— Лучше не бывало, — ответила она.
Он подкатил к самой двери и ухмыльнулся, чтобы продемонстрировать свои золотые зубы. Джин созерцала такое утро сотню раз: как Кристиан церемонно сходит со своей золоченой колесницы и подается к ней, одной рукой поглаживая свою козлиную бородку, а другой — упираясь в стену дома ради поддержки. Она знала, что он не стоял бы так близко, если рядом с ней у двери находился Марк — шести футов и четырех дюймов ростом, босой, постукивающий пальцами по зачесанным назад седым волосам — этакой выветренной дюнной траве над расширяющимся пляжем его все еще мальчишеского лица.
Нет, тогда Кристиан не стал бы медлить, распространяя по лицу эту улыбочку озабоченного совратителя, каковым — у нее было причин в этом усомниться — он и являлся. Несмотря на толстую жилу, выпиравшую у него из-за уха, Джин всегда казалось, что только его гофрированная рубашка не дает ему рассыпаться на части, как ветошь.
Свежий бриз, гибискус, солнце, греющее ее обнаженные плечи; было первое апреля, День дураков, и что это за великолепная галлюцинация, подумала Джин, глядя, как Кристиан — и, немного позади, его словно бы вышитый тамбуром волосяной кокон, — подпрыгивая, съезжают обратно на дорогу и скрываются из виду. Она прикинула, уместен ли сейчас оказался бы косячок и могла ли она его об этом попросить. Обхватив пакет обеими руками, Джин вернулась в дом.
— А! Пригодный для использования мусор, удобно упакованный в собственный контейнер, — весело, как и пристало коммерсанту, сказал Марк, беря у Джин пластиковый пакет и выводя ее на террасу позади дома. Оттуда открывался наилучший вид на длинный пологий сад, в котором там и сям валялись кокосовые орехи, а за ним, поверх стены с воротами, огораживающей усадьбу, прослеживалась идущая вниз дорога из красной глины, вплоть до голубых холмов, поднимавшихся на западе. Океан, которого из дома увидеть было нельзя, находился сразу за этими подернутыми дымкой холмами. Большинство иностранцев приезжали на Сен-Жак ради его белых пляжей, но Джин и Марк были согласны в том, что чем больше времени здесь проводишь, тем привлекательнее становятся внутренние области: зеленые, дикие, никем не посещаемые. Сейчас же глаза обоих были устремлены на пакет, который Марк водрузил на стол с таким видом, словно представлял обедающим великолепное жаркое. Все еще стоя, он взрезал его зазубренным ножом. Джин, которой очень нравилось это представление, глянула на останки пакета и направилась обратно в дом, чтобы принести кофе.
— Молоко скисло! — крикнула оно через кухонное окно. — Чай с лимоном? Или будем черный?
— Черный пойдет, — отозвался Марк, откусывая большой кусок хлеба, обильно намазанного черничным джемом, и начиная ворошить журналы. Здесь находилось все то, чего нельзя было передать по e-mail вместе с почтой с Альберт-стрит, которую отправляла им не очень разборчивая секретарша Марка, Нолин. Все же, учитывая, что на Сен-Жаке можно раздобыть только размокшие экземпляры «Paris Match» за прошлый сезон — нет, за прошлый
Ожидая, пока профильтруется кофе, Джин через окно смотрела, как Марк сортирует журналы. Он был без очков, но они оба знали, что найдут: «Atlantic Monthly» и «New Yorker» (ее), «Spectator» (его и, кроссворда ради, ее), «Private Eye» (его), «New Statesman» (ее, ради еженедельных конкурсов) и стопка «The Week» (их обоих). Она знала, что он сразу примется за «The Week», в частности, за сообщения о погоде в Великобритании — надеясь на дождь. «В чем и состоит смысл пребывания каждого англичанина за границей», — говаривал он. Оставив нетронутыми ее экземпляры «American Health» и «Modern Maturity», журналов по гериатрии, которые она прочесывала в поисках идей для своей колонки, он вернулся в дом для каждодневных поисков своих очков для чтения.
Джин была тщательно одета — на то утро у нее было назначено посещение женской клиники. Позже она удивлялась этому инстинкту — оказаться на высоте во время кризиса. Клетчатая широкая юбка в складку, блестящий изогнутый пояс, безрукавка с идеально чистым воротничком. Здесь, если не прилагать усилий, вскоре можно привыкнуть обходиться скатертью. Как говорил Марк, саронг — это тренировочный костюм для тропиков.
— М-м-м-м. И куда же вы собрались этим утром, Лоис Лейн[3]? — спросил он с довольным видом, приостанавливаясь у французского окна, чтобы дать ей пройти. Джин осторожно скользнула мимо него, балансируя подносом с кофе. Слегка его коснувшись, подмигнула ему. Он, заметила она, был небрит, а пояс его синего хлопчатобумажного халата был едва-едва завязан. К уголку его рта пристала капля черного джема. К концу завтрака он часто измазывается, подумала она с любовью, а вот за обедом — никогда, как будто каждый день ему приходится учиться есть заново, с чистого листа.
— На свидание, — сказала она с непроницаемым выражением лица, радуясь тому, что он забыл об этой рутинной маммографии. Достаточно паршиво и то, что твои груди намеренно мнут, не надо, чтобы кто-то еще представлял себе, как это происходит.
Ее внимание сразу же привлек опечатанный лентой конверт с именем Марка на нем. Она вскрыла его не украдкой и не по ошибке, даже не из особого любопытства касательно его содержимого; то была простая и жадная потребность вскрыть единственное настоящее письмо из пакета. Но, вскрыв его, Джин немедленно встревожилась, потому что листок бумаги внутри был обращен не к Марку, во всяком случае, не к тому Марку, которого она знала. Паршивый почерк, успела она подумать, бросив взгляд на неумелую мешанину курсива и заглавных с наклоном, свойственным для левшей.
Оторвавшись от письма, Джин встретилась взглядом с черным глазом хамелеона, застывшего на стене дома. Его длинный хвост был распущенной спиралью, в точности как у той ящерицы, которую их дочь, Виктория, недавно вытатуировала во впадине своего таза (значит, будет казаться, что эта ящерица выглядывает у нее из трусиков?). Тускло-серое существо на стене было совершенно неподвижно, в нем было не больше жизни, чем в броши, которая была бы в масть татуировке. Но по мере того как Джин продолжала его разглядывать, чтобы во всех подробностях рассказать о нем дочери, она заметила, что оно дышит — делает быстрые, неглубокие вдохи-выдохи. Потом, с удивительной и отталкивающей внезапностью и быстротой, оно бросилось к щели и исчезло в ней. Это оказалось в той же мере удивительно и отталкивающе, подумала она, а ведь подошло всего только время завтрака.
Стараясь сохранять спокойствие, она заново прошлась по своему дню вплоть до настоящего момента. Тщательная экипировка, доставка почты, скисшее молоко. Парясь в своих городских одеждах, она чувствовала себя подавленно и глупо. Как же это было жалко — нежиться в лучах внимания Кристиана. Теперь наконец она осознала: тот ждал чаевых. Конечно! Когда почтальон приезжал в прошлый раз, Марк вручил ему несуразно много. И с чего это она
Сидя на террасе и слушая попугаев, орущих в эвкалиптовых деревьях, Джин думала о другой миссис Хаббард — о матери Марка. О женщине, которая обожала своего сына, все ему позволяла и, вероятно, так часто вытирала ему рот, что у него самого так и не возникло склонности это делать. Была в нем какая-то беспомощность, безразличие к другим — например, эта его манера оставлять свои трусы на полу ванной, в нескольких дюймах от корзины для белья, — что всегда заставляло Джин думать о миссис Х. Старая выскочка с этим своим беспочвенным чувством превосходства… По-настоящему она так никогда и не признала своей американской невестки и фыркала, Джин это знала, при мысли о том, что Марк мог бы сам покупать себе одежду, — что, с точки зрения миссис Х., лишь свидетельствовало о лености его жены или, что еще хуже, о ее претенциозном феминизме.
Так что оказалось, что в этом письме Джин винит и миссис Х. Хотя, конечно, она понимала, что — трусы, корзины и испачканные рты в счет не идут — дряхлая матушка Марка, какой бы ограниченной она ни была, не несет ответственности ни за одну из сторон их брака. И, на ощупь отыскивая объяснение, она обнаружила внутри себя существенную, глубинную перемену, лежавшую вне области простого разочарования. Этот день длился всего несколько часов, а она уже створаживалась внутри и ничем не могла воспрепятствовать распространению порчи. Ей надо было избавиться от этих смехотворных одежд, убраться из-за стола, от Марка, остаться одной.
Она вбежала в дом, когда он выходил наружу. «Что та…
Джин не внове было сталкиваться с внезапным бедствием, но опыт прежних невзгод ничем не мог здесь помочь. Она, вне всякого сомнения, прочла любовное письмо — и чувствовала себя такой же скрюченной, как если бы ее ударили под дых. Она сразу ополчилась бы на Марка и приняла любой исход. Ее стратегия простиралась ровно настолько. Она полагала, и в дальнейшем это подтвердится, что период преимущества, или решимости, окажется очень непродолжительным.
Марк забаррикадировался в туалете, и Джин, все еще ожидая его, выкладывала пасьянс из старых приглашений — хотя это более не походило на ощупывание ушиба, проверку наличия тоски по дому. На сей раз это было подлинным пасьянсом — игрой терпения.
До сих пор этот почтовый ритуал служил утешением. Он ненадолго оправдывал ее провал на поприще ведения домашнего администрирования: ее пожизненную аллергию к каким-либо видам запросов. Здесь, посреди Индийского океана, ее вряд ли можно было винить в том, что письма оставались без ответа. Еще с тех пор, когда ее дочь была очень маленькой, Джин всегда тяготилась такого рода незначимой коммуникацией, и каким же
Виктория, которая осталась в Камден-тауне, присматривая за домом на Альберт-стрит, и теперь продолжала заниматься почтой. Хотя, в отличие от Сен-Жака, в Лондоне они своего почтальона не приветствовали — они, по сути, избегали его, мрачного корейца, который
Что именно требовалось от Джин в связи с этим, и, более того, как Виктория справится с тем, что стало полным провалом ее матери в домашнем администрировании? Должно быть, она никогда этого не узнает. Джин силой возвращала свое внимание на то, что было разложено на голубой скатерти: самая последняя пачка просроченных объявлений и горящих предложений, казалось, доказывала, что, если подождать достаточно долго, ничто уже не будет иметь значения. В итоге ни с чем из этого дела иметь не придется. Очень скоро самое наисрочнейшее дело перестанет хоть сколько-нибудь трепыхаться. То же самое могло оказаться правдой и в отношении письма от любовницы.
Вещи теряют свою силу — как этот конверт, который потерял свою наклейку, из-за чего ему потребовалась лента, подумала Джин. Как и каждому конверту на этом влажном острове. Джин с увлечением отслеживала признаки увядания во многих областях. Она писала о здоровье, и его расстройство служило для нее питательной почвой. Но вплоть до нынешнего дня она не думала об упадке в области своего брака.
Прошло десять минут, а Марк все не возвращался. Бессмысленное занятие Джин становилось прерывистым, возбужденным. Она встала, накрыла фрукты сетчатой крышкой, вымыла тарелки, смяла и выбросила ненужную почту.
— Марк? — воззвала она, полностью осознавая, что это наименее подходящее время для того, чтобы что-то со своим мужем обсуждать, не говоря уже о том, чтобы его лицезреть. (Он принадлежал к тому типу людей, которые считают, что каждое утро всем на площади в целую квадратную милю надлежит осторожно эвакуироваться, пока они не покончат
Облаченная в форму медсестра за конторкой дважды произнесла имя Джин, прежде чем та его опознала.
— Джэн АА-бахд? — снова воззвала медсестра, и Джин вскочила, катапультировав на пол соломенную наплечную сумку, которую пристроила рядом с собой на сиденье. Марк называл такие ее зияющие торбы «лотереей нищих». Не подразумевал ли он все это время, что она была нищенкой, подумала Джин, опускаясь на корточки и пригоршнями сгребая замаранные чернилами листы, замаранные чернилами ручки, пачки почти ничего не стоящих, замаранных чернилами банкнот — мусор, по большей части.
Затем она встала на колени, тянясь за укатывающимся, запятнанным чернилами тюбиком крема от загара и думая, насколько испорченной будет она выглядеть, если проигнорирует рассыпавшиеся монеты, которые подпрыгивали и катились уже так далеко, что ей, чтобы их собрать, пришлось бы ползать по всем четырем углам.
Взглянув на сестру-регистраторшу — каким ребяческим внезапно показался мешковатый покрой ее белого платья, — она поняла, что лучше забыть о монетах и сосредоточиться на дополнительных медицинских бланках, которые та ей вручила. С возрастающей скоростью и раздражением Джин вписывала в них факты своей жизни: Джин Уорнер Хаббард, сорока пяти лет, родилась в Нью-Йорке, в августе 1957, дочь… Она скользнула взглядом по вопросам: отец, мать, образование, водительские права, национальность, страховка, семейное положение, первая менструация, количество беременностей, количество детей, возраст, при котором наступила первая беременность, возраст, при котором родился первый ребенок, имя(-ена) ребенка(детей), имя(-ена) отца(-ов) ребенка(детей)… Что за наглость, подумала она, спрашивать об именах «отца(-ов)», о беременностях и детях в отдельных вопросах, словно бы ожидая, что они не совпадут, словно бы это вообще их собачье дело.
Она гадала, как по-настоящему зовут Существо 2. Ее ли это дело? Может, ей просто самой открыть электронную почту? А почему бы и нет — она ведь уже вскрыла то письмо. Конечно же, у нее есть на это право, вне зависимости от того, будет ли она в состоянии перенести то, что может там обнаружить. Ясно, что они только что виделись, предположительно во время недавней поездки Марка в Лондон, и Существо 2 пытается это продолжить. Все еще заполняя бланк, Джин представила себе мужской его вариант, в котором один вопрос был бы о количестве эякуляций, а другой — о количестве произведенных детей. Но у них нет таких бланков для мужчин, и на Сен-Жаке нет мужской клиники — хотя, полагала она, в единственной на острове больнице содержатся в основном старикашки, уложенные на ряды коек из стальных трубок, и обитатели ее взирают из высоких окон на других старых хрычей, еще достаточно прямостоящих, чтобы катать шары по песку под джаракандовыми деревьями, опушенными лавандой.
Джин давно заметила, что женщины на Сен-Жаке, в отличие от мужчин, не задерживаются на площади. Когда их репродуктивная функция иссякает, они начинают все больше напоминать своих мужей — толстеют, уплощаются и даже пускают ростки бакенбард — но у них никогда не бывает времени на боулинг, и когда они спешат мимо, искусно балансируя покупками у себя на головах и на бедрах, то площадь, должно быть, выглядит для них не чем иным, как приемным покоем больницы. В любой другой день Джин воспользовалась бы этим временем, чтобы на скорую руку сметать из таких мыслей колонку, но сидя здесь сейчас, ошеломленная и неподготовленная, она могла вообразить лишь бесконечную процессию старух, согбенных под тяжелыми ношами и шаркающих ногами в одной-единственной цепочке…
Она вернула заполненную форму и, чтобы как-то справиться с паникой, попыталась думать в хронологическом порядке, вспомнить, с какой целью они сюда приехали. Что касается Марка, то для него время, проведенное на острове, означало пробу жизни на пенсии. Ему было только пятьдесят три, но эту фазу он планировал столь же усердно, как и свои многочисленные деловые поездки. По сути, его уход в отставку мог оказаться деловым предприятием: он снова и снова говорил о посвященной миру рекламы настольной игре, которую он собирался, по его выражению, изобрести, а назвать ее, по его мысли, можно было бы просто «моя пенсия». Коктейли на террасе были введены в обиход много раньше; он, по крайней мере, установил на задней террасе свой мольберт. Ей приятно было думать, что он будет больше находиться рядом. Но сейчас она недоумевала. Не было ли его преувеличенно пенсионное поведение избыточной компенсацией за исступленную запоздалую гульбу, когда он уезжал куда-нибудь без нее?
Джин никогда даже не подумывала о том, чтобы не работать. Наоборот: когда оба они постареют, дела только пойдут в гору. Зрелый возраст, и чем старше, тем лучше, для нее, пишущей на темы здоровья, будет сущим благом — все эти новые лекарства, которые надо охватить, и такое множество проницательных читателей, читателей, обретаемых со временем. Это было единственное, насчет чего она не сомневалась, что они им располагают, — время. Она всегда полагала, хотя сейчас это казалось ей наивным, что порознь они окажутся лишь после смерти.
В клинике практически никого не было — только дама в тюрбане и Джин. Почему же это тянется так долго? Прислонив голову к стене, она смотрела на гериатрический вентилятор. Нависшие над ней ужасы — неверность, отрицания и взаимные обвинения, разъединение — заставляли ее жаждать, почти физически, передышки в более невинном времени. Закрыв глаза, она перенеслась на тридцать пять лет назад, в Адирондак. На те танцы в конце лета, когда все стулья в зале с высоким потолком из гофрированного железа сдвинуты к стенам, и с одной стороны неловко держатся за свои сидения девочки в ситцевых и льняных платьях, а напротив располагаются мальчики, чьи смоченные водой и приглаженные волосы разделены отчетливым пробором, и никто не смотрит друг на друга. Все слушают, как выкликает номера остриженный под машинку староста лагеря, и, когда выдвигается очередная шеренга мальчиков, Джин старается не думать о том, что она останется невыбранной.
Опять кто-то назвал ее имя. Ее провели по длинному гулкому коридору, пропустили в маленький смотровой кабинет и покинули.
Интрижки просто так не случаются, сказала себе Джин, не уверенная, следует ли ей раздеваться или просто ждать. Должна быть какая-то причина; если бы только она могла как следует над этим подумать, то, вероятно, уже поняла бы, в чем она состояла. Она попробовала, но ничего не обнаружила. Ей было известно, что Марк нравится женщинам, что они считают, что им повезло, если за столом их усаживают рядом с ним. Конечно, так они и считают — каждая из них. Марк красив и остроумен, но держится не слишком вызывающе. С большинством людей он чувствует себя непринужденно, и он откровенный ценитель прекрасного пола. Насчет этого у Джин не было никаких сомнений, как и насчет того, что ему не нравится, когда чужие жены загоняют его в угол. Она полагала, что у него бывают шансы — у успешных самцов они всегда случаются, задолго до того, как люди отделились от обезьян, — но она также была уверена, что он чтит добродетель, делает свою работу, платит налоги и спит спокойно.
И она знала, как бы ни неприятно было ей это признавать, что однажды летом в Бретани у него
— Наденьте вот это, — сказала внезапно появившаяся сестра и оставила Джин наедине со сложенной зеленой накидкой. В ней имелся большой вырез для головы, а бока были открыты, так что она свешивалась с туловища, как переметная сума. Одетая таким образом, она скрестила голые руки, оглядела тесный смотровой кабинет и стала ждать дальше.
О, это мертвое время, проводимое в ожидании, особенно в бедных странах… оно преобразует всякого, кто занят своими повседневными делами, в жертву бедствия, стоящую в очереди за утешением. Массовый паралич — феномен, по ее мнению, способный потягаться с массовой миграцией, достойный международных договоров, конвенций, филантропического интереса. А что это сулило Джин? Ей откуда-то было известно, что, не сумев войти в конфронтацию с Марком сразу же, она вступила в самую крупную за всю свою жизнь игру ожидания.
В кабинете имелся обитый войлоком стол и еще один летаргический вентилятор, а в углу, возле высокого окна, стояла старомодная плетеная вешалка для шляп, на которую Джин повесила свою одежду, осторожно сунув лифчик под свой ребяческий сарафан, а сложенное письмо — в нагрудный карман ребяческого сарафана. Другой стоячий предмет заполнял центр комнаты, состоял из нержавеющей стали и стекла и был снабжен множеством шкал и рычагов — этакая футуристическая штуковина из прошлого. После десятилетия ежегодных маммографий Джин знала и саму машину, и порядок работы на ней. И вот она снова здесь, раздетая, утомленная, охваченная ужасом. Она попыталась отстраниться, обдумывая альтернативные использования «Сенографа» с этим его моторизованным компрессорным устройством: автомат для выпечки пирожков, телефонная будка, механический лакей, машина времени.
Но отстранение здесь не поощрялось. На стене, поверх смотрового стола, висел обрамленный плакат с изображениями влагалища и матки — из семейства мясницких диаграмм, где все рассечено, раскрашено и надписано аккуратным учительским почерком. Джин гадала, какого рода образ ожидает Марка в Интернет-кафе. Фотографии прелестей Существа 2 проигнорировать будет намного труднее, нежели эту диаграмму… Как будто в планы Существа входило быть проигнорированной!
В Англии, подумала она, услышав чьи-то шаги и поправляя накидку, в таком кабинете висела бы фотография диких пони на Эксмуре, Брайтонского павильона или какой-нибудь музы Альма-Тадемы[7], задрапированной волнующимся газом. В Штатах вам предстала бы палая листва или Капитолийский холм. И в любой стране — теперь она видела волосатую руку, открывавшую дверь из коридора, — рентгенолог не был бы мужчиной. У этого были короткие рукава и больничный V-вырез, словно бы для того, чтобы продемонстрировать его кожу. И бумажная шляпа.
Джин не хотелось смотреть на этого человека, так похожего на затейника, сбежавшего с детского утренника. Ей не хотелось смотреть на влагалище и матку. И говорить ей ничего не хотелось, с ее-то убогим французским и жалким умонастроением. Ведь это был даже не врач. Скорее, механик, обученный ухаживать за дорогостоящим роботом. Кто-то другой будет истолковывать сделанные им изображения, выискивать смысл среди просвечивающих пятен и призрачных следов, знакомых полумесяцев, мертвенно воссозданных в монохроме. Так что она изучала вентилятор на потолке и воображала, что возносится как раз на ту высоту, где вращающиеся лезвия могли бы послужить гильотиной для ее явно несовершенных грудей.
Рентгенолог между тем принялся за дело. Его пахнущие мылом руки взяли одну из ее рук и распростерли ее вокруг машины времени. Достоинство требовало, чтобы Джин была вовлечена в это действо не более чем манекен, наряжаемый в витрине магазина, и она, робкий цветок, могла лишь подчиняться, пока он суетился, устанавливая ее — хмурясь, щурясь, привнося в ее позицию несколько, казалось бы, несущественных изменений. Поза, которую она приняла, была деланно небрежной, как на первой фотографии с Марком, которую она прислала родителям, — там ее рука неуклюже вытягивалась кверху, чтобы обхватить его плечо. Слишком уж высокий — такой вердикт вынесла ее мать вслед за этой первой пробной демонстрацией его существования, не зная, что Джин уже приняла решение. Именно рост она полюбила в нем в первую очередь — у нее появился персональный громоотвод. С Марком она почувствовала себя в безопасности: прежде же не осознавала в себе какой-либо особой уязвимости или потребности в защите. То, что он ей принес, по большей части являлось вот в такой форме непредвиденной необходимости.
Когда верхняя часть туловища Джин напряглась в наклонном положении, ее грудь, естественно, выпросталась из-под не сшитой по бокам накидки на стеклянный лоток аппарата — прохлада стекла в этой плотной жаре отнюдь не была нежеланной, — и техник поправил ее позицию своими волосатыми руками, сосредоточенный, как гончар, устанавливающий ком глины в самый центр круга. Вот, подумала Джин, подлинная причина того, что более молодые женщины не делают маммографию: их груди еще не могут вываливаться на лоток. А потом она подумала о Существе 2: «На этой неделе — 26».
Она знала, что произойдет дальше и что смотреть на это не стоит: центральная часть аппарата опустится наподобие кухонного лифта, пригвождая ее грудь к стеклу, распластывая ее болезненным клином, как будто все это устройство было разработано не для того, что снять фотографию, которая могла бы спасти ей жизнь, но для того, чтобы ускорить природное увядание. Зачем же еще так сильно ее сжимать, как будто выдавливая последние капли из лимона? Зачем так закручивать тиски, если никакие другие ткани обзору не препятствуют? Объясняли, что это позволяет получить наименьшую возможную дозу радиации, но Джин куда больше убедило бы, если бы ей сказали, что это делают для удержания малодушных. И что за сестринская молчаливая ярость, как будто каждое ежегодное двадцатисекундное обследование аннулирует договор о верном совместном ношении лифчика, действовавший в предшествующем году…
Лучше всего было смотреть в сторону, но не просто из-за радиации, а потому, что зрелище было очень уж дурно. Сжимание ослабло, и кухонный лифт оправился на верхний этаж, но ее бледная грудь так и лежала на лотке, распростертая и расплющенная, словно сырое тесто. Все еще по-дружески обхватывая рукой рентгеновский аппарат, Джин была уверена, что груди Существа 2 никогда не походили на кондитерское тесто.
— Вы свободны. — Рентгенолог испугал ее, впервые посмотрев ей в глаза, прежде чем покинуть кабинет. Джин не была уверена, что он прав. Ей казалось, что грудь ее могла приклеиться и, когда она попытается отлепить ее от стекла, оторвется, как резиновая подкладка от коврика.
Пока она медленно собирала себя по кусочкам в прежнюю форму, глядя на диаграмму на стене, ей вспомнилось овечье сердце, которое ей дали препарировать на занятиях по биологии в средней школе, и то, каким оно было плотным — резиновым, твердым, обволоченным слизью и, с промежутками, губчатым, ни в коем случае не способным разбиться. Откуда взялось это выражение — разбитое сердце? Джин нравилось препарировать, и, покидая клинику, она осознала, что это было графической заставкой к ее работе ведущей колонки о здоровье: овечье сердце, а однажды — целая лягушка, и даже скромные стручки и листья. Затем она внезапно поняла, что в точности представлял собой секретный пароль — и как только это не пришло ей в голову еще раньше? Munyeroo — муньеру, мясистое австралийское растение, чьи листья и семена, как с пользой для дела подчеркивало Существо 2, можно употреблять в пищу. Марк рассказывал ей о нем совсем недавно, после поездки домой, и даже предложил назвать Муньеру — робко, по правде говоря — бродячего кота, который зашел было к ним в дом, но покинул их, как только вернулся Марк. Ясное дело, коту не пришлось по душе, чтобы его называли в честь неотесанной любовницы Марка. Теперь Джин точно знала, что она собирается делать. Она собирается пойти в Интернет-кафе и открыть входящее сообщение с темой 69.
В приемной по-прежнему в терпеливом ожидании восседала статная женщина в тюрбане. О чем она думала, глядя, как мимо проходит ошеломленная Джин, направляясь ко входной двери?
Когда Джин направилась к Интернет-кафе, то едва ли не дрожала от избытка адреналина и ее дизельный двигатель нетерпеливо взревывал. А затем она инстинктивно подъехала к краю тротуара: ради добровольной задержки во имя осторожности, ради тренажерного зала. Под сверкающим позолоченным куполом наверху «Le Royaume»[8], единственного элегантного отеля на побережье, Джин, переобутая в старые полотняные теннисные туфли и переодетая в вылинялый тренировочный костюм, заняла свое место в ряду ступенчатых тренажеров бок о бок с двумя женщинами, форма и тонус у которых были лучше некуда. Люди в большинстве своем приходили сюда, чтобы разработать свое тело. Что касается ее, она сейчас хотела разработать свою позицию. Смеет ли она выяснять что-то большее об этом Существе 2? Сможет ли она — или они — пережить эту интрижку? И если нет, то готова ли она, хотя бы и отдаленно, к тому, чтобы идти своим собственным путем? Не совершил ли уже Марк именно этого? Может быть, все дело, связанное с выбором, уже улажено. Деятельной стороной был не кто иной, как ее муж, причем действовал он решительно.
Джин начала перебирать ногами ступеньки. Вскоре она уже цеплялась и горбилась, словно бы ехала при сильном ветре на мотоцикле, провисая, когда хваталась за поручни, и перекладывая как можно больше веса на руки. Женщины же рядом с ней, обе в ярких костюмах из лайкры, казалось, вообще не замечали, что прилагают какие-то усилия; они непринужденно болтали, меж тем как их округлые зады выталкивались кверху и выпячивались, как у цирковых пони. Джин попробовала смотреть прикрепленный к потолку телевизор, но от этого у нее заболела шея. Опустив голову, она вынуждена была подслушивать их разговор — что было, не могла не подумать она, в точности тем же, что она собиралась сделать в Интернет-кафе.
— В общем, каждый раз, как мы встречаемся, он мне говорить: «У тебя красива задница, я любить ей текстуру», — Джин послышалось «секстуру», — всегда про задница, понимашь. Латиносы, они любить задницы. А потом, однажды, нет больше текстуры. Теперь он мне говорить: «Могу учить тебя упражнять твоя задница». Так я начать тренировать танго.
— Тренировать танго? — быстро повернулась другая восходящая, хмурясь от интереса.
— Да, танго вместе с бит, понимашь. Танго для вид-низ.
— А, танго для фитнеса. Здорово. Можно мне послушать?
Другая женщина была австралийкой, догадалась Джин, загипнотизированная видом ее попрыгивающей груди, задрапированной столь же экстравагантно, как у Танго, вот только, подумала Джин, у нее она могла быть настоящей.
— Хор. — Аргентинка, если она была именно аргентинкой, передала наушники своей подруге.
Как, гадала Джин, выглядит Существо 2? Что за «текстуру» она собой представляет? Изощренная озабоченность, не так ли? Джин приведет себя в форму. Она подумала о своей по-мальчишески прямой линии от подмышек до бедер и отошла, чтобы поупражняться на тренажере для рук. Устраиваясь задом на подушечке, положенной на сидение, она представила себе, как на нее опускается мужское тело, причем обутые в тапочки ноги мужчины повисают в воздухе: 69, инь-ян сексуальных позиций. Позиция для позеров, подумала Джин: совершенно несерьезная. Вряд ли можно медитировать в собственное удовольствие, занимаясь
В Интернет-кафе было необычайно много народу. Джин пристроилась за угловой компьютер, рядом с черным подростком, лоб у которого блестел, как полированная слива. Тот был занят мгновенным обменом сообщениями: вводил одиночные фразы в ответ на вопросы, которые тоже представляли собой одиночные фразы. Она знала, что это такое, — еще одно новое умение, потребности в котором она не ощущала. Сначала она проверила свою рабочую почту, а затем — адрес для общей переписки, который установила Виктория и который, главным образом, ею самой и использовался. Парень, сидевший рядом, не поднимал голову, так что она ввела наконец новый адрес, naughtyboy1, и пароль, munyeroo. И появилось послание 69, одинокая парочка перевернутых относительно друг друга сперматозоидов, каждый из которых ловил за хвост другого. Строка, в которой показывается имя отправителя, была предусмотрительно оставлена пустой. Напрягая все свои силы, чтобы щелкнуть мышью и открыть послание, она снова посмотрела на письмо в белом конверте. Муньеру. Джин сразу же подумала об австралийке из тренажерного зала, о той блондинке со зрелищным натуральным фасадом. Но там присутствовало и нечто итальянское — взять хотя бы это
Джин открыла присоединенный файл. Он очень долго загружался. По счастью, парень, сидевший слева от нее, ушел, прежде чем появилось полноэкранное изображение.
В файле была еще пара фотографий, и все были снабжены замысловатыми подписями. «Джиована», даже портя эти снимки, обещала Марку
Джиована благодарила его за трусики «в замену», которые она игриво демонстрировала на своей круглой заднице —
Другое фото — безголовое, подобно двум первым — предлагало вид сбоку на то же самое тело, на этот раз без трусиков и согнутое в пояснице, а белый фартук с оборочками и огромным подарочным бантом, завязанным сзади, служил подвязкой для тяжелых грудей. Незнакомая рука елозила насадкой пылесоса по серповидной щели меж ее ягодиц. Как Джин должна была это воспринять? Уж не отправил ли Марк запрос на сайт домохозяек? Тупость этих подношений ошеломляла Джин, хотя она не могла сказать, что была бы сколько-нибудь меньше ошеломлена, если бы снимки обнаженной любовницы Марка были сделаны
Попросту говоря, это была какая-то пародия. Она понимала, что это нельзя принимать всерьез. Но романы — они всегда избиты, всегда пародируют другие романы. Что следует взять за точку отсчета, за самый что ни на есть оригинальный роман? Здесь вся идея состоит в повторении, с волнующими (и повторяющимися) ограничениями касательно времени и места. Ничего общего с браком, со всей его однообразной специфичностью, разворачивающейся на протяжении многих лет во множестве обстановок, публичных и частных, сельских и городских, в долгом перекатывании от невинности к… потере невинности. (Джин больше не испытывала никакой уверенности в отношении знания: что она знала?) Но банальность романа не делает его безвредным, даже если именно это он себе говорил.
Не успев осознать, что делает, она уже набирала ответ.
Она не останавливалась. А когда закончила, то перечитала свой ответ и подумала: неплохо. Марк бывал причудливым в отношении пунктуации; его любимым словом было «чудесно», а на втором месте стояло «обожаю». Джин не могла не поддаться искушению воспроизвести блуждающие числительные Джиованы — «смо1/3», — то была гниющая рыба, брошенная дрессированному тюленю.
Джин выпрямилась на стуле и отсутствующим взглядом посмотрела в окно. Снаружи царил ослепительный день. Она действовала чуть ли не как робот, но не могла остановиться. Высокая мораль ни к чему не призывала — и не предлагала никакой
Направляясь домой по дороге, огибавшей окраины Туссена, Джин думала о том, как многое в этот ее день до сих пор связано с телом, — особое напряжение, если учесть, что она всегда в наибольшей степени ощущала себя самой собой при минимальном количестве движений: читая, думая, сочиняя, а также в полном оцепенении наблюдая в бинокль за птицами. Очень рано она открыла, что можно узнать очень многое, если просто оставаться неподвижной и более или менее исключить свое тело из происходящего. Внезапно все оказалось телами — и в воздухе стали витать груди! Раздутые и наклеенные на плакаты и афиши, а то и катящиеся, упруго подпрыгивая, на боковых стенках общественных автобусов, — ее атаковали идеальные пары грудей, неуместные, неясно вырисовывающиеся в этом обессиленном, заржавленном, забурьяненном, ощетиненном тростником окружении.
Рекламные щиты, изображавшие кожные тона, которые видели здесь только у туристов, почти не замечались местными, проезжавшими мимо них по трое, на мопедах или велосипедах, или миновавшими их пешим ходом, балансируя бочонками на голове или сгибаясь под дровами, взваленными на спину. Джин проехала мимо стайки школьников в клетчатой форме, прыгавших вдоль выщелачивающихся соляных пластов; по пути ей встречались разоренные фермы, придорожные закусочные,
На прибрежной дороге, где сбоку от нее вспыхивал, словно огромное зеркало, залив, путь ей преградил грузовик доставки, пытавшийся развернуться. Она остановилась прямо под изукрашенным грудями плакатом. «Вот ты куда», — сказала она, словно столкнулась с доказательством всеобщего заговора, — это была реклама шипучего апельсинового напитка, лившегося на фотографии с некоей высоты, словно водопад, в рот экстатической грудастой девушки, которой явно не было и двадцати.
На боку грузовика в качестве герба красовался вручную раскрашенный земной шар, в местном стиле обозначавший всемирный диапазон деятельности. Пока грузовик дюйм за дюймом выполнял свои опасные маневры, Джин, прикрываясь ладонью от сплошного потока солнечного света, лившегося с запада, разглядывала эту домашнюю планету. И, сидя под женственной грудью размером с ее автомобиль, чувствовала, что сама она застряла, причем отнюдь не просто на этом клочке узкой дороги с бушующим внизу диким океаном. Джин казалось, что фактов никаких нет, что у правил должны быть исключения и что все открыто для интерпретации, игры света, ударов волн дальнейшего откровения. Чувство, что она поймана, напомнило ей об одном ужасающем эпизоде из детства: ее, захваченную отливными волнами, унесло туда, где глубина была выше ее роста, и стало мотать меж двумя вулканическими валунами — исцарапанную, испытывающую тошноту и задыхающуюся, глотающую соленую воду, что простиралась вплоть до самого кренящегося горизонта. В тот раз отец вытащил и вынес ее оттуда, крепко прижимая ее к своей огромной грудной клетке, доставил на берег. А в этот раз?
На протяжении следующих двух с половиной месяцев Джин обменялась с Существом 2, с Муньеру, с Моей Собственной Горной Козочкой, с Джинджер[12], у которой рыжих волос не было и в помине, или же попросту с Джиованой не одной дюжиной пикантных электронных посланий. Она наблюдала, не последует ли какой-то реакции со стороны Марка. Тревожилась, когда тот отправился в Лондон — где, конечно же, встретился со своей любовницей, — что ее вмешательство окажется раскрытым. Но в своем упорном стремлении идти по следу она убедила себя, что Марк, пусть даже он оказался способен на такое, никогда об этом не заговорит — и его характерная веселость по возвращении вроде бы подтвердила обоснованность ее надежд. Джин объясняла свои частые поездки в город (и в Интернет-кафе) вновь открывшейся страстью к фитнесу — к тренажерному залу. Она и в самом деле чувствовала себя настолько заряженной энергией, что, казалось, могла бы пробежать целую милю.
Предвкушение, в частности, действовало гораздо лучше всех банальных эндорфинов[13]. Да! Что-то есть в ее ящике для сообщений. Каждый раз, открывая этот аккаунт, она ощущала прилив волнения, словно девочка, выслеживающая сверкание цветной фольги в саду, шоколадное яйцо, «спрятанное» родителями прямо по линии ее взгляда. Удовольствие, испытываемое ею в эти мгновения, приводило ее в замешательство — точнее, могло бы приводить, если бы она была при этом менее поглощенной и менее анонимной. Она забывала, что эти письма не предназначались для ее глаз, и Джиована поддерживала ее в этой иллюзии, никогда не называя Марка по имени. Джин, хоть и часто ежилась от получаемых ею имен, никогда не оказывалась от чувства, что она и была Существом 1, Возлюбленным, Большим, Огромным, Гигантом, Хозяином, Мэнстром, Котом, Боссом, Родом (Родни, Родом Стюартом) или, под конец самое лучшее, просто Сэром. Письма Джиованы были почти исключительно о сексе, и каждое включало по меньшей мере одну фотографию — контрабандное шоколадное пирожное, тайком сунутое в ее корзину с ленчем.
В одном послании, в отношении которого Джин впоследствии особенно опасалась, что оно могло выдать ее подлинную личность, она забыла об исполнении роли Марка и попыталась, со всей своей природной смекалкой и профессиональной пригодностью, нейтрализовать свою соперницу с помощью совета.
Она порекомендовала ей два руководства по выработке самооценки и прическу, которая не покрывает пол-лица, а помимо этого сочла уместным мягко указать, что выдавливание собственных грудей через косые прорези туго зашнурованного поливинилхлоридного корсета можно считать вполне достоверным определением чрезмерного старания. Но, может, Марк был с этим не согласен. (Так или иначе, но Джиована была подчеркнуто смущена: под своим изображением, где она была в платье с рукавами-буфами и лизала леденец на палочке, она принесла извинения:
Она едва удерживалась от осознания того, что у нее самой развивается роман с Джиованой — что она флиртует и фантазирует, как прочие склонные к самообману пользователи Интернета по всему свету. (В самом деле, стоило ли принимать во внимание ее тайное расследование и убийственную природу ее фантазий?) Отнюдь не подрывая позиций Марка, она, возможно, на самом деле его поддерживала. Она
Марк вроде бы не замечал ее одержимости, но работа ее страдала. Одна колонка о полезных для здоровья миниразрывах едва ли поднималась над стандартом, рекомендуя, под знаменем «экотуризма», непродолжительные пешие прогулки и повторное использование гостиничных полотенец, меж тем как следующая, о водорослевой панацее, не представляла никакой пользы для ее читательниц, ни одна из которых не проживала ближе чем в тысяче миль от источника волшебной морской травы. И, странным образом, хотя это было не более странно, чем множество других вещей, происходивших в эти дни, ей недоставало Марка.
Что бы он сказал, если бы она его во все посвятила? Представим себе, что все отрицания и безвкусные мелочи типа «где» и «когда» уже позади. Он, вероятно, сказал бы, что если бы она не вмешивалась, если бы была в меньше степени сторонницей активных действий («в меньшей степени американкой», вот как он непременно бы выразился), то он, прежде чем в пакете Кристиана прибыло первоначальное письмо, успел бы уже закрутить с какой-нибудь длинноногой шведкой и покончить и с ней тоже.
Она гадала, писал ли он когда-нибудь Джиоване сам, из отеля «Сен-Жером», куда ездил поиграть в теннис и проверить свою офисную почту. Ей, конечно, пришлось столкнуться с несколькими необъяснимыми ласковыми обращениями: ей запомнилось
Это чувство было слишком хорошо, чтобы продолжаться: насчет этого Джин оказалась права. Через несколько недель после своего открытия она обнаружила, что трезво обследует прошлое — свое, Марка, их обоих, а также их родителей, — выискивая любые предостережения о надвигающемся бедствии и, с меньшей надеждой, какие-либо пути выхода. Кроме того, Джин предприняла серьезные усилия, чтобы не обращать внимания на свою панику. Она пропалывала свой огород и очень много зевала, просто-таки не могла остановить зевоту.
И, хотя причин этого она не знала, более ранние горести — ныне воспринимаемые как практические упражнения в ужасе, — пузырясь, поднимались на поверхность сознания с сейсмической силой: как тот день, когда Джин упаковывала чемоданы, чтобы ехать в Оксфорд, и ее англоманка-мать, разгоряченная перспективой чужих радостей, подарила ей тафтяное бальное платье — огромное и желтое.
Сейчас, облаченная в обычную свою невзрачную огородническую экипировку, Джин вряд ли могла одобрить существование такого предмета одежды, не говоря уже о его месте среди ее пожитков.
Но этот прощальный подарок в точности выражал представление Филлис о забавном — или, скорее, о забавном в древних европейских декорациях. Аксиома ее мировоззрения состояла в том, что если у тебя есть некая одежда, то, несомненно, воспоследует и соответствующий опыт. В то мгновение Джин, обеими руками держа собранные в складки ярды тускло отблескивающего шелка, узнала пару вещей, о которых до той поры даже не подозревала. Во-первых, что ее мать — миловидная, аккуратная и низкорослая, хотя сама Филлис предпочитала слово «маленькая» — вышла замуж слишком рано, чтобы успеть получить свою долю веселья. Отец Джин, Уильям Уорнер, адвокат, был проницательным, вдумчивым, веселым и задиристым щеголем, но не тем говорливым и воодушевленным забавником, который, казалось, был нужен ее матери. Это Джин приняла его совет отправиться в Оксфорд и последовать по его стопам в изучении закона, пусть даже она уже получила вполне приличную американскую степень по английской литературе; это Джин восхищалась его потрескивающим сортом юмора, настолько сухим, что его можно было не заметить, этим его настолько тонким остроумием, что на его фоне каламбуры Марка казались резкими, как удары хлыстом. Другая вещь, которую Джин поняла при дарении того платья, состояла в том, что на бал она не пойдет. Никогда.
Тем не менее, она хранила это девственное платье, старое, но ненадеванное — пересыпанное нафталином, оно уже несколько десятилетий было уложено в коробку с пометкой «май». Джин никогда не думала о том, чтобы предложить его девятнадцатилетней Виктории, уже щеголявшей в своем собственном невесомом собрании изящных, мерцающих платьев, тесных, словно бандажи, — и не просто потому, что оно было желтым и старинным, словно явившимся из танца у Двенадцати Дубов в «Унесенных ветром». Джин страстно не хотела внушать Виктории какую-либо одолженную идею привлекательности — и уж, конечно же, не ту, которую сама когда-то отвергла.
Но это не могущее быть разглаженным платье, ткань которого словно бы взрывалась как раз в области бедер, все же выполнило свою работу, что, возможно, и уберегло его от Оксфэма[17]. Потому что как раз в то время, когда Джин
— Я в этом городе вырос, но в университет не хожу, — сказал он ей, отвечая на вопрос, написанный на ее лице, который, наверное, был очевиден. — Я, видите ли, делаю коллажи. В Лондоне.
Джин не знала, что и говорить. Марк казался намного старше ее однокурсников и даже ее преподавателей. Он обучался в художественной школе Кэмберуэлла в Южном Лондоне и в тот май приехал домой, что бывало редко, ради своей первой персональной выставки в новой галерее в Джерико. Когда они ждали возле кассы свои видеокассеты, он протянул ей приглашение на открытие.
— Вы
Она помнила, как опустила взгляд, осматривая свой бугристый коричневый свитер ручной вязки и джинсы. И в этом, с самого начала, был Марк: у него было живое и непоколебимое представление о ее достоинствах и, что еще лучше, его комплименты доставляли удовольствие долгое время после того, как были отпущены. Она не была просто красивой; по Марку, она отличалась «
Впервые за десятилетия Джин захотелось узнать, какими словами ее отец привлек внимание ее матери, когда они только познакомились.
«Худший несчастный случай при катании лыжах, какой у меня когда-либо случался», — шутил он после развода, двадцать восемь лет спустя. Он повстречался с Филлис Джин Эмери случайно, в Эспене, Колорадо, в феврале 1955 года, в очереди на подъемник. Так что же Билл сказал ее матери, когда они поднимались в холодном горном воздухе, подвешенные между горным склоном и небом? Она полагала, что он, вероятно, начал с того, что попытался произвести на нее впечатление каким-нибудь занимательным фактом, касающимся мира природы, — слишком увлеченный, чтобы заметить, как это ему надлежало, что разговоры, в которых не упоминаются люди, приводят Филлис в беспокойство. Однажды, тоже на подъемнике, он сказал Джин, что у снежинки уходит восемь минут, чтобы завершить свое падение на землю, и такое же время уходит у образа садящегося солнца на то, чтобы достигнуть человеческого взгляда. И, как и у Марка в магазине видео, у ее отца было примерно лишь столько времени, чтобы исполнить свой бросок, достигнув цели, добиться, чтобы Филлис хотела
Думая сейчас об этом персональном мифе о сотворении мира, принадлежащем детям семьи Уорнеров, с его четкой звуковой дорожкой, воспроизводившей звук санных колокольчиков, несущийся из старого шахтерского городка у подножия горы, Джин снова искала какое-нибудь объяснение их индивидуальных судеб. И вновь любой намек на реальные очертания вещей оказывался размытым. Тогда она снова убирала на полку ту случайную встречу, накрывая ее маленький стеклянным куполом, причем из-за плохой видимости в этой карманной вьюге любви ностальгия лишь обострялась.
Марк в очередной раз должен был отправляться «на берег» — так они называли поездки домой, словно Сен-Жак был не островом, а плотом. Она понимала, что ей надо отступиться от его романа, что бы еще она по этому поводу ни решила, но достаточно ли она уже узнала? Была ли завершена какая-нибудь миссия, что позволяло бы ей отложить это дело в сторону? Глядя в окно кухни поверх раковины, полной грязных, уродливых овощей, Джин увидела порхавшего в кустах колибри, которого прозвала Изумрудом, — занятого, всегда необыкновенно занятого. Птичка, прожить не могущая без работы. И она подумала о работе Марка. «Я режу журналы», — сказал он ей в тот первый день в магазине видео, и, хотя она решила, что он шутит, это было именно тем, чем он занимался. Он резал, переформировывал и заново оживлял образы, настриженные из реклам, и результатам присуждался титул «политических». На самом деле никакой политики у Марка не было, вместо этого он руководствовался своим чувством формы и цвета, привязанностью к прелестным очертаниям старых продуктов и к необычным шрифтам, а также своим отчетливым, в большой мере детским чувством юмора.
Работы, представленные на той первой выставке в Оксфорде, удостоились единодушных похвал и хорошо распродавались, и сердце у Джин под ее бугристым свитером распирало от гордости, когда она услышала эту новость. Подобно самому Марку, его коллажи представляли собой обворожительную смесь элегантности и легкой бестолковости, а иногда они были трогательными, пусть даже, как это всегда обстоит с хорошим искусством, трудно было сказать, почему именно они трогательны, эти кустарные сады неземных удовольствий: потребительские галактики известных сортов и марок, предметов домашнего обихода, прибавивших в красоте и странности из-за того, что были выдернуты из контекста обыденного использования и запущены на планетарные орбиты, которые, тем или другим образом, вращались вокруг него.
В центре первого коллажа, который она увидела на выставке в Джерико, помещалась фотография художника в возрасте восьми лет, голубоглазого блондина с идеальными ямочками на щеках и с густыми волосами, заботливо расчесанными матерью. Он был неотразим: этот его усыпанный веснушками нос, яркие глаза, глядевшие с выражением легкой неуверенности в себе, которое он принимал даже и теперь. Эта ли работа заставила ее сдаться — и идея нетронутой невинности в неподвижной сердцевине этого мирского вихря — или же лишь этот милый, не вполне уверенный в себе английский мальчик, взгляд умных глазок которого был и смелым, и сдерживаемым одновременно? Джин просто не могла вообразить, что могла увидеть в нем штучка вроде Джиованы, и неудачные попытки представить себе их соединение только обостряли ее одиночество.
Возможно, что-то в ее собственном характере провоцировало предательство. Если это могло представляться складом ума, свойственным жертве, то правдой было обратное: юрист по образованию и по наследству, Джин никогда не принимала судьбы, лишенной ответственности, и она знала, что в браке своем была, как выразилась бы ее дочь, активно пассивной. Вплоть до того вечера в магазине видео ей хотелось быть такого рода девушкой, которая не только ходит на Майский бал, но и флюгером вертится над освещенным зарей фонтаном в промокшем и, возможно, разорванном желтом платье. Но Марк все это переменил. Он был художником, с успехом проведшим персональную выставку. И она больше не беспокоилась из-за того, что окончит университет с юридическим дипломом, не признаваемым в ее собственной стране. Это не имело значения, потому что Джин не собиралась жить в Америке.
Она, однако же, не рассчитывала, что он оставит свою работу. Они поженились поздней осенью после ее выпускных экзаменов, и Марк постепенно перестал делать коллажи. Невзирая на ее протесты, он даже вышел из числа участников групповой выставки в Музее современного искусства в Оксфорде. «О художнике надо судить по тем выставкам, от которых он отказывается», — вот как он это подал, пускай даже отказываясь быть художником. Заказ от друга семьи — логотип компании, затем рекламная кампания — перерос, подобно всем его предыдущим работам, в головокружительный коммерческий космос. Вскоре заказы сыпались как из рога изобилия. Джин полагала, что своим успехом он обязан присущему ему детскому мировоззрению, тому, что основная его цель состояла в том, что доставлять удовольствие самому себе. Он вкалывал долгими часами, но всегда производил впечатление человека, занятого игрой. Когда он навсегда оставил искусство, то сделал это без колебаний; его жизнь станет самым большим и самым лучшим коллажом, сказал он, и поместил веснушчатый нос Джин в центр своей вселенной — и нос Виктории тоже, когда та, изящная шестифунтовая посылочка, появилась на свет весной 1983 года.
Так что же пошло не так? Оба они были непоседами и путешествовали, беря с собой малышку Вик. Он любил рынки и иноземные системы знаков; Джин нравилось находиться вместе с ним в дороге, и вот они здесь, по-прежнему в дороге. Она оставила свою юридическую карьеру даже прежде, чем та началась. Ей только что исполнилось двадцать три года, когда она отказалась от своей фамилии и своей страны. Теперь ее с болезненной силой уязвляла мысль о том, что она была безумно опрометчива, из-за чего ее изоляция с Марком не могла не стать полной. Все эти годы она верила, что их великолепная
На протяжении последних четырех месяцев перед рождением Виктории преэклампсия[18] держала Джин в горизонтальном положении. Марк смешивал им коктейли (для нее — праздничный девственный пунш), пока она зачитывала самые свежие записи в дневнике, который выступал в роли ядра ее колонки, эти идиосинкразические и вызывающие привыкание размышления через призму тела: высокое кровяное давление, вызывающее тревогу удержание жидкости, странная моча… Марк с обычным своим энтузиазмом всучил несколько ее страничек своему клиенту, владельцу журнала «Миссис», и вскоре его инстинкт подтвердился тысячами новых подписчиков. Кто мог предсказать такой широкий беззастенчивый вуаеризм, породивший больше читательских писем, чем когда-либо получал этот журнал?
В пятую свою годовщину эта колонка, «Наизнанку с Джин Хаббард», стала продаваться для одновременной публикации в различных изданиях — в честь чего гордый Марк поднял бокал заранее припасенного шампанского, а Виктория, которой пяти лет еще не было, нарисовала пальцем картинку — и теперь появлялась также в шотландском еженедельнике, в свободно субсидируемой газете в Ирландии и в новом русском женском журнале, от скудных гонораров которого Джин отказалась, чтобы иметь возможность достичь через загубленные степи более нуждавшихся женщин, у многих из которых — как они ей писали — за спиной было по полдюжины кухонных абортов. Новый агент пристроил ее в австралийский журнал «Her Own» и в «молодой» «American Splash», где ее колонке присвоили вводящее в заблуждение заглавие «В ваших башмаках» и стали сопровождать ее не марочного размера фотографией автора, но изображением модной туфельки на остром, как стилет, каблуке. Годы открыли ей доступ и в другие журналы, принесли постоянно увеличивающийся поток писем, а также приглашений на общественные мероприятия. Но в целом Джин и Марк продолжали на протяжении все более длительных отрезков времени оставаться затворниками.
Теперь она пыталась определить, имелись ли какие-либо соответствия их приступам уединенности — скажем, совпадающие по времени периоды воздержания от секса или же другие намеки на неверность. Ничего. Их частые поездки — будь то вместе или порознь, когда Джин ездила с Вик к родителям в Нью-Йорк, а Марк гонялся на континенте за новыми клиентами — разуверили друзей в их надежности в качестве обеденных гостей и позволяли им увертываться от тех приглашений, которые они все же получали.
Они любили воображать, что живут в другой стране, и путешествовали, как только предоставлялась возможность, — но работа и школа входили в сговор, чтобы большую часть времени держать их в Камдене. Так что когда Вик поступила в университет, Марк перевел себя на роль, несвязанную с администрированием. («Как насчет “гения, в данном месте не проживающего”»? — спрашивал он у жены, подыскивая название должности.) Когда он описал Сен-Жак, восхитительно далекий, по-настоящему не открытый и не лежащий на пути куда-либо еще, Джин незамедлительно позвонила Макею, своему редактору, чтобы обсудить небольшие смещение акцентов в ее колонке: пришло время подарить чудесным читательницам «Миссис» весь мир.
Про себя же Джин думала: на этом острове они будут
Для того чтобы «закрыть» их лондонскую жизнь, никто не приложил больше сил, чем Виктория. Она разбрасывала нафталиновые шарики с театральным рвением телевизионного повара. То, как она укладывала вещи в коробки, снабжала последние ярлыками, запечатывала их и штабелировала, можно было бы заснять в качестве тренировочного видеофильма: сжигайте жир, пока пакуетесь. Когда приблизился день отъезда и лихорадка приготовлений усилилась, Вик стала также и отвечать на письма читателей в качестве «Джин Хаббард»; она была верна прямому стилю матери и лишь раз или два, скуки ради, позволила проскользнуть чарующим или высокомерным ноткам. Для отца она в своих любимых магазинах вышедшей из моды одежды собрала полный комплект тропической униформы (успешно справившись с его строгим указанием: никакой бирюзы и никаких пальм), зная, что униформе этой придется стать одним из экспонатов его смелой коллекции городских костюмов, в которой уже имелись зеленый, как кузнечик, габардиновый, красный в тонкую полоску, темно-синий шелковый с воротником, как у Неру, и незабываемый трехбортный серый фланелевый костюм, разработанный им самим со средним рядом пуговиц: придуманный в шутку и, как и все остальные, изящно пошитый.
Вик останется в маленьком доме на Альберт-стрит, предмете зависти ее подруг, которые называли его «маминым кафе». Она будет кормить кошку, начнет свой второй семестр в университетском колледже и продолжит работать по субботам в «Виниловом мире», расставляя в алфавитном порядке подержанные пластинки. Она спросила у Марка и Джин — как привыкла их называть, — не избавиться ли ей от всех их старых альбомов, раз уж теперь у них даже нет проигрывателя. И, хотя они этого ей не предлагали, Джин очень отчетливо представляла себе, что она перебралась в их спальню. Ей увиделось все это в один из дней, когда она все еще укладывала кипы вещей на полу — бросала, складывала, упаковывала, — меж тем как Вик стояла в дверях вместе со своей подругой Майей. Майя, не успевавшая управляться с потоком бой-френдов и жившая в комнате строгого колледжа, посмотрела на огромную ладью кровати Хаббардов и вздохнула. Чего Джин не замечала вплоть до более позднего времени, так это того, как жаждала Виктория, чтобы они посоветовались с ней относительно своего отъезда. Как сильно она не хотела, чтобы они уезжали.
Люди нуждаются в социальном взаимодействии, заключила Джин во время этого периода мучительного обзора прошлого, пытаясь приземлить разлетающиеся осколки своей жизни — и избавиться от непрошеных образов Джиованы, роящихся в ее сознании. Захлопывая дверь перед этими незваными стрипограммами, она говорила себе, что у Марка в его офисе такого общения было хоть отбавляй. Там имелась Нолин, обходительная, надежная, умевшая посмеяться его шуткам, — с этим ее прокуренным баритоном и неизменной прической с пробором в стиле шестидесятых, удерживаемой единственной заколкой, плотно прилегающей к коже. Были, конечно, и сменяющие друг друга практикантки, наполняющие любое успешное агентство, — далеко не с таким утешительным видом, как у Нолин, — но разве они не принадлежали отделу Дэна? Дэна, который как-то раз в понедельник заглянул в офис Марка — поднялся, перепрыгивая через три ступеньки, сам себя впустил к нему в кабинет и спросил о работе так, словно пришел по объявлению. Он восхищался некоторыми из реклам Марка, в особенности его кампанией, посвященной секретарским курсам: на фото изящно изогнутые девичьи пальцы соблазнительно распростерлись над клавиатурой, поверх строки
Марку это в нем понравилось. Дэн не обучался ни в университете, ни даже в художественной школе, но у него явно не было никаких сомнений относительно того места в мире, на которое он вправе рассчитывать. Двадцатилетний и похваляющийся пустым
Однажды утром, ближе к концу своего необычного увлечения, Джин сидела в Интернет-кафе, разглядывая самую свежую Джиовану: в одном только собачьем ошейнике, она была на поводке и стояла на четвереньках, высунув язык, как будто запыхалась. Как Марку может нравиться такая дрянь? — недоумевала она. Как такое может нравиться Джин? Притворяться либидо собственного мужа — это не игра для гостиных. И, конечно же, каждый обмен письмами с Существом 2 вызывал у нее уязвляющий образ того, как Марк и Джиована трахаются, — наряду с бесплатным напоминанием о ее собственном вынужденном воздержании.
Выступая в роли Марка, она должна была рассматривать Джиовану с его точки зрения. Та, которой предоставлена такая всеобъемлющая вольность, не могла, по мысли Джин, не быть возлюблена. По меньшей мере, ему следовало испытывать благодарность. Джиована должна быть предметом любви, а не просто собранием теплых, всасывающих полостей — рта, влагалища, заднего прохода, рук, глубокой обволакивающей расщелины меж грудями, ей так и виделось, как он трахает все это, а также, с ностальгией по межножковому разрыву, случившемуся с ним много лет назад в школе, ее мощные с виду бедра.
Ей представлялось, что Марк с Джиованой издавал новые звуки. Когда они с Марком занимались любовью, то это было подобно немому кино, с несколькими счастливыми и запыхавшимися совместными вздохами в конце, если все получалось, как будто они только что вбежали под крышу, спасаясь он непредвиденного града. Но с Джиованой, она была убеждена, Марк вступил в более яркий, более громкий мир. Он, должно быть, уверен, что предоставляет наконец надлежащее выражение существеннейшему из таинств и что делает это во имя всех мужчин. Лейтмотив его озвучения — которое в личной комнате для прослушивания Джин простиралось от грегорианских песнопений до воя пациента, подвергнутому ампутации без анестезии — был также весьма ободряющим для Джиованы, о чем она давала ему знать ритмическим частым дыханием и извивающимися стонами, меж тем как он неустанно выбивал из нее воздух. Это был дуэт йодлем[20], подпитываемый самовосхвалением, пеан, прославляющий сказочный атлетизм и распутство. Но ничего иного сказать друг другу они не могли; насчет этого Джин была полностью уверена. Все электронные послания, включая ее собственные, были письменными версиями этих стонов и хлюпанья, шумов, которые должны были замещать более развитые изъявления нежности, выражения любви между равными.
Однажды Джиована попросила прощения за то, что упрашивала его перестать проделывать с ней нечто не обозначенное, но бесконечно для нее мучительное. Пригвожденная, зажатая в угол, скованная, задыхающаяся и давящаяся Джиована воздевала, наверное, неожиданно нежную руку, умоляя о передышке, и каким властным, должно быть, чувствовал себя Марк, снисходящий — или же нет — к тому, чтобы позволить ей дышать. Настаивающий на своем: это было нечто, что ему «требовалось» сделать, потому что этому не было места в их браке, где общение было приветливым, деятельно заботливым. Когда в сезоны сенной лихорадки у нее случались приступы чихания, ее Марк подводил машину к краю тротуара, чтобы просто похлопать ее по спине. И этот Марк вминал Джиовану головой в переднюю спинку кровати, безучастно раскачиваясь меж ее безумно мечущихся рук, пока — как, бишь, она это изложила? —
Джин действительно чувствовала себя уязвленной и обкраденной, но также все отчетливее ощущала, что, что бы она ни писала и что бы Марк с ней ни вытворял, с какой бы полнотой они, Хаббарды, ни выкладывались, Джиоване этого слишком мало. И всегда будет мало. Она хотела — нет, требовала —
На следующее утро она снова оказалась в Интернет-кафе, сидя, как обычно, перед крайним, самым уединенным из компьютеров. Она разглядывала Джиовану, которая, широко раскинув ноги, плыла на надувном матрасе, розовость которого повергала в шок, среди режущей глаз голубизны бассейна. Голова ее была закинута назад, и Джин думала, могут ли все эти густые, идеально волнистые черные волосы быть натуральными. Ее загорелые груди искрились то ли от пота, то ли от масла для загара, и она стискивала их между простертыми книзу руками, так что те выпирали, словно покрытые глазурью булки, и рот у нее был полуоткрыт, а глаза полузакрыты в знакомом выражении восторга.
Джин смотрела на экран и сознательно стирала из своего сознания Марка. В течение нескольких последних недель она обнаружила, что получает удовлетворение, воображая, как телом Джиованы пользуются, и отнюдь не деликатно, совсем другие мужчины, а их можно было выбирать из целого сонма, включающего Амаду, сына Аминаты,
Она сунула его в находившийся перед нею вид, поместив его рядом с бассейном, и вот появился Дэн и стал брать Джиовану сзади, вонзая большие пальцы рук в ее мягкие бедра, шумно хлопая нижней частью живота по ее вихляющимся коричневым ляжкам и едва не спихивая ее с плавучего средства, которое уже было вытащено из бассейна, так что той ради опоры приходилось цепляться своими длинными ногтями за плиты пола. Джиована выглядела обеспокоенной, она едва могла это терпеть, но все же терпела. Звуки, которые она производила в голове у Джин, переходили от встревоженного звериного ворчания к испуганному звериному ворчанию, а затем и к молчанию со стиснутыми челюстями — тому, что не отличить от многих видов молчания: сосредоточенности, медитации, боязни или поистине безмолвного экстаза.
Хотя до этого Джин никогда не привлекала для подобных сцен Дэна и даже отдаленно не считала его сексуальным, она таки пришла к выводу, что для Джиованы он идеален — достаточно безжалостен и жесток, — и, не осознавая этого, неловко заерзала на твердом краю стула и беспомощно застыла в момент непредвиденного облегчения, как это бывало с ней в детские годы на игровой площадке, когда она замирала на канате для лазания, еще прежде чем узнала, что такое оргазм. Думая об этом позже, Джин чувствовала униженность и подавленность — не столько из-за того, что ее возбудила Джиована, которая, в конце концов, была создана (а также усмирена и украшена) для удовольствия, сколько из-за того, что ее взволновал
Марк отправился в Лондон, и Джин перестала ездить в город, пусть даже тот факт, что там не могло быть ничего нового, пока он оставался со своей любовницей, вряд ли делал это воздержание добродетельным. Для добродетели было слишком поздно. Все было запятнано, и она разлагалась изнутри. Джин ощущала себя обозленной, испачканной, усталой и старой. Наконец она почувствовала себя такой больной, что поехала в один из санаториев Сен-Жака на прием к известному диетологу, согласно диагнозу которого она страдала от «истощения надпочечников». Дорогостоящий новый термин для неверности, думала Джин, с мрачным видом выписывая чек, — отметив про себя с дополнительной досадой, что у слова «рогоносец» не существует даже соответствия женского рода.
Хотя она могла отказаться от белого хлеба, как наставлял ее диетолог, и избегать Интернет-кафе, не в ее силах было отделаться от наваждения и перестать следовать той нити, что, казалось, вела ее все глубже внутрь лабиринта, а отнюдь не наружу. Чары разрушило только вынужденное прерывание, и это прерывание обеспечила Филлис.
Мать Джин решила наведаться к ним в гости — и Джин, великодушная на расстоянии в девять тысяч миль, поощрила ее в этом. Может быть, дело было в ее новом одиночестве, но она хотела повидаться с Филлис; разумеется, она воздержится от ребяческих вспышек раздражительности — в конце концов, провоцируемых в основном критикой Филлис в адрес Марка.
В отсутствие Марка она начала строить планы в связи с предстоящим визитом матери. Она представляла себе долгие прогулки по побережью. А что потом? Она поведет мать в старую ромовую винокурню, где теперь устроен музей. Они пойдут в знаменитый ботанический сад, в котором Джин сама еще не бывала, и в Центр разведения в неволе «Beausoleil»[21], где запущен проект по спасению пустельги, о котором она читала в «Le Quotidien»[22]. Делегация любителей птиц из Британии и Америки пыталась увеличить популяции пустельги — когда центр открылся, этих птиц оставалось всего четыре пары. Они кормили их с рук предварительно убитыми мышами, помещали их яйца в инкубатор, а со временем собирались вновь выпустить этих птиц в их наследственную среду обитания — в джунгли Сен-Жака, которые сами убывали и остро нуждались в сохранении.
Центр разведения в неволе «Beausoleil»: это то же, что отель «Beausoleil», только более точно названо, думала Джин. (Она пыталась привести в порядок заметку о хорошо известной, хотя и трудно доказуемой, связи между отпусками, проведенными за рубежом, и плодовитостью.) Колеся по острову, она выясняла, можно ли раздобыть для Филлис дневные пропуска в большие отели, где ту баловали бы и всячески развлекали. Ей стало понятно, почему туристам не хотелось покидать этих территорий, доставлять воду на которые стоило очень дорого, — там они проводили неделю или две почти нагишом, лишь опоясываясь полоской ткани перед едой, и даже бассейны там были подобны саронгам, обернутым вокруг наполовину погруженных в воду баров.
Потом надо было разобраться со всеми этими купонами: танцевальные классы и спиннинговые вылазки, пляжный буфет и коктейли у бассейна, прогулка при лунном свете на банановой лодке и сёрфинг на закате с воздушным змеем фристайл, состязание стил-бэндов[23], съехавшихся со всего острова, и конкурс караоке в детском клубе, лимб и бинго, румба с ромом, а также, разумеется, обслуживание номеров — фирменные Сесилии и Седрики, Рангуламы и Ришабы, подавальщики полотенец и официанты, спасатели и тренеры по фитнесу, а еще, первые среди мужчин, — инструкторы по дайвингу, включая неотразимого Амаду, сына Аминаты. Такова, во всяком случае, была картина, полученная Джин от Аминаты, у которой было множество глаз и ушей по всему острову, причем у всех была перспектива носить ту или иную униформу. И даже если Джин иногда ощетинивалась, это был вид, который соответствовал ее зарождающемуся ожиданию всеобщей порочности. Если этим занимался Марк, то почему не все остальные?
Ей надо было спросить у Амаду, безопасно ли пожилым людям заниматься дайвингом; Филлис понравились бы карнавальные краски кораллового рифа, эмбриональная невесомость подводного пловца и ободряющее соседство широкоплечего гида наподобие Амаду, Посейдона на полставки, омываемого синевой морского мужа. Она рассмеялась, представив себе свою мать в крошечном водном костюме и маске с кошачьими глазами, в ластах с подушечками, как у котенка. Когда она наконец отыскала Амаду в промежутке между дайвинговыми заплывами к рифу, тот заверил ее, что не допускаются к нырянию только клиентки беременные или те, кто подозревает у себя беременность. Очевидно, приезжие женщины входили в категорию багажа, за который каждый всегда должен отчитываться. И неожиданно, подумала Джин, до сих пор обескураживавший вопрос, задаваемый в аэропорту: «Вы сами упаковывали эту сумку?» — обретал свежую поэтичность и значение. Абасс, еще один сын Аминаты, работал на таможне, и Джин слышала, как самых привлекательных девушек похищают прямо из иммиграционного зала. У таксистов над хищниками-конкурентами имелись два решающих преимущества: они были парнями с машинами и, подобно команде круизного лайнера, получали первые фишки. Если семья Аминаты охватывала всю арку опыта, получаемого на Сен-Жаке, то ее дочь Айссату, медсестра в госпитале, стояла у тупикового конца радуги и наблюдала растущее распространение венерических заболеваний: старомодных болезней, нового рода сувениров, привозимых из отпуска.
Отъезжая от отеля Амаду, Джин размышляла, можно ли написать о рисках для здоровья, сопровождающих сексуальную либерализацию, без того, чтобы звучать как стандарт 102. Пакеты услуг для участников свадебных путешествий были стандартными предложениями во всех крупных отелях, но некоторые обслуживали одиночек — молодых и не очень молодых западных женщин, подыскивающих себе партию. Безумно беззаботные, они насыщались до отвала, прежде чем начать беспокоиться о собственных свадьбах. По пути домой она завернула в салон.
Амината — приводившая в порядок волосы Джин, что было частью ее приготовлений к встрече с Филлис, — рассказывала ей все о дикости британок и, особенно, австралиек. Салонные сплетни всегда служили для Джин источником ничем не отягощаемых развлечений, но сейчас, когда она сидела с неудобно запрокинутой головой и беспокоилась, как бы не повредить нервные корни, идущие от спинного мозга (она однажды написала колонку о радикулопатии, заполучаемой в парикмахерских креслах), оказалось, что ей больше ничего не хочется знать о чьих-то сексуальных злоключениях. У нее не было ни малейшего желания выслушивать от Аминаты в равной мере легкомысленные оправдания клиторотомии и полигамии; ей стало нестерпимо ее неумолимое презрение к туристкам, которое порой трудно было отличить от простого расизма. Она едва не сказала Аминате, что лучше бы ей держать в узде своих буйных сыновей, а не поливать грязью тех девиц, которых они драли, — тех же самых, кого она обирала у себя в салоне, иногда в один и тот же день.
Но она сожалела о появлении в себе этой новой строгости. Ей хотелось сохранить свою веселую подругу и осведомительницу, хотелось иметь возможность привести к ней в салон Филлис: та ею была бы очарована. Амината напомнила бы ей, как и Джин, их любимую домоправительницу в шестидесятых-семидесятых годах, Глэдис Уильямс из Южной Каролины, чьим собственным стилем прически был блестящий черный шлем парика. Филлис понравился бы и сам этот маленький салон, с его розовыми стенами с цветами, накатанными по трафарету, и соответствующими розовыми раковинами.
Насчет же офиса-дома у Джин не было сомнений: ее мать его возненавидит. Осмотрится вокруг и решит, что они перебрались сюда из экономии. На самом деле Джин была так очарована бывшим офисом рудника с его филигранным портиком в стиле викторианской железнодорожной станции и рядами плетеных из ротанга скамеек, что сразу же решила его купить. Но теперь она видела его глазами матери: колдобины, изрывающие подъездную дорогу по всей длине; разбитая брусчатка; потрескавшаяся штукатурка стен, зеленая от плесени; паутина ползучих растений, охватывающая почти все здание; жестяная крыша, устраивающая овацию стоя всякий раз, когда стучит дождь.
Для Джин этот звук — усиленный ливень — навсегда связался с послеполуденными занятиями любовью, что случилось единожды, когда им, в первый же день их пребывания в этом доме, повезло быть застигнутыми грозой внутри, а не снаружи, и они знали, что никто не их потревожит, пока она будет длиться. Это громогласное приветствие развеселило их как раз в тот момент, когда они закончили втаскивать все коробки и вещевые сумки, — это заставило их почувствовать себя по-настоящему сухими, ощутить себя в безопасности,
Затем Марк выбежал в мягкий и размеренный дождь, чтобы сорвать манго, которое они с изумлением обнаружили через окно. Ножа они не нашли, так что вгрызались в необычайно пахучую мякоть плода, кожура которого, как он выразился, «подобна закату». Потом они высунулись в окно, прямо в дождь, чтобы смыть с лиц сок. И почувствовали себя более чем очищенными. Именно тогда, угрюмо подумала Джин, они впервые назвали этот офис, а заодно и весь остров, хорошим местечком.
Но Филлис сразу увидит, что это вовсе не дом, и ничуть не порадуется тому, что тебе не надо ходить в офис, поскольку ты в нем просыпаешься. Она будет думать о том, что на протяжении многих лет Марк и Джин предпочитали таскать свою маленькую дочь по всему третьему миру, кипятя воду и отягощая свой багаж средствами от диареи и насыщенными ионами порошками с фруктовым запахом, а потом он
Ее мать не сообщила ей, почему она приезжает, а Джин, не желая признать, что предполагает какую-то ужасную причину, ни о чем не спрашивала. Вместо этого она занималась уборкой. Она знала, что Филлис найдет, к чему придраться. Тем не менее, три дня она все драила — высыпала дохлых жуков из светильников, протирала губкой деревянные части мебели, выбивала половики, стирала бледно-голубые чехлы. Кровать в гостевой комнате она снарядила единственной еще не латанной москитной сеткой, причем, навешивая ее, едва не вывихнула себе спину, и стала гадать, будет ли Филлис очарована этим прекрасным облаком белого газа или же обеспокоена тем, что эта сетка предсказывала. Надо взять с Марка обещание не упоминать о скорпионах.
А потом, в последний час своих маниакальных приготовлений, она одарила себя великолепными стигматами: стоя на шатком табурете и пытаясь перенавесить дверцу буфета, у которой оторвались петли, она ударилась глазом, и тот мгновенно залился кровью. Все стало гораздо хуже, когда она обмазала его «магическими» водорослями, которые ей всучила Амината, пленчатыми зелеными полосками, которые на острове использовались во всех качествах, от средства для прочистки ран до наполнителя омлета (благодарение Богу, что ее читатели не имели к ним доступа). Глаз стал таким безобразным и воспаленным, что ей пришлось носить самодельную повязку — косметическую подушечку под сдвинутой под лихим углом банданой, которая постоянно сползала, как плохо закрепленная повязка слепца.
Однако, сколько бы Джин ни занималась этой своей чисткой, ей никак не удавалось отскрести то дурное чувство, которое она носила внутри себя и которое по мере приближения приезда Филлис становилось все более неприемлемым. Она просыпалась рано и сразу же отправлялась в душ, намыливаясь и оттираясь под самой горячей водой, какую только могла выдержать. В прошлом утренние часы были у Хаббардов временем для секса. Один только этот укоренившийся позыв, даже когда Марк отсутствовал, заставлял ее испытывать при пробуждении неловкость и ощущение нечистоты — хотя бы потому, что каждый день, еще прежде чем она успевала умыть лицо, это приводило ее к мыслям о Джиоване. А через день после его возвращения, всего за четыре дня до приезда Филлис, та же проблема перекочевала за ней в следующее испытание — испытание завтраком.
Созерцая Марка, сидевшего напротив нее за столом, она видела только его истощение, которого нельзя было приписать дорожной усталости. Он выглядел серым, кожа вдоль линии его челюсти отвисала. Его шутки были невеселыми, тоже старыми. Когда он возился с чайным ситечком, у него слегка выпячивалась нижняя губа — когда-то это казалось ей милым, но внезапно стало раздражающим, стариковским. Его привычка постоянно расчесывать волосы пятерней казалась самовлюбленной и неряшливой, а уж следы от яйца и джема в углу его рта были, конечно, совершенно возмутительны. (Она чувствовала уверенность, что их не было бы, сиди напротив него Джиована.) Совладать с этим избытком враждебности она могла лишь посредством того, что избегала его, выходила наружу, когда он входил, притворялась спящей, когда он шаркающей походкой входил в спальню, чаще пьяный, нежели нет. Но дело было не только в Марке. Даже птицы — которые, возможно, нравились ей на Сен-Жаке больше всего прочего — выглядели запятнанными.
Шайки попугаев хозяйничали в высоких эвкалиптовых деревьях позади дома, и их пронзительное верещание раскатывалось эхом по всей долине. Сначала она восторгалась, когда видела их мольбертные цвета. Теперь ей мнилось в них нечто распущенное, как в рабочих на стройплощадке, с этим их неубывающим потоком непристойного свиста. В тот последний день своих приготовлений Джин, вспотевшая под своей глазной повязкой, была убеждена, что чувствует их осмеяние, несущееся на нее в пропитанном ментолом бризе и охаивающее все ее усилия. Склонив голову, она продолжала мести, как обезумевший пират, пытающийся добраться до закопанных сокровищ с помощью метлы.
Когда Марк прошел мимо в своем синем халате, то выглядел вполне дружелюбно, но она заметила, что он держится на расстоянии. Не понял ли он, что она все знает, — не достаточно ли экспрессивно она орудовала метлой, чтобы выразить свой гнев, свое желание избавиться от грязи в их жизни? Может быть, он молился о безмолвной сделке: он оставит Джиовану, а Джин никогда об этом не упомянет. Она полагала, что ему в самом деле хочется это прекратить (куда могут привести подобные вещи?) и каждый раз, видя Джиовану воочию, он решает положить всему конец — сразу же
Пока Джин мела, Марк прошел к открытым воротам, чтобы их запереть, — как будто это в большей степени, чем ее переписка по электронной почте, могло воспрепятствовать вторжению решительно настроенного чужака. Покончив с этим делом, он с трудом наклонился — его, высокорослого, плохо слушались колени и спина — и снова поднял с земли свое пиво. Она видела, как разливалось по нему облегчение, когда он приложился к горлышку, и отогнала от себя образ Марка и его любовницы во время посткоитального отдохновения. Нравилось ли Джиоване, как свешивались с края кровати его ступни? Джин всегда находила это необычайно трогательным, особенно если пальцы ног были обращены книзу: Марк нигде не умещался полностью, в частности, его бесприютные пальцы ног, так буквально опущенные. А думал ли он теперь о Джин в этого рода подробностях — об ее ступнях,
Она гадала, что он видит, когда смотрит на нее. Он видел ее все более и более взволнованной, занятой, но ничего не производящей, птицей, залетевшей в дом, как в ловушку. Скажет ли он это Филлис — «словно птица, залетевшая в дом», — когда Джин будет готовить обед и ничем не сможет возразить, пока ее мать будет хихикать, больше польщенная его доверительностью, нежели обеспокоенная этим образом? Не говорить о Джиоване для Джин было сущим мучением. Но ничто не могло ее заставить открыть рот.
Он повернулся к виду за воротами спиной. Чувствуя на себе его неподвижный взгляд, она ощущала, просто как вероятность, его желание сообщить ей, что он, несмотря ни на что, все-таки по-прежнему ее любит. Но Марк не подойдет к ней, не станет рисковать, чтобы все открылось как раз накануне прибытия Филлис. Все же казалось, что он хочет подставить плечо, чтобы немного облегчить тот груз, что так сильно на нее давил, и чтобы его вкладом стало вождение грузовичка.
Этот помятый трехцветный драндулет был их первым приобретением на острове: автомобиль, задняя часть которого была выпотрошена, чтобы получился грузовик. Он был надежен лишь отчасти, но Марк восторгался его прелестью гибрида — длинного сзади, короткого спереди, — кефальной стрижкой для автомобиля, как он говорил, вкупе с его обтянутыми коленкором сидениями, и настаивал, чтобы его называли «грузомобилем». Джин к «грузомобилю» относилась терпимо, одобряя его приставучую богемную ауру, но на время визита матери предпочла водить аккуратный фургон, взятый напрокат.
Дорога в аэропорт, пролегавшая в глубине острова, была короче и поэтому больше нравилась Марку, но она была не мощена и пустынна. Джин представила себе, как ее преследуют стервятники и ошарашенные козлы, как она опускается на колени рядом с новым фургоном и как борется с заржавевшим домкратом, измазывая свою предназначенную для аэропорта юбку красной глиной. Так что вместо этого она выбрала дорогу, проходившую вдоль побережья, по всей длине которой ободряюще простиралась жизнь. Крепко держась за руль в тех его точках, которые на циферблате соответствовали бы десяти и двум часам, она с облегчением обнаружила, что мысли о Филлис ее больше не раздражают. Это было добрым предзнаменованием; конечно, раздражение по большей части проистекало из ожидания этого события, и вся штука заключалась в том, чтобы избежать страха, а не встречи. Ветерок, задувавший в окно, и свободная дорога улучшили ее настроение, и всю остальную часть пути она пела.
Филлис вышла из двенадцатиместного самолета последней, с точностью и изящностью нащупывая ногами алюминиевые ступеньки и спускаясь по ним бочком: картина, которая сообщила ее специализирующейся на здоровье дочери о женщине, хорошо знакомой с текстами о хрупкости ее костей. Овеваемая ветром на бетонной дорожке, в расписанном геометрическими фигурами шарфе, завязанном под подбородком, в огромных солнечных очках и с помадой цвета фуксии, она выглядела даже меньше, чем помнилось Джин. Или это ее голова казалась непропорционально большой, как будто под шарфом у нее имелась и шляпа? С такой головой на тощем тельце у Филлис был вид пришелицы с другой планеты; и вряд ли она стала больше, когда приблизилась. Но она отнюдь не выглядела так, словно провела в самолете два дня — или, точнее, на протяжении двух дней побывала в трех самолетах, первым из которых добралась до Лондона, где нашла тяжелый лайнер, направлявшийся на восток, а потом совершила непродолжительный перелет с Маврикия, Большого Острова, как называют его местные. Нет, взъерошенной выглядела как раз Джин с ее растрепанными ветром волосами и измятой одеждой, да еще и этой повязкой на глазу, елозившей под ее солнечными очками.
— Ну и
М-да, немного же потребовалось времени, подумала Джин, гадая,
— Проклятье, — сказала Филлис. — Это моя обувная сумка. Наверняка ее кто-нибудь украл.
Она прищурилась на облаченного в форму и вооруженного охранника, затем на босоногих ребятишек, слонявшихся у входа и разглядывавших вновь прибывших, прикидывая возможные чаевые.
— Не думаю, мама, чтобы кто-то действительно украл твою обувную сумку, — сказала Джин. Отношение к обуви, как всем известно, является своего рода лакмусовой бумажкой для проверки женской уравновешенности. Разве Филлис в прежние времена не обходилась аккуратным маленьким багажом, не выказывала всегдашнего презрения к чемоданам с колесиками и одежным сумкам, довольствуясь одной ручной кладью? Именно это запомнила Джин из материных наездов в Оксфорд, когда через исполосованное дождем окно кондитерской отеля «Рэндольф» наблюдала, как Филлис выходит из черного лондонского такси — этакая сложная фуга в коричневых тонах, слои которой были выделаны из хвостов и шерсти четырех, по крайней мере, горных обитателей — альпаки, гуанако, ламы-вигони, лисицы. Никаких обувных сумок в те дни не было. — Что случилось с твоим принципом сборов, мама: «Одежду вполовину сократи, а деньги удвой»?
— Так, а откуда ты знаешь, что я от него отказалась? — довольно игриво ответила Филлис. Джин, уже беспокоясь о том, что ехать домой придется в темноте, стала бросаться туда и сюда, ища, кому бы пожаловаться. Она не могла не задуматься, не прибыл ли вместе с ее матерью другой багаж, еще больший, — повышенная нервозность, паническая нерешительность, забывчивость, — и с тяжелым сердцем предчувствовала как скорые, так и более отдаленные испытания. Ничего, сказала она себе. Она чувствовала насущную необходимость хорошо управиться с этим визитом: ей было сорок пять, да ради Бога, почти сорок шесть, пусть даже почти половину этого времени, почти половину ее
В конце концов обувная сумка была найдена снаружи, на бетоне, куда была выгружена и забыта; Джин поставила ее на уже внушавшую опасения тележку, которую выкатила к парковке и одинокой машине.
— Стало быть, Марк ужасно много работает?
Вталкивая сумки на заднее сидение, Джин точно поняла, на что она намекала — какого черта он не приехал встретить меня в аэропорту? Она согласилась, что втискивание сумок в маленький багажник очень близко к тому роду задач, которые нравятся Марку, но сказать это вслух была не готова.
— Да, так оно и есть. У него большой заказ, связанный с кухонным оборудованием.
Филлис, давным-давно покинувшая свой родной Солт-Лейк-Сити, занималась организацией различных мероприятий при Нью-Йоркской публичной библиотеке, несла ответственность за официальные завтраки и благотворительно-расточительные обеды в Большом зале. Она выбрала себе не доклады или развлечения, но следила за поставщиками провизии, дополнительными вешалками для одежды, массивными букетами цветов. У Джин не было сил расспрашивать, что сейчас представляет собой ее работа, кроме того, она помнила, что подобные безопасные темы следует приберегать про запас. Филлис, казавшаяся на пассажирском сидении маленькой, как ребенок, морщилась, разглядывая себе в зеркальце пудреницы и нанося на губы новый слой своей тропической помады. Джин пыталась вспомнить, почему она, когда была маленькой, воспринимала публичное нанесение Филлис макияжа как нечто по меньшей мере неприличное. Подобным же образом она бывала шокирована всякий раз, когда видела плавающий в унитазе Филлис не смытый квадратик промокательной бумаги с призрачным, типа
—
По пути домой она дремала, а когда время от времени, дернувшись, просыпалась, то снова говорила Джин о том, как она устала, как отчаянно мечтает о ранних отходах ко сну и спокойных днях, о том, что с возрастом употребление алкоголя стало почти невозможным, что она совсем отказалась от своего вечернего мартини, что трезвость поистине является секретом человеческого счастья.
Шестью часами позже, сидя в лунном свете на террасе Хаббардов, Филлис набиралась сил. Она переключилась с шампанского на местную огненную воду — сумасшедшую лозу, как называл ее Марк, — разлитую в рюмки размером с наперсток, которые он вынес спустя некоторое время после полуночи.
— Она просидела бы и проговорила бы всю ночь напролет, если бы я ей позволила, — пожаловалась Джин в ванной на следующее утро, ощупывая пальцем мешки, набрякшие под глазами, — глаза у нее были красными, словно она всю ночь провела в океане, а язык — бледным, сухим и зазубренным по краям, как пляжи Сен-Жака. — Хотела бы я за ней
Джин не пожаловалась на насмешливое замечание Филлис и не собиралась ему о нем напоминать. В 12:40 ее мать сказала: «Я просто
Филлис обозначила их дом «восхитительным», чем Джин предпочла удовлетвориться. Она приняла две порции болеутоляющего — тысячу миллиграммов обычного противовоспалительного средства, давно заменившего аспирин, который она машинально принимала во время похмелий в колледже, и ей вроде бы и впрямь стало лучше: она нуждалась как раз в усушке своей способности к эмоциям, достигаемой любыми необходимыми средствами — лекарствами, кофеином, а решимостью, внушаемой этими ритуальными приготовлениями.
Прежде чем выйти к завтраку, она поискала на полках ванной путеводители и карты. Джин собиралась составить план передвижения до самого вечера. О ромовом музее, где могли предложить бесплатную дегустацию, придется забыть. В предстоящую неделю они посетят живописный порт и проект по возрождению пустельги, проведут день в SPA-отеле, заглянут на крытый рынок. Филлис, профессиональный организатор, соответственно откликнется на любое проявление предусмотрительности. Она будет по-настоящему впечатлена, если предложить ей и структуру, и выбор, экскурсию, устроенную на манер многополостного сладкого блюда, выставленного перед гостями, и никакое место не подходило для этой программы лучше, нежели ботанические сады у
Обширные сады, начинавшиеся возле деревни, где обитал всякий сброд, лучами расходились от клочка земли, на котором первый губернатор острова разбил свой огород. Но в путеводителе Джин утверждалось, что ботанический сад был мечтой бельгийца, двух французов, а затем и шотландца, каждый из которых привносил в это предприятие некое новое измерение. После этого, уже под руководством вновь созданного Департамента сельского хозяйства, ничего нового создано не было; или, как это понимала Джин, дух изобретательства стал таким же мутным и застойным, как заросшие лилиями пруды.
Она прервала чтение, чтобы оглянуться вокруг. Конечно, саду надлежит быть проектом единого ума или, по крайней мере, последовательности единых умов. В отличие от брака, подумала она, пусть даже брак часто уподобляют саду — частному округу. Этих бельгийца, французов и шотландца объединяло одно: они посмели возделывать на свой вкус рай на острове, который и так с легкостью побивал Эдем, когда его только нашли.
— Для этих людей, — рискнула сказать она вслух, прикидывая, как эта фраза будет звучать, если ее напечатать, — ничто из того, что они
— Что же они нашли, милая? — спросила Филлис, щурясь на вручную раскрашенную карту садов.
Джин лишь разогревалась и по-настоящему пока не хотела разъяснять свои свободные ассоциации, эти мысли, перебегающие от растений к личностям и другим сущностям. Просачивающиеся откуда-то идеи, оглашаемые вслух, — то был знакомый тонкий процесс, свидетельствующий о начале колонки, всего лишь фрагменте, не более, обычно сопровождаемом непропорционально большой волной эйфории: горячечным стремлением приносить пользу. С тех пор, как появилась Джиована, Джин одолевало желание делать добрые дела, как ее адвокат-отец, как, по сути, оба ее родителя, как будто только это могло все повернуть обратно.
Во всяком случае, с колонкой для следующей недели теперь все было решено. Забудьте о свойствах отдельных растений; копание в земле — вот что омолаживает (и это объясняет, почему так редко встречаются совсем юные садовники). Общее место? Или прополка сорняков была полезна только по контрасту с мешающими росту обману и грязи, случившимися в ее недавней жизни?
— Что ж, идеальное место для вечеринки, — сказала Филлис, оглядывая теплицу с папоротниками, орхидеями, бегониями и аронниками. Они шли среди можжевельника и индийскими орехами, мимо огромного баньяна, чьи обнаженные корни висели, словно волосы, к массивному красному дереву и к скамье, желанию поставить которую возле него никто не сумел воспротивиться. — Знаешь, чего бы я хотела? — сказала Филлис, роняя себя на скамью.
— Чего, мама?
Джин уселась с ней рядом.
— Чтобы мы, вместо того чтобы развеивать его прах, похоронили его под большим, красивым деревом. Тогда мы могли бы сидеть вместе с ним. Мне не по себе, как подумаю, что он вертится там в этом холодном океане…
Джин привыкла к тому, что мать затевает этот разговор с середины, да и сама эта мысль никогда особо не удалялась из их сознаний. Билли, ее старший — а теперь намного младший — брат, в пятнадцатилетнем возрасте был убит пьяным водителем зимой 1970 года. Они развеяли его прах в море, собственно говоря, в нью-йоркской гавани, под покрытой снегом статуей Свободы.
— Х-м-м, — сказала Джин. В каком-то смысле мать была права — он все еще оставался там. Материя всегда сохраняется. — Может, похороним под большим красивым деревом что-нибудь другое, что принадлежало Билли? Например, ту желтую лыжную шапочку. Что, кстати, с ней случилось?
Филлис рассмеялась.
— А, та! Она у меня.
На протяжении целого года, последнего своего года, Билли носил эту дурацкую лыжную шапку, днем, когда ему удавалось улизнуть вместе с ней, и каждую ночь, пытаясь с ее помощью приплюснуть свои дикие жесткие волосы.
— Ты когда-нибудь тревожишься из-за того, что забываешь его? — спросила Джин.
— Никогда. Я все время о нем думаю.
Вот еще одна из сторон, подумала Джин, что отличает ее горе от горя матери, которая с самого начала привыкла отслеживать постоянно меняющиеся черты своего ребенка. Может, для нее мертвенный облик Билли — это только «фаза»; его нынешнее пребывание мертвым и витающим в темных глубинах представляется ей лишь следующим шагом, но никоим образом не концом его истории.
Вот Джин,
Вот оно, осознала она. Вот чем объясняется ее страх перед приездом Филлис: возможность, теперь постоянно присутствующая, что ее мать принесет самую дурную весть. В точности как тем снежным субботним утром, когда после ночного бдения в больнице рядом с сыном, которому делали искусственную вентиляцию легких, ей пришлось сказать Джин, которая завтракала своими хлопьями — хлопьями «Жизнь», между прочим, — что его больше нет.
— Пойдем, мама, — сказала Джин, помогая той подняться со скамейки. — Нам еще много миль надо пройти.
Они повернули и в безмолвном согласии направились к знаменитым лилейным прудам. Но успели пройти совсем немного, когда Филлис снова остановилась, на сей раз перед высящимся деревом — индийской альбицией, крепкой и гладкой, со стволом, окрашенным в теплые серые тона веймаранера. Но внимание ее матери привлек не этот цвет. Высокое дерево на самом деле было двумя высокими деревьями. Спиральная лоза, энергичная лоза из Австралии, устремлялась вверх из самой сердцевины альбиции, расщепив ее ствол, чтобы в нем угнездиться, и сплетаясь с верхними ветвями.
— Симбиоз? Или паразитизм? — спросила Джин у матери, но Филлис была совершенно захвачена этим невозможно медленным танцем. Видение вечного объятия заставило Джин вспомнить «Арундельскую гробницу» Ларкина[26], стихотворение о благородной чете, высеченной в мраморе, о котором она писала на последнем курсе. Она прокрутила в уме его концовку — или, по крайней мере, то, что она могла припомнить, безмолвно коснулось ее слуха:
Именно слова «Верность камня им / Не мнилась гербом вековым» уязвляли сейчас Джин, заставляя ее против воли думать о Марке, сплетенном со своей собственной австралийской лианой; но матери она процитировала только знаменитую последнюю строку. И она рассказала Филлис, что мраморная чета держится за руки. Мать ответила тем, что стиснула ее запястье, словно бы не осмеливалась взять ее за руку. Спеша развеять торжественность момента, Джин рассказала кое о чем, что прочла в биографии Ларкина — как, например, он нацарапал на черновике того стихотворения:
— Ты с отцом связывалась?
Вот, начинается.
— Да. Говорила с ним, погоди-ка, примерно неделю назад. А что? Какие-то особые новости?
Странно было, что Филлис сказала «с отцом», а не просто «с папой». В голосе матери она расслышала тоскливую нотку — которой не было в разговоре о Билли: наоборот, беседы о нем были отказом всецело препоручить его смерти.
Не заболел ли папа? Но, чтобы сказать ей об этом, она позвонила бы, а не отправилась бы в полет, длящийся восемнадцать часов.
Со времени их развода прошло двадцать лет. Не мог ли в жизни ее матери появился кто-нибудь новый? Нет, она бы знала. А в жизни папы? Ребячество, конечно, но эта мысль наполнила ее отвращением. Нет, нет и нет. Ее родители пребудут в том же состоянии, что и прежде: просто разведенными. Снова у нее возникло неприятное чувство предвидения, на этот раз говорившего о том, что время и возраст могут отменить любое соглашение — если не ее собственный брак, тогда развод ее родителей.
Когда Филлис снова заговорила, то смотрела на дерево, а не на свою дочь.
— Почти тридцать лет я думала, что мы никогда не расстанемся. А потом, из-за того, что, возможно, было простым… грешком — Билл в те дни был необычайно красив, — в общем, мы все-таки расстались. Я была права. Но при этом я же была и неправа, не знаю, как тебе это объяснить. Знаешь, распутать все это не так уж и просто. Как бы ни права была ты со своей стороны.
Ладно, это не было извещением о смерти. Но вот словечко «грешок» — оно прозвучало едва ли не бойко, ей так и представился Великий Шалун на своей летающей трапеции. В чем состоит добродетельность снижения эмоций? За этим вопросом крылась ее нетерпимость к британскому воспитанию Марка, которое предписывает ни на что не жаловаться, — основной причине, как она чувствовала, того, что теперь он избегает откровенности. Ей хотелось, чтобы все перестали ее прикрывать, если это было именно тем, что, как им представлялось, они делали. Джин вспомнила, как ей пришлось настаивать, чтобы ей разрешили пойти в больницу и в последний раз увидеть Билли — попрощаться с ним, прежде чем отключат его дыхательную машину.
— Ты говорила, что порвала с папой, потому что у него был роман?
— Да. Одним словом. Так и говорю.
— Мама, мне тогда было двадцать шесть. Зачем было так долго ждать, чтобы сказать мне об этом только сейчас?
— Момент был неподходящий. И твой отец, он нездоров, Джин.
— Преэклампсией.
— Точно. Я просто не думала, что тебе нужна эта информация. Знаю же, как вы с отцом близки.
Последовала долгая пауза, во время которой Филлис рылась у себя в сумке в поисках глазных капель. Джин не нарушала тягостного молчания между ними, глядя, как мать поочередно раздвигает пальцами свои веки, роняя себе в глаза слезинки капель.
— Ты имеешь в виду, что чувствовала себя униженной, — сказала наконец Джин.
— Ну, на мешок смеха это совсем не походило, здесь ты не ошибаешься.
Снова наступило продолжительное молчание. Филлис вытирала глаза тыльной стороной ладони, покрытой пигментными пятнами. Грешок, микроинсульт, все совершенно безвредно и вряд ли приводит к микросмерти, думала Джин, — а потом вспомнила, что, по словам Марка, это французское обозначение оргазма:
— Наверное, мне надо тебя поблагодарить. Я понимаю: ты пыталась меня защитить.
— Ну да. Но, сказать по правде, мы тогда все это только-только преодолевали. И, честно говоря, это случилось до того возраста — я имею в виду
Джин подумала, не является ли это приглашением поговорить о ее собственном браке, хотя она тоже не была к этому готова.
— Я вовсе не жалуюсь, мама, но, знаешь, для Мэрианн и для меня, наверное, и вправду было бы лучше знать, что была какая-то
— Причина всегда есть, Джинни.
Пройдя по деревянным мосткам и мощеным булыжником дорожкам, они вскоре наткнулись на большую черепаху, не огороженную и не на привязи; об ее огромном возрасте свидетельствовала только ее морщинистая шея. Округлый панцирь походил на игрушечный автомобиль, скорее припаркованный, чем остановившийся, и был достаточно велик, чтобы на него можно было усесться.
— Они живут где-то около ста двадцати лет, — сказала Джин, бессознательно кладя руку на свое собственное горло, касаясь той складки в ослабевшей коже, докуда, как она часто думала, стоя перед зеркалом, добралась теперь морщина меж бровей, — постепенно распространяющееся лицевое раздвоение, словно какой-то новый отрезок шасси. Когда она впервые обнаружила эту канавку, ей представилось, как в дальнейшем она достигнет ее первой явно выраженной расщелины и как в конце концов вся она окажется размеченной сверху донизу посередине и ее легко будет сломать пополам, словно высушенную вилочку цыпленка.
— Весь фокус в том, чтобы совсем не двигаться, верно? — сказала Филлис. — Может, тебе следует порекомендовать это в одной из твоих колонок, Джинни: не двигайтесь и живите вечно.
У Филлис неожиданно улучшилось настроение, возможно, она испытывала облегчение из-за того, что избавилась наконец от бремени своей тайны. На ней был пасхально-яркий набор из пуловера и кардигана, очевидно, купленный для этой поездки. Даже кожа ее выглядела иначе — какое-то новое средство для самозагара? Конечно, и о лицевой подтяжке ей известно, подумала Джин, поглаживая свою старую коричневую юбку, ту, что особенно не нравилась Марку, из валяной материи, похожей на гранолу[29], — вот и еще одно доказательство того, что одежда ничего не значит.
Новая одежда, специальные кремы, возможная подтяжка лица: Джин спрашивала себя, не с интрижки ли Билла началось все это тревожное напряжение. Вот что это делает с людьми, заставляя их год за годом распарывать себя и распутывать, пока они не вернутся к самому истоку своего брака, чтобы потом начать все снова, такими, какими себя обнаружат, — скорченными, нестройно звучащими, неуверенными. После развода Филлис впервые в жизни устроилась на работу — стала экскурсоводом в Американском музее народного искусства, где напоминала одну из отважных дам на каком-нибудь простодушном флюгере — протертая рука, указывающая на горизонт, жестяная юбка, постоянно дребезжащая на ветру. Теперь Джин понимала, что от нее ожидается: она должна не только выдержать измену Марка, но и
По крайней мере, веселое настроение Филлис придало их молчанию дружелюбный характер, но Джин чувствовала, что мать уже устает, и подвела ее к паре пустых скамеек в тени.
Филлис полностью распростерлась на одной из них, приспособив свою сумку в качестве подушки и прикрыв рукой глаза.
— Чуть-чуть вздремнуть… Ты же не улизнешь, не оставишь меня, если я немного посплю, правда?
Мать отключилась еще до того, как Джин успела придумать ответ. Она заняла противоположную скамейку, разложив по всей ее длине свои вещи, чтобы на нее не мог усесться кто-нибудь еще. А потом, словно празднуя завершение полного облета сада, над ними развернулось бриллиантовое облако бабочек, белых, словно бурун, остающийся за быстроходным катером. Это дух захватывающее зрелище напомнило Джин о другом однодневном путешествии, совершенным более двадцати лет назад, в Бейонн, Нью-Джерси, вместе с Ларри Мондом: там их тоже удивило огромное пенистое облако бабочек, клубившееся над полем желтых цветов.
Когда Филлис накануне вечером рассказывала ей новости о Ларри, Джин не упомянула о том, что столкнулась с ним не так давно — примерно за две недели до того, как они перенесли свой лагерь на Сен-Жак. Последний отрезок лондонского времени был наполнен беспрестанными заботами, совместными поденными трудами самого отвратного рода, работами, которые предпринимала Вик, но также и Джин, смиряясь со справедливой стоимостью своего великого побега. В один из таких дней, ознаменованный декабрьским дождем, она, нагруженная еще одной партией экзотических костюмов Марка, была поражена, повстречав Ларри в химчистке «Рай», что на Парквее.
Две одинаковых синих куртки, перекинутые через его руку, вот что она заметила прежде всего — потому что они были гораздо более строгими, нежели одеяния Марка, — а на другой руке у него висела коричневая полушинель, вялая и тяжелая, как труп жертвы ДТП. Растерявшись и даже обдумывая возможность поспешного бегства, она глянула через окно фасада на оживленную улицу, на толкающихся и спешащих людей, прикрывавшихся газетами и пластиковыми пакетами, спасаясь от внезапно хлынувшего дождя. Черт, зонта нет. Ларри смотрел не на то, что у нее в руках, но неотрывно пялился прямо на нее, ожидая, когда она обратит на него внимание.
—
— Ларри!
— Не могу поверить, что вижу тебя здесь — сегодня. Это совершенно невероятно.
— Правда? Хотелось бы, чтобы так оно и было. Я, кажется, провожу здесь все свое время. Туда и сюда, вверх и вниз по Парквею, то в «Рай», то из него, каждый день.
Джин, как это бывало с ней каждый раз, когда она его видела, гадала, какого цвета у него глаза. Голубые, как сапфир? Синие, как озеро Мэн? Нет, этот цвет больше нигде в природе не воспроизводился.
— Правда. Понимаешь, как раз сегодня утром… ну, в общем, я думал о тебе, когда проснулся.
— Обо мне?
— Да… А потом, когда вышел за газетами, вспомнил, что прошлой ночью видел тебя во сне.
— Видел во сне?
— Угу. На тебе было что-то вроде ночной рубашки, а в руках ты держала смешной букетик полевых цветов, а еще на голове у тебя была то ли гирлянда из маргариток, то ли венок из лютиков, и — прости, ты, наверное, думаешь, что я окончательно спятил — ты шла ко мне, как Персефона[30], вернувшаяся из глубин ада, с этим твоим милым близоруким взглядом, привыкающим к яркому свету. Ты шла через луг, а вокруг тебя танцевали сонмы бабочек,
— Помню — что? На самом же деле меня там не было. Не думаю. Такое я бы запомнила. Определенно. Но бабочек я, да, помню… Ладно, сам-то ты как? Что ты здесь делаешь? Почему не в Принстоне?
— Не могу поверить, что вижу тебя воочию.
— Ну… вот она я. Почти такая же — во всяком случае, внутри. Только вижу еще хуже. Намного хуже. Ты преподаешь?
— Да, вот она ты… А я, да, преподаю — или читаю кое-какие лекции. В Университетском колледже Лондона — лекции Бентама. Они выделили мне берложку неподалеку отсюда… Я и забыл, что это твой район.
После последнего курса в колледже Св. Хильды Джин работала помощницей адвоката в Нью-Йорке, пообещав матери провести лето дома: период для остывания, как понимала это Джин, предписанный для излечения от ее растущей привязанности к Марку. «Кто его знает», — вот все, что сказала Филлис, пусть даже Джин и думала, что уж она-то знает точно. В первую очередь из любви к отцу — чьи инициалы, WWW, задолго до того как они стали синонимом легкого доступа ко всему знаемому, незнаемому и непознаваемому миру, представлялись ей тайными воздушными волнами, их соединяющими, — она пошла работать в его адвокатскую контору. Там ее назначили к Ларри Монду, который в свои тридцать уже стал полноправным партнером. Но она видела его и раньше. Ее первый семестр в Оксфорде совпал с его последним, и он в качестве приходящего преподавателя прочел им такую захватывающую серию лекций («Эрозия гражданских свобод»), что она написала свою курсовую по его специальности, этике.
Так что летом 1980 года ей было чему удивиться, обнаружив, что он напрягается изо всех сил, в качестве третьей стороны участвуя в некоем судебном разбирательстве. Группа рабочих судостроительного завода подала иск против сигаретной фабрики по поводу необычайно усиливающегося воздействия на организм асбеста, неизбежного на рабочих местах, в сочетании с вдыханием дыма — смертельной смеси, не только известной дирекции сигаретной фабрики и табачной компании, которой она принадлежала, но и утаиваемой ими (как утверждали адвокаты истцов). Фирма Билла Уорнера в лице Ларри представляла интересы табачной компании. На тридцать третьем этаже Рокфеллеровского центра, в обитых деревянными панелями и снабженных кондиционерами кабинетах Декстера, Уорнера и Уиппла, податели иска были известны как Козлища — самоличная шутка Ларри насчет того, что ему приходилось исполнять роль решительного врага рабочих.
Каждую неделю он обедал с командой из табачной компании — с южанами, приехавшими в большой город, чтобы посмотреть за продвижением дела и проследить за молодым адвокатом. Это были добродушные стариканы с медвежьими объятьями и пивными животами, менеджеры среднего звена с несметными командировочными; они обожали пить «Джек Дэниелз» и не заботились о том, кому это известно. Каждую пятницу они возили Ларри в «Автопаб», ресторан на углу Пятой авеню и Пятьдесят восьмой улицы, кабинки в котором были оформлены под классические автомобили.
Возвращаясь в контору, Ларри усаживался на край стола Джин и рассказывал ей, в какой машине они сидели в этот раз. Он бывал слегка пьян — в конце концов, пятница, а дело, которым он занимался, определенно являлось
И Джин, хоть и смеялась, когда это говорила, однажды под вечер заявила, что ему не может доставаться все веселье на свете, а на следующей неделе поехала туда вместе с ним. Вскоре они оба с нетерпением дожидались пятниц, когда в конце обеда какой-нибудь из менеджеров распахивал перед ней автомобильную дверцу и, глядя, как она выскальзывает из-за стола наружу, спрашивал: «Зачем такой миленькой юной леди, как вы, заниматься таким отвратным бизнесом, как юр’спрудеция?» Втайне от остальных она сама задавала себе этот вопрос, но вслух всегда говорила, что им следует дать ей знать, если в табачном деле откроются какие-нибудь вакансии.
При этаком романтичном и освященном родительским благословением раскладе Джинни Уорнер и Ларри в один прекрасный день, вооружившись объективом длиною в фут и не поставив в известность ее отца, тайно отправились задокументировать асбестовую ситуацию на давно закрытой верфи в Нью-Джерси. Через дыры в потолке они увидели твердую асбестовую изоляцию толщиной в матрас: достаточно токсичную, как будет утверждать Ларри в суде, чтобы сделать привычку к никотину вообще не имеющей отношения к делу. Для проведения разведки на старой верфи у Джин имелось фальшивое имя. Хотя она его до сих пор помнила (Дебби Экерман), воспользоваться им ей так ни разу и не пришлось. Это он предложил ей его для защиты, на тот случай, если бы их задержали за нарушение прав владения.
Ему было не по себе из-за проникновения на верфь, а еще больше — из-за того, что он представлял интересы табачной компании, однако как адвокат он изо всех сил старался победить. Джин думала, что ее отец, возможно, проверяет силу его ума, словно какой-нибудь сказочный король, чинящий препятствия соискателю руки его дочери. Отец не мог
После того как улики были надлежащим образом сфотографированы, Ларри, перелезая через сетчатую изгородь, порвал на себе рубашку. Он стянул ее через голову, чтобы осмотреть повреждение и, как заподозрила Джин, продемонстрировать ей свою грудную клетку. Он считает себя некрасивым и поэтому работает над своим телом, вот что она подумала, увидев ее, тронутая его неуверенностью, которой никак не ожидала, и глубоко впечатленная. Когда он снова надел рубашку, они молча направились к машине, и фалды, образованные разрывом, вздымались позади него, как обтрепанные крылья, пылая в закатном солнце. Именно тогда и появились бабочки: белая пена над полем цветущей ржи, чуть дальше того места, где они припарковались. Жизнь спустя Джин стояла перед ним, обремененная костюмами мужа, и вспоминала о волнении, испытанном в тот летний вечер в Нью-Джерси, в день, когда ей, помимо всего прочего, каким-то образом явилось неопровержимое знание того, что она никогда не сможет быть адвокатом.
— А как там эти Козлища? — выпалила она, забыв спросить о его жене.
Хотя она не могла бы утверждать это наверняка, ей показалось, что перед ответом он слегка вскрикнул.
— Ой, они такие славные. Они великолепны!
Продолжая маневрировать своими костюмами, Ларри скрестил руки и расширил стойку, покачиваясь на внешних сторонах ступней.
Козлища славные? Они
Джин старалась слушать, глядя, как шевелятся губы Ларри, и боясь, что не поймет того, он говорит; но ей очень нравилась эта американская манера приспосабливаться к собеседнику, которую Марку считал возможным высмеивать; она, по сути, преисполнялась высокой любви, как будто вдыхала ее вместе с запахами чистящих химикатов, пусть даже и понимала, что это могло быть лишь чем-то
— Джо в Уэслейне; Ребекка, вторая двойняшка, уезжает на целый год, поступила добровольцем во «Врачи Без Границ». Похоже, ее могут отправить в Монровию — это беспокоит. А вот Дженни, представляешь, Джен весной окончит академию Конкорд…
По-видимому — нет, вне всякого сомнения, — он решил, что она спрашивает его о детях. Джин поняла, что он рассказывал своей жене о Козлищах, после чего, в качестве любовного ругательства, это слово стало семейным кодом, обозначающим их детей. В конце концов, разве они с Марком не называли Вик Крыской, Личинкой, Блошкой и (когда стало ясно, что она вымахает чуть ли не с отца) Гномиком, а не просто Лепестком, Цветиком или Лапочкой? А интересно (думала она), вот когда Ларри рассказывал миссис Ларри — Джин не могла припомнить, как зовут ту девушку, что заменила ее в фирме, — о первоначальных Козлищах и своей героической роли в обнаружении, прямо над тем местом, где эти Козлища вкалывали, более чем достаточного количества асбеста, чтобы оправдать табачные компании, — рассказал ли он ей тогда заодно и о Джин? Рассказал ли ей Ларри о том, как в конференц-зале он учил Джин танцевать
В последний раз она видела Ларри десять лет назад, в Нью-Йорке, на обеде в честь ухода в отставку ее отца. И точно так же, как тогда, сидя рядом с ним на том обеде, Джин поймала себя на мысли о том, что могло бы произойти, проживи она все эти годы там, где жил Ларри, а не там, где жил Марк. С усилиями, которые ей самой показались Геркулесовыми, они, укрываясь за запотевшей витриной химчистки, ухитрились обменяться кое-какими новостями. До лекций Бентама Ларри вел семинар в Оксфорде, хотя теоретически все еще был связан с фирмой и время от времени наведывался в Нью-Йорк.
— Я думала, что ты в Принстоне, — снова рискнула заметить Джин.
— Я несколько лет назад переехал оттуда в Колумбию, хотя дом, конечно, там, и Мелани…
Теперь Джин вспомнила: его жена работала в университетской прессе. Когда речь зашла о его новой книге, он стал намного разговорчивее. Он хотел выслать ей ее, но не знал, на какой адрес. Называется «Теория равенства», ей следовало бы купить экземпляр. Нет, он таки сам пришлет ей экземпляр, какой у нее адрес? Он оказался первым ее знакомым, слышавшим о Сен-Жаке. Собственно, он был осведомлен о нем намного лучше, чем она.
Ларри знал, что она замужем за Марком Хаббардом, и произносил это имя так, словно оно было названием получившего широкое признание бренда, что не вполне соответствовало действительности. Из чего она заключила, что он, не имея ничего другого, на чем можно было бы строить отношения, одобряет ее выбор, и это ее смутило. Ларри спрашивал, она отвечала, Ларри говорил, она слушала. Ей хотелось расспросить его о множестве других вещей, но также, и очень остро, она ощущала потребность уйти. Он не пытался остановить ее, когда она попятилась из «Рая» под дождь, едва не споткнувшись на мостовой, пытаясь удержать костюмы Марка, соскальзывавшие с руки.
В конце квартала она заглянула в другую химчистку, Пэчкера и Торрейна — которую Марк называл «Пачкали и Теряли», — и там в ней проснулась ненависть к самой себе. Почему ей понадобилось вот так удирать? Почему она не могла вернуться и сказать, что не отказалась бы от чашечки кофе? Джин не заметила, как вошла эта молодая женщина, — та не сводила с нее глаз. Распушая свои приплюснутые дождем волосы, Джин догадывалась, что она, должно быть, выглядит необычайно, даже пугающе забрызганной.
Женщина, у которой были длинные волокнистые волосы, похожие на волосы Виктории, и самая медленная частота мигания глаз, какую когда-либо осознанно отмечала Джин, выглядела так, словно готова заговорить, или чихнуть, или разразиться слезами.
— Вы меня не узнаете, — сказала она Джин, которая незамедлительно ответила единственным возможным образом.
—
Зрачки у нее были расширенными и стеклянистыми, словно она медитировала.
— Я Софи, — сказала она.
— Ну конечно же, — ответила Джин, совершенно не узнавшая, несмотря на явно выраженный французский акцент, Софи де Вильморен, дочь известной первой любви Марка.
— Как
Пока они разговаривали, снаружи темнело, суля еще более сильный дождь, а некто по ту сторону прилавка все искал рубашку Софи, словно собиратель плодов, вслепую тыча своим раздвоенным шестом в высоко раскинувшиеся ветви с висящей на них одеждой. Или, скорее, говорила Джин, а Софи слушала, время от времени протирая глаза. Она рассказала изголодавшейся по железу Софи об их неминуемом отъезде на Сен-Жак, показывая ей на карте его местоположение и в то же время вбирая в себя ее костлявое телосложение, покрасневший нос и скрюченные пальцы, приходя к уверенности, что у той не было месячных уже целые годы, и вразброс излагая ей сведения об экономике острова, которые сама только что узнала от Ларри.
Дождь не выказывал ни малейшего намерения прекратиться, когда дрожащая Софи с пустыми руками (ее рубашка так и не нашлась) направилась к выходу. Джин снова коснулась ее плеча и заставила Софи пообещать, не указывая точной даты, «непременно и обязательно» прийти к ним, чтобы выпить перед их отъездом.
— Вы так добры… — По ее болезненному личику пронеслось выражение тревоги. — А вы уверены, что Марк не будет против?
— Против! Я уверена, что он будет счастлив снова тебя увидеть — так же, как и я.
Бедная Софи, думала она, такая же неловкая и хрупкая, как выпавший из гнезда птенец. Испытывая облегчение благодаря тому, что осталась одна, она наконец пихнула свой влажный груз на ту сторону прилавка, понимая, что с тем же успехом могла бы бросить его прямо в мусоросжигатель. Софи де Вильморен ее расстроила. Если с ней что-то серьезное, то разумно ли было приглашать ее к себе? Вдруг она сошла с ума? Без пальто, да и рубашки у нее никакой не было, как настаивал служащий химчистки. Может, она прошла внутрь вслед за Джин просто для того, чтобы с нею поговорить, а потерянная квитанция — ее выдумка? Джин и дело совершала ошибки одного и того же рода, вступая в личную переписку с каким-нибудь обеспокоенным читателем… Ей хотелось отмотать время назад и найти убежище в куда более приятном сюрпризе, преподнесенным этим днем ранее, — в образе Ларри, с его любезными телодвижениями и пристальными голубыми глазами, излучающими весь его сфокусированный интеллект прямо на собеседника. Ее можно было бы убедить, что он ей только приснился — как, бишь, там? В ночной рубашке и с венцом из сорняков.
— Как вы могли оставить ее одну в Лондоне в таком опасном возрасте? — спросила Филлис. Явно восстановив силы, она стояла, полностью выпрямившись и уперев кулачки в бока. Ее вопрос, возможно, вызванный видом парочки, целующейся на той же скамейке, где сидела ее дремлющая дочь, вырвал Джин из задумчивости, и мгновение ей казалось, что мать спрашивает у нее о Софи де Вильморен. Но на самом деле Филлис «тревожилась» (в обвинительном ключе) о Виктории. — Кто за ней присматривает? — Джин знала: бесполезно говорить, что Виктория в присмотре не нуждается, что Виктория сама всегда присматривала за
— Не коммунизмом, а марксизмом, — сказала Джин, игнорируя выпад против Марка и не давая себе труда спросить, как долго сможет Филлис обходиться без своего холодильника. Сегодня утром она допустила ошибку, упомянув о семинаре по марксизму, который особенно возбуждал Вик, из-за чего Филлис с запозданием и взорвалась. Это было нечто новое — то, как она в любое время могла
— Виктория превосходно отзывается на любой вид социальной несправедливости, в точности так, как и должно быть, когда тебе девятнадцать, — сказала Джин. — Она переключилась на антропологию и социологию — и действительно нашла свой предмет. Или предметы. Я этим как нельзя более довольна. И чем, позволь спросить, так уж плох марксизм?
Она сама не верила, что пустилась по этой дороге. С таким же успехом она могла бы толкнуть мать в пруд с лилиями, если бы они его уже нашли. Но остановиться теперь было невозможно.
— Марксисты — великие теоретики. Анализ их верен. Просто решения, предлагаемые ими, всегда ошибочны… — Она подумала о своих долгих разговорах на эту же тему и с Викторией, у которой, как выяснилось, были трудности с теми же разграничениями. — Ладно, замяли, — раздраженно сказала Джин.
Она сразу же пожалела, что утратила невозмутимость, хотя опущенные глаза и поджатые губы матери давали понять, что, по ее мнению, Джин утратила ее довольно давно. Возможно, когда отказалась от карьеры адвоката. Все это образование, а потом —
Огромные круглые листья с приподнятыми краями, словно подносы, усеивали зеленую поверхность. Мать и дочь смотрели на появлявшиеся там и сям пузырьки, производимые то ли лягушками, то ли рыбами, то ли, Джин нравилось так думать, подводными официантами, — а на каждом из их подносов, с гордостью доставленных наверх, возлежала прославленная краса тропиков, великая водяная лилия Амазонии. Наклонившись и прищурившись, Джин прочла: victoria amazonica.
— Ну и ну! — в один голос сказали они и, обменявшись взглядами соучастниц, что случалось у них нечасто, направились к выходу.
В тот вечер Марк повез Филлис и Джин на обед в «Королевскую пальму», лучший отель на всем острове, но, по этой самой причине, не свободный от стил-бэнда. Их столик был рядом с залитым лунным светом танцполом, так что все трое сидели и смотрели, причем Филлис покачивала в воздухе крохотной ножкой, — а о том, чтобы Марк пригласил кого-либо из них на танец, не могло быть и речи. Но он, Джин это знала, танцевал с Джиованой (беспечно и весело), отсюда и «Джинджер». Множество ночей на Сен-Жаке были горше всего прочего отравлены именно этим
Джин вскочила из-за стола — в дамскую комнату, объяснила она. В темном саду отеля она миновала целующуюся пару, которую перед тем видела на танцполу, — красивую молодую женщину в асимметричном голубом платье и гораздо более старшего мужчину. Конечно, «Королевская пальма» была очень дорогим заведением, обслуживающим пожилые французские пары, которым требовалось как-то потратить свои деньги, и пары, подобные этой, прижавшейся к пальмовому стволу, являя собой зрелище, которое вряд ли могло утешить Джин. Она повернулась обратно к террасе, где сидели посетители. Водил ли Марк Джиовану в изысканные отели? Притворялся ли он тогда в лифте, что незнаком с нею? Покупал ли он ей в вестибюле подарки по завышенным ценам, говоря продавщицам, что это предназначено для его жены? Или теперь никто больше себя подобным не утруждает? Сегодня, пожалуй, более вероятно, что за один только перерыв на ленч в президентском люксе продавщицы сами могут принимать эти сверкающие побрякушки. Все это могут, все, кроме жены.
Ради выживания Джин стала начинать каждый день пребывания у них Филлис с пробежки по дороге. Спортзала в Туссене она избегала: слишком близко к Интернет-кафе. Но спустя неделю такой рутины Джин пришлось повести машину в город. Не веря, что у дочери найдется самое элементарное, Филлис упаковала крупногабаритный фен вместе с трансформатором весом в пять фунтов и, ввиду невозможности взять с собой, отправила его почтой, но до сих пор так и не получила. Она целыми днями изводилась под курчавым ореолом, порожденным влажностью, пока Джин не преисполнилась к ней жалости и не повезла ее к Аминате. Позже Марк заедет за Филлис и возьмет ее на прогулку на лодке того американца, которому принадлежит «Бамбуковый бар». Джин, отчаянно нуждавшаяся в денечке передышки, не хотела указывать на то, что в результате такой прогулки ее волосы снова, конечно, придут в беспорядок.
Она направилась прямо в Интернет-кафе, чтобы взглянуть на письма своих читателей и проверить общую почту. Там было адресованное Марку деловое письмо из Франции
А потом, решительно настроенная не открывать naughtyboy1, Джин обратилась к почти не уступающей по своим свойствам вещи: к настоящей порнографии — миру, простирающемуся позади Существа 2.
Устраиваясь поудобнее для лучшего обозрения, Джин более всего была впечатлена тем усердием, что прилагалось для того, чтобы быть желанной. Это напоминало ей шестиклассниц, которые прихорашиваются, рисуются и выставляют себя на показ в кафетерии, зачастую девочек миловидных и уже обращающих на себя внимание, но по-прежнему обуреваемых этой безотчетной
Ее притягивали любительские сайты, куда, полагала она, ей следовало бы поместить и Джиовану, среди прочих будто бы актрис и моделей — наряду с домохозяйками, студентками, служащими туристических агентств и фирм, поставляющих продовольствие, инструкторами по плаванию, бухгалтерами, инспекторами качества продукции, а также, у нее не было сомнений на этот счет, адвокатами, позирующими в плохом освещении на полуразобранных постелях, стискивающими груди, как им было указано, смотрящими вверх исподлобья или вниз из-под припущенных век и выглядящими в основном развратными или безразличными. Время от времени на краю фотографии можно было увидеть волосатую руку, предположительно мужа или бой-френда, выставляющего данную женщину, свою призовую свинью на ярмарке графства, чья плоть, словно плавленый сыр, переливалась через края слишком тугого корсета, заказанного по почте. Сырные поросята. Эти изображения, по сути, заставляли ее испытывать то же чувство неловкости, которое возникало у нее всякий раз, когда она видела фотографии одетых или выступающих в цирке животных.
Никто из нас не имеет ни малейшего представления о том, как выглядит, думала она, в особенности, по вполне понятным причинам, сзади. Единственное, что можно с уверенностью сказать об этих любительницах, так это то, что все они оптимистки. Фотографии Джиованы выглядели профессиональнее, чем эти, отметила Джин, утверждаясь в своей догадке о том, что ее корреспондентка была работающей моделью, вероятно, делавшей каталоги для «полноразмерных» дам — лелея отдаленную мечту о Третьей Странице. Марк постоянно встречался с такими девицами во время проб для новых кампаний. Она не заняла даже второго места, но он все равно взял ее номер, «на всякий случай». Он часто сам вплотную работал над той или иной рекламой, спокойно совещаясь с группой стилистов и каким-нибудь типом с завязанными лошадиным хвостом волосами, используемым ими в качестве фотографа. Сидя здесь и изучая изображения, которые народ выкладывал в Интернет совершенно самостоятельно, она впервые оценила работу тех самых стилистов.
Прежде чем вышел хозяин — он же кассир, повар и уборщик, — Джин заказала у него сандвич с ветчиной, чтобы тот оставил ее в покое в ее углу. И стала смотреть дальше, то ли ради разнообразия, которого сама теперь жаждала, то ли потому, что все еще не могла понять, почему кому-либо — скажем, Марку — на самом деле требуется постоянный приток свежего материала. Разве нельзя было вполне обойтись одним потрепанным журналом, передаваемым, как городская шлюха, из рук в руки? Но теперь им приходится бороться за галерею новых девушек, за реестр, гарем, ежегодник новых лиц —
Может быть, порнография подобна бою быков. Первая стадия может быть завораживающей, выводящей из равновесия, с вкрапленными моментами удивительной грации, и все это либо чередуется, либо дается разом. Однако к третьей стадии начинаешь поглядывать на часы и думать, стоит ли оставаться здесь только потому, что место уж больно хорошее. Джин знала, что ей нет особого смысла продолжать, но думала, что, каким бы предсказуемым или разочаровывающим ни мог оказаться этот опыт, в реальной жизни никто не зевает, как гиппопотам, на полпути. Почему же это так скучно — и каким таким образом это ухитряется быть и скучным, и возбуждающим в одно и то же время? Может быть, потому, что порно не бывает нежным? А может, думала она, все остальные, подобно ей, просто постоянно недоумевают, как эти девушки дошли до такой жизни, — испытывая половую солидарность, которую она редко распространяла на Джиовану.
Все-таки, и нынешний просмотр это подтверждал, Джиована оставалась для нее порнозвездой, стоящей особняком. Джин походила на родительницу на школьном спектакле, которая питает исключительный интерес к одной-единственной исполнительнице. И не потому, что та может предложить нечто большее, чем множество других эксгибиционисток. Нет, думала она, но шокировать способна только Джиована, потому что она не просто актриса. Ее актерство адресуется к реальности — и конкретно к Марку: факт, который не только продолжал причинять Джин боль, но теперь еще и смущал ее, поскольку она обнаружила, безошибочно и с горечью от пренебрежения, что испытывает
Скоро она выйдет отсюда, но сначала — последний маленький тур, проскакивая через ужасающую дрянь S-and-M, которая — а это уже что-то — ничего не могла рассказать ей о Марке, уж в этом-то она не сомневалась. Итак:
Джин как раз думала, чем же объяснить холодность порнографии, когда, восхищенная собственной прозорливостью, набрела на продукт из Норвегии, обстановкой которого была зимняя страна чудес, многозначительно увешанная молочно-белыми сосульками. Огромного роста блондинка, облаченная только в меховые сапожки, перегибаясь через перила балкона покрытого снегом шале, зависала в воздухе, чтобы лизнуть сосульку, влекомая к ней не переохлаждением, но экстазом, явно не заботясь о том, что ее язык может к ней приклеиться. Джин прикинула, как можно было бы изобразить ее саму. Работающей за письменным столом в чем мать родила? Или чистящей латук у кухонной раковины в одних только плетеных шлепанцах? Но она понимала, что выглядела бы лишь как стоп-кадр из какого-нибудь документального фильма о немецкой нудистской колонии, предлагающей излечение от одержимости сексом.
Она не нашла ничего, что могло бы помочь ей с Марком; никаких соответствий. Как такое могло быть, если Джиована несомненно произрастала изо всего этого? Что такое делала Джиована, что не было бы исполнено лучше на superboobs.com, asstastic.com, farmgirls.com, golden shower.com или связанными договором юницами на www.lilteens.com? [33]Ответ, поняла Джин, состоял вот в чем: Марковы изображения Джиованы были, как и все его работы, забавными — ребяческими, проказливыми, но в чем-то остроумными и
Джин завершила сеанс. Она не верила, что, отвернувшись от всего этого, сможет восстановить невинное состояние души или, коли на то пошло, избавиться от Джиованы, с которой она так несообразно и восторженно сцепилась. Но она, по крайней мере, кое-что поняла — что с нее хватит.
Ища ключи от машины, она окликнула Филлис, проверяя, насколько та готова. Совершенно готова; это ведь Джин теперь ищет темные очки, и куда подевалась хорошая карта? Последние две недели ощущаются целым месяцем. Пора в аэропорт.
К ее изумлению, мать вроде бы считала свой визит совершенно удавшимся и в машине не скупилась на похвалы Джин за все — за ее дом, за ее остров, даже за ее
Она протягивала мертвую белую мышь на раскрытой ладони, как яблоко, предлагаемое лошади. И, как это было с первым пони, возвышавшимся с нею рядом, когда ей было шесть лет, ей хотелось кинуть угощение или хотя бы раскачивать им. Хвостик, черенок — кто возьмется утверждать, что они предназначены не для этого? Лошадь с зубами курильщика вознаградила ее неподвижность липким щекочущим прикосновением, давшим ей первое представление о том, на что может быть похож поцелуй мальчика. Вот и здесь, сорок лет спустя, так же вытянув ладонь, как будто для гадания, она опять стояла неподвижно. Птица устремлялась вниз: коричневые крылья, крапчатое белое туловище, яркие черные глаза и не большее сотрясение воздуха, чем от зевоты младенца, — затем последовала почти неощутимая ласка когтей, касающихся ее ладони, пока пустельга брала мышь, прежде чем подняться и скрыться из виду.
Филлис обозревала из окна машины остров, запечатлевая его в памяти, а Джин тем временем воображала, как вскоре обнимает ее и помашет ей в иллюминатор маленького самолета, как будет стоять на взлетно-посадочной полосе, по-прежнему маша рукой, меж тем как ветер от пропеллера придавит, затем поднимет, а затем снова придавит ее волосы, комичным образом опровергая ложную похвалу Филлис. Когда маленький самолет окончательно скроется из виду, Джин пойдет, нет, зашагает к взятой напрокат машине, чувствуя у себя на плечах тепло заходящего солнца, и побалует себя мыслью о том, что не вернет машину сегодня или даже завтра. По дороге домой ее настроение, вместо того чтобы упасть, будет продолжать подниматься.
На самом деле все оказалось не совсем там. Ведя машину обратно, она увидела перед собой женскую клинику и вспомнила, что так и не забрала результатов своей маммографии. Конечно, они сообщили бы ей, если бы что-то было не в порядке, но не пойти туда и не забрать результатов было чересчур инфантильно. Когда она, бренча своими ключами, чтобы разогнать тишину, пересекала приемную, медсестра, в прошлый раз невозмутимая, встала и обошла свой стол, чтобы ее приветствовать. Они вроде бы пытались с нею связаться — она не получила письма? Джин отметила краткий прилив тошноты.
Вручая ей покачивающийся конверт из оберточной бумаги с ее рентгеновским снимком внутри, сестра объяснила, что маммография оказалась неудовлетворительной — или неокончательной, имела она в виду? Они рекомендуют
Джин не была совсем уж удивлена — а почему еще она так долго не заезжала за результатами? И теперь она могла признаться себе в убежденности, которую до этого подавляла, — что-то такое там у нее
Джин так впивалась в руль, что у нее заболели руки. Ужас водворился у нее в желудке, словно кирпич, который не могла раздробить никакая армия ферментов, атакуя его самыми суровыми своими кислотами, всеми пищеварительными киркомотыгами и буравами. И он сообщил ей, что она, по всей видимости, выселялась. Не из дома и даже не из своего брака, но с острова. От резкого света болели глаза, а темные очки, казалось, лишь усиливали обжигающий контраст по краям. Каждое цветущее растение выглядело слишком ярким: оранжевые делониксы, багровые джакаранды, фуксиновые бугенвиллеи, гибискусы с отверстыми красными ранами, пахучие бомбы гардений, непристойные аронники. Даже ее любимые бледно-голубые плюмбаго, казалось, вышли из рамок, вползая во все места, где их никто не ждал. Она тосковала по простому горшку с морозостойкой геранью или пригородной голубой гортензией, по аккуратной вазе с лишенными запаха тюльпанами. Вместо этого повсюду вокруг нее вели наступление безразличные джунгли в полном расцвете. У всего был либо гнилостный, либо чересчур сладкий запах.
Она могла бы с тем же успехом повернуться кругом и помчаться обратно в аэропорт, думала она, потому что совершенно внезапно утратила способность не замечать всего безобразного — словно мусор, усыпавший всю дорогу. А чем красивее место, как узнала она во время своих прогулок с Филлис, тем больше мусора там разбрасывают. Ущелье Черной реки забивали огромные его кучи, которые специально вывозили на тележках. Как-то раз она повела Филлис вниз по тропинке и вскоре показывала ей на выдуманных птиц, на что угодно, лишь бы отвлечь мать не только от мусора, но и от ковра использованных презервативов, покрывавшего тропу, словно конфетти, устилающее церковную дорожку.
Джин резко крутанула руль, чтобы не врезаться в собаку. Собаки, желавшие смерти и уже бывшие при смерти, — они усыпали весь остров. Обыденное зрелище — сбитая собака, оставленная умирать на дороге, раскатываемая, как тесто для домашнего печенья, когда водители расплющивали ее в обоих направлениях, пока она окончательно не исчезала из виду. Здесь никто ничего не ценил. Из года в год семьи бродили по лесу и срубали деревья, чтобы развести костер, — и так же каждый год разражались ливни, неся с собой наводнения и оползни. Время от времени образы целых поселений, сметенных со своих подобных зубочисткам свай, привлекали внимание какой-нибудь зарубежной телевизионной команды или зарубежной службы спасения, но вот других деревьев никто не высаживал.
Она проехала через скопление продовольственных ларьков и лоскутных хибарок. Если Сен-Жак отвергает ее, думала она — пробно, оборонительно, — она сделает то же самое. Посмотри на этих людей, сидящих прямо на обочине, чешущих у себя в голове и оттягивающих мочки ушей, тупо поворачивающихся, чтобы посмотреть, как она проносится мимо, на людей, которым так уж не повезло в жизни, что этого нельзя было не заслужить. Но из этого ничего не получалось. Джин была несчастна; все, чего, по ее мнению, она могла когда-либо пожелать, так это чтобы она оставалась, как прежде, ничем не выделенной.
Как могла она простить Марку то, что любовный роман с самим раем оказался безвозвратно утрачен, что отныне ее остров стал не гаванью, не домом, но карантином — разве он на самом деле не был когда-то колонией прокаженных? — к тому же таким далеким от
Через сорок минут быстрой езды Джин оказалась возле рынка, раскинувшегося на большой поляне у дороги. Повинуясь импульсу, она туда завернула, всего на минутку. Выйдя из машины и глубоко вздохнув, она обозрела сцену: рои покупателей и продавцы с их фортификациями из свернутых ковров и наклоненных кофров с молотыми специями и лечебными притирками от всего на свете, от
Рядом располагалась единственная крытая секция этого рынка, на сваях, надо всей этой кишащей жизнью. И там кишела смерть. Целые туши животных свисали с металлических крюков на мясном рынке, исходя сладострастием и гнилью. Входы имелись на каждом углу этого длинного вигвама, к ним вели шаткие деревянные лестницы, и каждая дверь была помечена для неграмотных каким-нибудь одним рисунком, изображавшим козу, корову, рыбу или птицу. Значит, подумала она, испытывая полное одиночество, здесь, как и везде, необходимо придерживаться верной последовательности действий: выйти из здания, спуститься по лестнице, а потом снова подняться и войти в соответствующую дверь, если окажется, что тебе нужно какое-то другое существо. Прежде чем начать, надо знать, чем ты хочешь закончить. Надо знать, чего ты хочешь. Покупать внимательно и осторожно: сухо указывать,
Вот что с нею не так, осознала она, — помимо, конечно, ее несостоятельного тела. Эта мысль осенила ее возле вигвама, когда она пыталась не вдыхать вонь разлагающейся плоти. Дело не в собственном ее старении. И не в ее застенчивости. Дело в том, что она никогда не знала, чего хочет. Желания же не знать, оказывается, недостаточно. Невозможно вылечить болезнь, невозможно заставить кого-то тебя полюбить, невозможно ладить с Интернетом и с его бесконечной грязью, невозможно приносить пользу своему ребенку, невозможно даже купить продукты, чтобы приготовить обед, не зная, чего ты хочешь. Что случилось со способностью чувствовать по-своему? Что случилось с прежним порядком вещей, с тем, чтобы не ходить в спортзал и
Она поспешила обратно в машину, преследуемая старухой, торговавшей креветками из ведра. Просто чтобы избавиться от нее, Джин купила все ведро и, вернувшись на дорогу, снова подумала: вот с чем у тебя плохи дела — и с чем, как она догадывалась, все в порядке у Джиованы. С ясностью цели. Она прикинула, сколько у нее остается времени. Она читала — и даже писала — о том, как внезапно может это тебя поразить, становясь вопросом нескольких недель. Забудь об
Три месяца: невыносимо было думать о том, каким образом мог бы разниться отрезок оставшейся ей жизни, забери она свои результаты немедленно. Времени терять больше нельзя. Ей надо стать более похожей на свою соперницу и более похожей на Марка. Он тоже всегда знал, чего хотел. Он уже со всем определился, когда они познакомились. Он ведь стоял в отделе криминальных фильмов и триллеров, пока ее взгляд блуждал по длинным рядам лент общей направленности — драм, исторических фильмов, романтических комедий.
Той ночью Джин стало плохо в ванной, и Марку пришлось помочь ей добраться до постели, завернув ее, словно в саван, в свой синий халат. Когда двенадцатью часами позже она проснулась, он стоял рядом, держа в руке чашку чая с молоком.
— Дрема одолела? — мягко спросил он (в своих речевых повадках Марк был склонен к преуменьшениям даже больше, нежели к преувеличениям: двенадцатичасовая «дрема»). Она могла лишь кивнуть в знак согласия и послушно глотать чай, обхватив кружку обеими руками, а когда он оставил ее, чтобы вернуться к работе, она опустила взгляд на свои частично выставленные на обозрение груди — они по-прежнему были на месте и ничего не показывали… сделавшись теперь такими милыми маленькими лгуньями. А еще ниже она увидела, что на ее теле отпечатался ромбовидный узор, воспроизводящий вафельное переплетение нитей ткани, словно сетчатый наряд проститутки.
В ванной Джин рассудила, что то ли сон, то ли обезвоживание пошли ей во благо: она казалась тверже, чем будет выглядеть этим же днем позже, словно бы провела ночь в большой, с женскими очертаниями, ванночке для желе, где ее форма установилась и временно застыла. Гравитация снова заставит ее растечься, и, хотя сетка сохранится и через несколько часов, удерживать в себе она уже ничего не будет. Ничего не будет удерживать и ничего не будет напружинивать. И даже в тот момент, когда ей в голову пришла эта мысль — именно того рода холодное женское наблюдение, что позволяло ей писать о здоровье для массового читателя, — она осознавала, что даже и это придется пересмотреть через призму признательности, обусловленной более серьезным заболеванием.
Марк, подпоясав то, что он называл своим модным пеньюаром из старинного искусственного шелка — подарок Виктории, — все утро провел в своем маленьком кабинете, работая над кампанией, связанной с производством ностальгических бытовых устройств: печей и холодильников с закругленными краями. Он был в тупике. На Сен-Жаке
— Что ты делаешь? — спросила она, как будто сама не видела. Не пройдет и часа, как по поводу нынешнего проекта ему будет звонить Дэн.
— Достойный мужчины напиток, — сказал он вызывающим тоном. — Темный ром, капелька нашего любимого ликера, сок лайма, веточка мяты и две столовые ложки ванильного сахара, с верхом, — нектар богов.
Но Джин видела, что его гложет некая бóльшая тревога — а ведь она даже еще не говорила ему о клинике. Впервые она подумала: вполне возможно, что Джиована бросит его первой. Или, может, все дело в том, что он не в состоянии здесь работать. Рекламирование предполагает настройку на местное расположение духа, тенденции, извращения, устремления, даже погоду. Собственно, главным образом — погоду. Люди совершают покупки, чтобы компенсировать погоду. Разумеется, на Сен-Жаке не имеет никакого значения, какой именно у тебя холодильник — лишь бы в нем было достаточно холодно. (Значит, и здесь все дело в погоде.) Он не может уловить этого на расстоянии, не может в должной мере
Как долго они протянут, если он не сможет работать? Джин тоже испытывала трудности со своей колонкой. Она не могла писать об орешках бетеля, местном стимулирующем и способствующем пищеварению средстве, так как в Теско или CVS приобрести их еще нельзя. Но какого рода статью о здоровье могла она написать вообще, когда перед глазами у нее маячил рак? Ей совсем не хотелось писать об этом — как все те некрологи, что выстроились друг за другом на многие годы вперед. И не хотелось говорить об этом с Марком, прежде чем сама не решит, что делать. Может,
Не отозвавшись, Джин продолжала готовить ленч и через окно заметила Кристиана, с тарахтением приближавшегося по дороге. Что ж, по крайней мере ужасающую новость из клиники она уже получила — что еще за сюрпризы могли скрываться в его мешке фокусника? Она следила, как он, подпрыгивая и виляя, приближается к их дому. Здесь, у своего высокого командного пункта возле кухонного окна, она чувствовала себя смотрителем маяка. Джин бросила креветок в кипящую воду и пронаблюдала, как те, почти сразу же, превратились из серых в розовые. Вот так, должно быть, это и происходит, подумала она. Если у тебя интрижка. Она готова была выйти к Кристиану, но Марк — явно жаждавший любой возможности отвлечься — ее опередил. Через несколько минут он вошел обратно с парой маленьких бандеролей и большим конвертом — вероятно, из клиники — под мышкой. Над головой он размахивал письмом. «От Вик», — сказал он, обогнув ее, занятую ленчем, и водружая остальную почту на полку. Она взглянула на первый из пакетов. Миниатюрный почерк был ей смутно знаком, но сразу же опознать его не удавалось. Марк поспешил за очками, Джин очищала креветок и ждала. Можно бы и вовсе не говорить ему о клинике, думала она. Какую же проницательность и прозорливость он выказал, ежели у него уже имеется некто на очереди, чтобы его утешать, а в один не столь отдаленный прекрасный день и вовсе ее заменить. Не успел он вытащить письмо из конверта, как зазвонил телефон.
— Черт. Дэн?! Привет. Это ты, Тео? Конни? Это Конни? Погоди минутку.
Прикрыв рукой микрофон, он сказал Джин:
— Не жди меня. Это может занять с полчаса. Если только нас не разъединят.
Прихватив с разделочного стола пиво, он вместе с беспроводной трубкой и письмом укрылся в своем кабинете. Теперь Джин придется ждать, чтобы услышать новости от Вик. Стоя возле раковины, она ела огромную креветку и думала, что если будет жить одна, то в этом найдется хоть одно преимущество: никакой тебе больше
Природное любопытство Джин через несколько месяцев действий исподтишка обратилось в своего рода навык, и она с первого взгляда заметила, что пакет не был ни опоясан лентой, ни заклеен, всего лишь скреплен стиплером: эти скрепки легко можно будет вставить обратно. Держа пакет в глубине раковины, чтобы его не было видно никому другому, она одну за другой вытащила легкие алюминиевые скрепки, кладя их в блюдце на полке, затем сунула руку в пакет и извлекла из него что-то твердое, в пузырчатой обертке.
Она сняла пластик и, озадаченная, взглянула на оголенный предмет, перекатывавшийся у нее в ладони. Твердая штуковина из розовой резины, то ли соска-пустышка, то ли изощренная кухонная принадлежность. Затычка для бутылки — или, может, что-то для смешивания коктейлей? Ясно как день, Марк и Джиована обожают коктейли. Но это больше походит на детское зубное кольцо, из тех, что сначала помещают в кулер. Она поднесла странную штуковину к свету, чтобы увидеть какие-либо обозначения. Ну да, кольцо имеется, но слишком маленькое даже для детской ручонки. А с одной из сторон — толстый плосковатый выступ, из той же формованной резины, но ребристый. Орудие пыток? Снова заглянув в пакет, Джин обнаружила свернутый листок — инструкцию:
По-прежнему уставившись в открытое окно, Джин снова стала мыть руки. На изгороди, обозначавшей границу усадьбы, она увидела ярко-оранжевого, словно знак, предупреждающий о дорожных работах, пернатого гостя. Тот был одним из здешних завсегдатаев, и за его флюоресцирующее оперение Джин прозвала его Светооформителем. Бедняге негде было укрыться, кроме как в птичьей энциклопедии, в которой невозможно найти ни одной похожей особи. Она подалась вперед, протягивая через окно какие-то крошки, призывая его подлететь ближе и пытаясь забыть о том, что только что видела.
Джин не слышала, как Марк вышел из дома, но теперь он шел по направлению к дороге. Она надела очки и увидела, что на ходу он обеими руками запахивает свой халат, предоставив поясу волочился сзади в пыли. Он вышел, чтобы закрыть ворота. Она знала, что его раздражает, когда Кристиан оставляет их открытыми, и что причиной этого раздражения является сам Кристиан. Она смотрела, как он изо всех сил пытается одной рукой накинуть проволочную петлю на штырь, по-прежнему удерживая халат запахнутым. И не смогла сдержать улыбку, когда он попытался запахивать халат локтем, чтобы высвободить другую руку, и орудуя теперь
Когда Марк вернулся, завязав свой пояс теперь не на бант, но на двойной узел, Джин уже сидела снаружи, попивая кофе. На столе стояли кофейник и чашка для Марка.
— Нас разъединили, — сказал он. — Через час мне надо будет поспеть в «Сен-Жером».
— Можем мы сначала прочесть письмо Вик?
— Как раз собирался, — сказал он, вытаскивая конверт из кармана халата и роясь в другом в поисках своих очков без оправы, предназначенных для чтения. («Так их гораздо легче терять, — пояснил он когда-то. — Они специально так разработаны, чтобы с ними проще было разделаться».)
—
— Да читай же! — сказала Джин.
—
— Не пропускай!
Марк остановился, чтобы обменяться с Джин довольными взглядами.
—
— Определенно что-то новое в ее тоне.
— Да, ни тебе стрел вины, ни пращей жалоб.
Джин пропустила это мимо ушей.
— А можно мне самой посмотреть?
— Погоди-ка. Вроде бы в конце здесь кое-что говорится, нет?
Он снова развернул письмо, надвинул очки на переносицу и перевернул страницу, отыскивая что-то такое, что опустил.
— Пишет, что кое с кем познакомилась.
— Эй, ты этого не читал. Дай-ка посмотреть.
Джин попыталась выхватить письмо, но он плотно прижимал его к груди. Она начала было возмущаться, но осеклась, увидев, как он изменился в лице. До нее дошло, что самая мысль о том, что Виктории появился бой-френд, глубоко ему ненавистна. Он даже не хотел обращать это в факт путем оглашения.
— Да ладно тебе. Поживем — увидим, — сказала она. — Ты же сам целый год удивлялся, почему у нее до сих пор нет друга.
На Марке лица не было, он ее словно не слышал. Ответа не последовало: он
Письма Виктории было не узнать — оно не было обычным ее перечнем личных горестей и общественных негодований (претензий к подругам, несправедливостей по отношению к налогоплательщикам великого городишки Кэмден), в сущности, вообще ничего об ее чувствах. А потом этот сюрприз, пришпиленный под конец. Джин казалось, что она понимает, какая перемена произошла в дочери, что служит источником этой новой ее легкости, неуклюжей болтливости. У нее был секс. Джин отнюдь не воображала, что Вик девственница, напротив, была вполне уверена в обратном. Но все прежнее имело лишь формальную, техническую сторону.
А посему, чтобы отвлечь Марка или чтобы дать ему нечто иное, достойное горестных размышлений, она рассказала ему о том, как заезжала в клинику.
— И мне придется туда вернуться. Они хотят сделать еще один тест —
— С чего ты взяла?
— А что еще это может означать?
— Они хотят быть уверенными. Такая у них работа, это просто исследование ультразвуком. Может, на снимке что-то неясно, вот и все.
— Вот и я говорю. Что-то не так. Боже, как я устала. Пойду и прилягу на часок.
Она протиснулась мимо него. Несмотря на необычайно долгий сон накануне ночью, она вдруг ощутила с ног валящее утомление — окончательное, по ее мнению, доказательство наличия болезни. Утешения ей не хотелось, а вот утешать
Джин сидела на кровати, снимая сережки — массивные серебряные звезды, подарок от Вик. Сняв марокканские серебряные бусы, единственную свою драгоценность, которой домогалась Виктория, и перебирая их в пальцах, словно четки, она думала о письме дочери. Дело вовсе не в сексе. Виктория влюблена. Как это типично для умственного убожества Джин, что она зациклилась на первом — ну да, розовое зубное колечко для надевания на член. Интересно, что Джиована пришлет в следующий раз? Бирюзовые анальные затычки? Три месяца назад я и не знала, что такое анальная затычка, думала Джин, слишком подавленная, чтобы снова разжечь свою ярость по отношению к Марку. Она бросила ожерелье на ночной столик, положила ладони на груди и надавила на них. Потом улеглась. И груди ее тоже улеглись — лишенные закваски, обессиленные, распростертые, скользящие к краям раскинувшейся в разные стороны земли. И почти уже там пребывающие, подумала она, стараясь не заплакать.
За зашторенным окном раздалось воркование какой-то птицы, и она попыталась угадать, какой она породы.
Ближе к вечеру Джин решила, что отправится в Лондон. Она откажется от
Выйдя выпить, она увидела уголок письма Вик, высовывавшийся с высокой полки, где его оставил Марк — то ли поместивший его вне пределов ее досягаемости намеренно, то ли просто будучи невнимательным (и
Она взглянула на оборотную сторону письма. Оказывается, после постскриптума о Викраме имелся еще один:
Джин взяла «Теорию равенства» и осмотрела ее, вытянув перед собой: красные весы на обложке, штамп университетской прессы, фотографии автора нет — серьезная книга. Она открыла ее как можно шире, чтобы только не треснул корешок, тщательно принюхалась ко шву, и при этом на колени ей упал запечатанный конверт. Она пока не стала его открывать. Первым делом она составила список.
Потом она написала
«Ты только послушай саму себя!» — подумала она, решаясь «порвать с этим», как будто Джиована была ее собственной любовницей, а не полной незнакомкой. Ей следовало оставить это на завтра, но она все равно продолжала размышлять о том, как с этим управится.
Дорогая Джиована,
В последние несколько месяцев ты, не зная об этом, переписывалась со мной, Джин Хаббард.
Да, со мной, миссис Хаббард, — понимаешь?
Привет, это Джин.
Нет,
Дорогая Джиована,
В последние два с половиной месяца я выдавала себя за своего мужа. На сей раз искренне ваша, Джин Хаббард
Она попыталась снова.
Милейшая Джио. Нет.
Дорогая Джио. Нет!
Дорогая Джиована,
Наконец-то наступил этот день. И я должен тебя поблагодарить. Твоя терпеливая, поистине усердная помощь сделала меня любовником, которого моя жена всегда желала и, видит Бог, заслуживает…
Ну конечно! Но все же это верное направление. Она отгородится от Джиованы единственной вещью, которая у нее есть и которой у той никогда не будет: браком. Скальным основанием из двадцати трех счастливейших — нет, двадцати трех просто счастливых лет. Или как насчет
Дорогая Шлюха, я тебя обожаю, но у меня появилась новая шлюха, которую я хочу называть своей!
— Ты же не будешь говорить обо мне, правда? — вслух спросила Джин у себя голосом мультипликационного зайчика, которым они с Вик обозначали комичное отсутствие понимания самих себя, заодно возмущенно хмурясь, расставив ноги и уперев руки в бока.
Или как насчет… ничего. Самым лучшим, самым крутым будет просто все прекратить. И никак этого не комментировать.
Солнце опустилось за далекие голубые холмы, и воздух внезапно сделался прохладным. Все детали исчезли, очертания пейзажа слились воедино, и земля стала силуэтом спящего животного. Даже попугаи на высоких эвкалиптах молчали. Небо было темно-желтым с черными прожилками, как будто по нему прополз не умеющий ходить ребенок с угольным карандашом в руке. Джин слышала, как Марк принимает ванну, — с обедом придется подождать. Подумать только, раньше они принимали ванну совместно, два аллигатора в крохотном болотце.
Джин зажгла на столе цитронелловые свечи и взяла конверт Ларри. Внутри была открытка с фрагментом картины Буше, «Плененный Купидон», 1754. Фрагмент изображал бьющий фонтан, украшенный двумя ангелочками серого камня, один из которых парил в воздухе, чтобы привести другого в чувство искусственным дыханием рот в рот. На обороте она увидела знакомый почерк, мелкий и четкий.
Джин оторвала взгляд от открытки — постой, это немного слишком, не так ли? О чем это он? Она знала, что это Мильтон; Ларри любил Мильтона. Она узнала строки из «Потерянного рая». Однажды он уже выписывал их для нее, из той части, где Адам и Ева должны покинуть рай и стать в полной мере людьми. Она нашла те же строки, написанные той же рукой, в своем письменном столе, когда прибирала в нем, готовясь покинуть Нью-Йорк. Она прочла их снова и вспыхнула, вспомнив (как будто могла их забыть) строки, следовавшие за этим заключительным эллипсисом: «Ты для меня — все сущее под Небом, / Ты для меня — все то, что на Земле». Вместо этого он написал:
Она снова подняла взгляд. Было почти темно. Значит, он не объявлял о своей бессмертной любви. Ну и слава Богу, сказала она себе, смущенная собственным рвением. Он
Джин смотрела на далекие холмы, как раз исчезавшие в ночи. Может, он имел в виду, что это
— Они
Она шлепнула себя по ноге. Москиты напивались вдоволь.
—
— Может, поедем и отпразднуем? Праздничный коктейль в «Бамбуковом баре», а потом — в «Beausoleil», в «Королевскую пальму»? Ваш выбор, Великолепие. Называй.
Джин улыбнулась, думая, что все ее одежды, отличные от саронгов, порчены молью, чего ночью на самом деле не видно, но — никуда не деться от
Двадцатью минутами позже Джин, одетая в старое синее креповое платье, сидела рядом с приободрившимся Марком, который вел поскрипывающий грузовичок вниз по подъездной аллее, с неожиданной легкостью говоря о Виктории и о ее вновь обретенной любви, а она снова думала об Адаме и Еве, идущих по своей «пустынной дороге». Она скрестила руки и смотрела в черноту, держа средний палец на области беспокойства под лифчиком — что это, отвердение? Или только микроотвердение? Фиброз или просто некроз? Как удивительно, что она помнит Мильтона. Но, с другой стороны, она читала эти строки сотни раз, когда летела обратно в Англию, и потом долго перечитывала их снова при каждом удобном случае.
Марк остановился у ворот, перевел рычаг коробки передач в нейтральное положение и дернул вверх ручной тормоз.
— Выводи ты, — сказал он, затем открыл дверцу, чтобы выбраться. Джин, извиваясь, стала огибать коробку передач, перебираясь на место водителя и глядя, как он приближается к воротам в желтом свете фар. Он смотрел себе под ноги и улыбался. Она испытывала облегчение из-за того, что он избавляется от своих страданий по поводу Виктории и Викрама, пусть даже она и сомневалась, что такое возможно. Потому что кто, в конце концов, есть отец своей дочери, как не мужчина, любивший ее сильнее всех? Не просто дольше, в случае Марка, но сильнее. Когда он начал сражаться с самодельной петлей, а его волосы и полы пиджака забились, взметаемые ветром, Джин попробовала прочесть Мильтона вслух.
Глядя, как Марк борется с дребезжащей проволочной петлей и уже не улыбается, она чего-то никак не могла здесь припомнить, а потом ей вдруг явилось окончание — нечаянные слезы.
Марк стоял, удерживая ворота открытыми и приглаживая свободной рукой волосы, а Джин, миновав его, выехала на другую сторону.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |