"Наивный человек среднего возраста" - читать интересную книгу автора (Райнов Богомил)
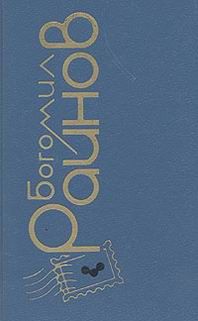 |
Богомил Райнов
НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Глава 1
Первое, что вспоминается, когда я думаю об этом чёрном генерале, — он был громадный, как гора, и сложен, как атлет. Не хочу сказать, что всё время о нём думаю, потому что если я буду думать обо всех таких, как он, то моя жизнь пройдёт в раздумьях. А поскольку я не профессор в Гарварде, то от меня не ждут мыслей, которые никому никогда не пригодятся, а ждут идей, которые можно пустить в дело. И если я иногда вспоминаю об этом типе, то не потому, что так уж чувствителен, а потому, что кое-кто чересчур часто напоминает мне о том, что с ним связано.
Словом, этот чёрный генерал был настоящей горой из широких костей и стальных мускулов без единого грамма жира. И когда я узнал о его внезапной смерти, мне почудилось, что негр-великан наваливается на меня всей своей тяжестью, и я испытываю такое же приятное ощущение, которое испытали бы вы, если бы на вас вдруг рухнул потолок.
Смерть этого типа все восприняли как нечто страшно загадочное, хотя, на мой взгляд, это было вполне естественно. Не в том смысле, что все мы когда-нибудь умрём, а в том, что если жить так, как он, то вряд ли можно рассчитывать на долгий век. Ведь удовольствие никогда не бывает долгим.
Плохо то, что я был связан с этим генералом и даже в какой-то мере отвечал за него, и, следовательно, не мог пропустить сообщение о его смерти в вечерней газете, как о помолвке госпожи такой-то с господином таким-то. Уверен, что от меня потребуют подробных и убедительных объяснений, которые я, само собой, не могу дать, поскольку в то злополучное утро и в тот злополучный час находился километрах в пяти от места происшествия, точнее — в своей квартире, а ещё точнее — в своей постели.
А то немногое, что мне лично известно об этом деле, укладывается в несколько строк. Генерал явился ко мне домой, как мы и договорились: в два часа ночи. Первое, чем он поинтересовался: имеется ли у меня в наличии обещанная ему сумма. Я ответил утвердительно и собрался обсудить с ним задание. Но, конечно, прежде я расспросил его кое о чём в связи с обстановкой в стране, однако поскольку генерал был не из тех, кто говорит коротко и по существу, а был болтлив, как парикмахер, то информация эта отняла у нас больше часа. Потом я перешёл к заданию, с чем можно было бы покончить за несколько минут, — я уже сто раз объяснял ему задание и в целом, и в деталях. Но, как я уже говорил, генерал был атлет, то есть сила его была не столько в голове, сколько в конечностях, и пришлось по пунктикам снова повторять весь урок, что тоже отняло ещё час с небольшим. Остальное время до пяти часов утра прошло в идиотском занятии: этот тип педантично пересчитывал все выданные ему деньги. Сто пятьдесят тысяч долларов — золотыми монетами с изображением английской королевы с одной стороны и конной статуи Святого Георга — с другой, все аккуратно сложенные столбиками, плотно завёрнутыми в пакет. Это тоже было совершенным идиотизмом — потребовать всё своё вознаграждение золотом, но он с самого начала объявил, что желает золотом и только золотом и что плевать хотел на наши доллары, вероятно, про себя прибавляя, и на нас самих. И вот он перерезал ножом проволоку, которой был надёжно обвязан пакет, разорвал три слоя толстой обёрточной бумаги, открыл одну ячейку, пересчитал в ней монеты и взялся за вторую.
— Послушайте, дорогой, — не сдержался я. — Вы же видите, что все столбики одинакового размера и формы, следовательно, в них одинаковое число монет одной величины. К тому же, я полагаю, вы дадите мне возможность хоть немного поспать, если соблаговолите пересчитывать не монеты, а столбики.
— Можно и так… — согласился генерал. — Но всё же я должен знать, что именно в этих столбиках.
Я тяжело вздохнул, но это не вызвало у чернокожего никакого сочувствия.
— Ничего, разок поспите поменьше, — заметил он. — В конце концов, не каждую же ночь я получаю золото. Уверен даже, что это первый и последний раз в моей жизни…
Он был прав, как Сократ, относительно предчувствия, что другого подобного случая в его жизни не будет, потому как через полчаса ему суждено было превратиться в груду дымящегося мяса. Но говоря, что это было в первый раз, он нагло врал: я сам неоднократно вручал ему кое-какие суммы денег, правда, не золотом и не такие большие.
Итак, спокойно расположившись у моего стола, он начал разрывать обёртку, один за другим ссыпать столбики монет в кучку, которая с, каждой минутой становилась всё больше, пока не было высыпано содержимое последнего столбика. После чего этот любитель жёлтого металла открыл кейс, представляющий собой в сущности маленький алюминиевый чемоданчик, достал из него заранее приготовленные целлофановые пакетики и начал упаковывать монеты заново.
— Давайте высыпем всё в чемоданчик, — предложил я. — Это же не яйца, не разобьются.
— С золотом нужно обращаться так же деликатно, как с женским телом, — возразил генерал. — Нельзя, чтобы монеты поцарапались.
Пришлось вытерпеть и эту процедуру. Наконец ровно в пять утра этот тип взял чемоданчик, попрощался и освободил меня от своего присутствия. Мельком я увидел в окно, как он сел в свой изумрудно-зелёный «форд» и отчалил.
Вот и все мои личные сведения. Остальное я узнал из газет.
Этого остального тоже не бог весть как много, всего на несколько строк. Если отбросить самые невероятные догадки и небылицы, сочинённые местной прессой для раздувания сенсации, то останется один-единственный бесспорный факт: тем же утром изумрудно-зелёный «форд», обгоревший и разбитый, был найден на дне пропасти, над которой пролегало шоссе, ведущее к заливу. Изуродованный и тоже обгорелый был найден и труп генерала там, где он и должен был находиться, — за рулём. Странно, однако, было то, что золота не нашли там, где оно должно было бы лежать, а вернее, его вообще не нашли. К счастью, никто, кроме меня, не знал, что вёз с собой генерал. И слава Богу, потому что чемоданчик с золотом распаляет воображение людей гораздо сильнее, чем самый кровавый инцидент.
Вот и всё. По крайней мере, на мой взгляд. Поскольку некоторые люди с богатой фантазией тут же поспешили связать смерть генерала с другой катастрофой, происшедшей по странному совпадению тем же утром и, возможно, почти в тот же час неподалёку от роковой пропасти, а именно в самом заливе. По неизвестным причинам моторная лодка взорвалась в шестистах метрах от берега, и вместе с ней взлетели на воздух два её пассажира. Позднее пассажиров, а точнее, то, что от них осталось, вытащили на берег, но это не помогло разгадке тайны их гибели.
Таковы факты. Впрочем, каждому непредубеждённому человеку должно быть ясно, что я, находившийся всё это время в своей постели, спавший тем крепким здоровым сном, которым обычно спят праведники и люди нашей профессии, не могу иметь ничего общего с упомянутыми выше происшествиями. Даже ребёнку это было бы ясно.
Только мои начальники, увы, не дети.
— Садитесь! — бурчит Хьюберт.
Он протягивает руку, но не для рукопожатия, а чтобы указать на стул, куда я должен сесть, вернее, конторскую табуретку, перед его письменным столом.
Гостям, к которым он благоволит, Хьюберт предлагает расположиться в кожаных креслах в другом конце кабинета. А тех, кто ему неприятен, заставляет моститься на этой табуретке. Она, может, и удобна для секретарши, которую вызывают на две минуты записать письмо или приказ. Но сидеть часами на этом маленьком и шатком сооружении, не имея возможности даже откинуться назад, — настоящее мучение. Конечно, Хьюберт отлично понимает это и использует, чтобы с самого начала поставить противника в невыгодное положение.
Табуретка — только один из признаков того, что в данный момент вас считают противником или, по крайней мере, чужаком. Никакого вставания из кресла, никакого рукопожатия. Никаких обычных вопросов: «Ну, как съездили?», «Как Элен?», «Хотите сигарету?» И подумать только, что с этим человеком мы вместе кончали спецшколу и были почти друзьями…
Полная мягкая рука шефа тянется к миниатюрному, чуть больше пачки сигарет магнитофончику, стоящему на столе. Палец нажимает на маленькую кнопку, и по комнате разносится приятная, нежная мелодия, напоминающая детскую песенку.
— Вы сами понимаете, что вам придётся представить подробный письменный отчёт, — сухо произносит Хьюберт. — Но всё же я хотел бы услышать от вас и устные объяснения.
Я покорно киваю и чётко и кратко излагаю то, что можно рассказать по поводу случившегося.
— Этот человек был козырной картой в нашей игре, — признаю я в заключение. — И смерть его действительно сильный удар для нас.
— Наша организация вряд ли пострадает от этого удара, — замечает шеф после короткого молчания. — Но боюсь, что ваша карьера рухнет.
От его слов у меня возникает ощущение, что я лежу, придавленный тяжестью упавшей на меня туши чернокожего.
— Практика искупительных жертв мне известна, — примирительно киваю я. — И раз я должен стать искупительной жертвой…
— Ах, так вы, ко всему прочему, считаете себя жертвой! — повышает голос Хьюберт. — В таком случае должен вам заметить, что, по мнению кое-кого, вы не жертва, а палач!
Я поднимаю глаза и изумлённо смотрю на него.
— Что вы на меня уставились? Вам что, не приходило в голову, что на вашу историю можно посмотреть и с другой точки зрения? — раздражённо спрашивает шеф.
— Всё можно рассматривать с разных точек зрения, — соглашаюсь я. — Но я уже немало лет работаю здесь и думаю, что заслужил хотя бы минимальное доверие…
— В чем-то доверие, в чем-то недоверие, если быть точным, — поправляет меня шеф. — Вы, вероятно, помните, что в Чили вы с чем-то не справились, с другим справились отлично. Вообще не советую вам чересчур полагаться на свою репутацию. Она не так уж безупречна, Томас.
Я испытываю непреодолимое желание вскочить, начать оправдываться, напомнить этому расплывшемуся от сидения в кабинете бюрократу о каких-то своих пусть маленьких, но заслугах, ради которых я порой рисковал жизнью. Однако это худшее, что можно сделать в такой момент. Я опускаю глаза и принимаю смиренную позу, насколько проклятая табуретка позволяет сделать это.
— Разве вам не ясно, что первый вопрос, который задаст себе объективный судья, — какую пользу мог иметь Томас от смерти своего агента?
— Это вопрос, касающийся мотивов поведения, — замечаю я наивно. — А вопрос о мотивах можно ставить только тогда, когда человека подозревают в совершении преступления.
— Представьте, что такое подозрение существует.
— Но единственной «пользой», как вы выражаетесь, для меня были бы те сто пятьдесят тысяч долларов. А эту сумму, да к тому же золотом, я ему вручил.
— Но ведь золота не нашли.
— И никогда не найдут. Если мой генерал, предположим, стал жертвой не просто дорожной катастрофы, а нападения, то нападавшие, естественно, прежде чем сбросить его в пропасть, прихватили чемоданчик. Только я в тот момент был в пяти километрах от места происшествия, был, знаете ли, в постели, и, по крайней мере, трое, включая консьержа, могут подтвердить, что я не выходил из дому…
— Видите ли, Томас, — шеф жестом останавливает меня. — Всё это, конечно, должно быть отражено в вашем письменном отчёте, но сразу скажу, что это не настолько веский аргумент, чтобы развеять подозрения. У вас достаточно своих людей в этой стране, чтобы организовать убийство, не замарав кровью своих рук. Что касается золота, то кто подтвердит, что вы действительно передали его генералу?
— Но поймите же, ведь это было золото, а не банкноты! Пять тысяч монет, весом в сорок килограммов… Его не спрячешь в чемодане среди носовых платков, и я всего час назад проходил таможенный досмотр, чему, конечно же, обязан вам, потому что раньше никто никогда не перетряхивал мои грязные рубашки… — Я умолкаю, чтобы перевести дух, и продолжаю: — Не думайте, что я обижаюсь. Я даже вам благодарен, теперь точно установлено, что я не провозил в ручном багаже золота, а ни один здравомыслящий человек не допустит мысли, что я могу оставить золото в этой жуткой стране, где и за свою жизнь-то не можешь поручиться, не то что за золото…
— Звучит уже убедительнее, — признаёт Хьюберт. — Только ведь на сегодня это ваша собственная версия. Чем вы докажете, что действительно купили пять тысяч золотых монет, чтобы удовлетворить прихоть генерала?
— Самым простым доказательством: распиской продавца.
— А у вас есть расписка? — Лицо шефа слегка проясняется.
Я подаю ему документ. Хьюберт бросает на него беглый взгляд, и в его маленьких серых глазках снова мелькает подозрение.
— Но ведь она даже не на бланке торговой фирмы. Подпись неразборчива, печать размазана. И вы полагаете, что этот клочок бумаги может сыграть роль вещественного доказательства?
— Должен признаться, что когда я покупал золото, то мне не приходило в голову, что понадобится собирать вещественные доказательства. Просто я вёл переговоры с одной тёмной личностью, которая занимается грязными сделками и курсирует в Танжер и обратно, и моей главной заботой было, чтобы он не заломил цену вдвое выше реальной.
— Вы, наверно, добавите, что у этой тёмной личности нет постоянного места жительства и его невозможно отыскать и допросить?!
— Ну, почему же? У него есть постоянное место, где он скрывается, и думаю, что с ним можно установить контакт.
— «Вы думаете», но не уверены… — недовольно бормочет Хьюберт.
Я беспомощно пожимаю плечами и возвожу глаза кверху, как бы намекая, что в этом мире только Всевышний может быть в чём-либо уверен.
— Вам ведь известно, элементарная предусмотрительность требует, чтобы получение такой суммы было зафиксировано хотя бы на магнитофоне… — бросает шеф, не обращая внимания на мою смиренную позу.
Эта фраза именно брошена, словно речь идёт о детали, не имеющей особого значения.
— Запись я, конечно, сделал.
— С этого вам следовало бы начать, — рычит Хьюберт, но одного взгляда достаточно, чтобы понять, что суровое выражение его лица снова готово смягчиться. — Лента у вас?
— Я отдал её на хранение нашему человеку в стране.
— Магнитофонная запись — это, конечно, только запись… — замечает шеф, явно опасаясь, как бы я чересчур не возгордился. — Но всё же косвенное доказательство лучше, чем никакого… Особенно если там есть некоторые существенные детали.
— Мало сказать, что сам тот разговор был достаточно красноречив. Но зафиксирован даже звон монет…
— Ладно, оставим пока золото в покое…
Хьюберт встаёт и делает несколько шагов к окну, чтобы немного поразмяться. Я не меньше его нуждаюсь в подобной гимнастике, однако продолжаю сидеть со смиренным видом на проклятой табуретке, которая сейчас мне ненавистней электрического стула. И не только сижу с покорным видом, но даже испытываю что-то вроде облегчения, поскольку, как я и предполагал, подозрения были связаны прежде всего с золотом.
В сущности, хотя пресловутый чёрный генерал и навалился на меня всей своей огромной тушей, смерть его принесла мне и немалое облегчение. Потому что в силу свойственного человеку желания преувеличивать свои заслуги, я в своих донесениях слишком подчёркивал роль моего генерала и представлял его участие в готовящемся перевороте как надёжную гарантию успеха. Однако в той сложной запутанной обстановке, при том хаосе в армии успех переворота — с генералом или без него — в этой дикой африканской республике был более чем сомнителен. Но моей задачей было — организовать переворот, и не мог же я посылать донесения, где сознавался бы, что не способен сделать это. А теперь вот генерал мёртв, и получалось, что переворота не произошло или же он отложен не по моей вине, а из-за его неожиданной и нелепой гибели. При условии, конечно, если будет принята версия, что я не имею никакого отношения к этой смерти.
Хьюберт смотрит в окно, словно оценивая, какие изменения произошли в дымном небе города за время нашего долгого разговора. Потом поворачивается спиной к серенькому мартовскому пейзажу и спрашивает:
— А какая сейчас там ситуация?
Я пытаюсь объяснить и даже доказать с помощью не слишком убедительных аргументов, что положение там не такое уж безнадёжное и что силами оставшихся наших агентов всё ещё можно восстановить или, точнее, вновь дестабилизировать обстановку настолько, чтобы переворот состоялся. Я отмечаю даже, что есть некоторые возможности воздействия на начальника Генерального штаба, изучением личности которого я сам долго занимался. Если я продолжу свою миссию…
— Об этом не может быть и речи, — прерывает меня шеф. — У меня такое чувство, Томас, что вы не отдаёте себе отчёта, в каком вы положении.
— Но если вы так считаете, то зачем, простите, продолжаете этот неприятный разговор? — страдальчески вздыхаю я. — Вы требуете от меня объяснений, которым заранее не верите… Вы просите меня высказывать моё личное мнение, которое вас совершенно не интересует… Говорите о задачах, выполнение которых не собираетесь мне поручать…
Я на миг замолкаю и добавляю с горечью:
— Может быть, нетактично напоминать вам об этом именно сейчас, но подумать только, что в школе мы были почти что друзьями…
Наконец он взорвался. Этой вспышки гнева я ждал, чтобы сориентироваться, понять, что именно скрывается за хмурым фасадом испещрённого морщинами лба и каковы, в сущности, мои шансы на спасение.
— Вы не только не понимаете, в каком вы положении, дорогой! Вы не можете понять даже простого факта, что если бы не я и если бы не наша «почти что дружба» в школе, вы близко не подошли бы к моему кабинету, вас проводили бы до двери той комнаты, где вручают приказы об увольнении и повестки для явки по поводу служебного расследования. С вами бы покончили, понимаете вы это, вас просто вычеркнули бы из списков, — и он нервно нарисовал правой рукой в воздухе большой крест, — у меня уже просто язык отсох втолковывать Главному, что вы за человек, расписывать ваши истинные и мнимые достоинства и объяснять, что если мы начнём выискивать у наших людей недостатки, то через два месяца останемся без кадров…
Гневные слова сыпались на меня, но я покорно склонял голову: мне казалось, что на мой затылок льётся тёплый ласковый дождик. Значит, он всё-таки заступился за меня. Значит, и на сей раз все обошлось.
— Вы не представляете, как тут восприняли это убийство… Вы или глупы, или прикидываетесь дураком, чёрт вас возьми со всем вашим смирением…
Он продолжал бушевать, но я не намеревался прерывать его, выжидая момент неизбежного успокоения. После таких вспышек гнева человек обязательно успокаивается, важно только не помешать этому естественному процессу какой-нибудь неудачной репликой.
Наконец Хьюберт умолк, но ему стало неудобно передо мной, и он снова подошёл к окну. А когда обернулся, я уже совсем сник на проклятой табуретке и сидел, закрыв лицо руками, с видом полного отчаяния и смирения.
— Хотите сигарету? — помолчав, смущённо предложил шеф.
Я вроде бы машинально протягиваю руку к пачке, но хотя мне ужасно хочется курить, я изображаю из себя человека, который в данный момент настолько подавлен, что и не соображает, берёт ли он сигарету или ампулу с цианистым калием.
В эту минуту в дверях появляется секретарша, вызванная каким-то непонятным мне образом.
— Принесите нам чего-нибудь выпить, — приказывает Хьюберт.
Он берёт со стола магнитофон, который всё это время неутомимо наигрывал детскую песенку, перематывая ленту с одной бобины на другую. Пухлый белый палец наконец обрывает мелодию, которую я, кажется, никогда не забуду. Потом шеф произносит:
— Пойдёмте сядем там!
И через минуту я с облегчением погружаюсь в мягкие объятия кожаного кресла, а ещё через минуту держу в руке холодный запотевший стакан виски со льдом.
— Не хочу вас пугать, но думаю, что сейчас не время успокаиваться, — поясняет шеф, охлаждая свой мотор двумя большими глотками. — Дело закончится не скоро, но это в какой-то мере вам на пользу. Ваш отчёт, как положено, будет обстоятельно изучаться и, как водится, не один месяц. Он будет кочевать от одного к другому, пока его наконец не похоронят в папке закрытых дел.
Шеф не закончил фразы, поскольку мысль его и так была ясна и поскольку ему опять требуется несколько охладить себя. Потом он втянул в себя густую струю дыма и, медленно выпуская её изо рта, продолжил:
— Словом, всё теперь зависит от вас. Мне разрешено дать вам шанс оправдаться, если против вас не окажется прямых и неопровержимых улик. Не воображайте, что оправдываться вы будете там, откуда вернулись. Вы не единственный наш источник информации, и нам известно, что своими действиями вы вызвали сильное раздражение в правящих кругах той страны. Это положение не беспокоило нас, пока существовала перспектива переворота в ближайшее время. Но сейчас, когда ситуация изменилась, ваше возвращение исключено.
Это заявление мне неприятно, однако я не показываю своего разочарования. Не то чтобы я привязался к грязным улицам и отвратительному климату этой Богом забытой страны, но лично для меня именно нынешняя ситуация там особенно благоприятна. Некоторые наши предприятия снова почувствуют угрозу национализации. А когда эти господа ощущают, что им угрожает опасность, они вдруг становятся необыкновенно щедрыми к людям, готовым спасти их.
— В данный момент у меня есть только одна возможность — послать вас в Болгарию, — заявил Хьюберт.
— Это где-то на Балканах?
Он кивает:
— Вашего предшественника там только что отозвали при весьма скандальных обстоятельствах.
Шеф, вздохнув, устало добавляет:
— Отзываем того, кто потерпел провал в одном месте, чтобы заменить его другим, который потерпел провал в другом… Так и идут наши дела…
Я снова печально опускаю голову:
— Я искренне сожалею, что этот инцидент причинил вам такие неприятности… поверьте мне, искренне сожалею…
Он, взглянув на меня, начинает хохотать:
— Ха-ха-ха, если бы вы могли посмотреть на себя со стороны… вы просто сама оскорблённая невинность… Я бы просто разрыдался, если бы не знал вас как облупленного… «Кандид», ведь так вас прозвали в нашей школе по имени героя книги Вольтера, о которой все слышали, но никто не читал… Кандид, ха-ха-ха… Эта старая лиса — Кандид…
Хьюберт действительно меня хорошо знает, хотя и не как облупленного, и я отлично понимаю, что не все мои трюки здесь удаются. Но всё же двадцать процентов удачны, а это немало, если речь идёт о том, чтобы провести человека, который знает тебя почти как облупленного.
— Должен вас предупредить, — продолжает шеф, снова приняв серьёзный вид, — что условия в Болгарии сильно отличаются от тех, в которых вы привыкли работать. Местные органы необыкновенно бдительны… Агентура наша там ненадёжна, а у тех, кто понадёжней, небольшие возможности… Есть один-два человека, но их надо беречь и держать в резерве для более серьёзных заданий… Людей в нашем посольстве мало, и они не слишком активны в своей служебной деятельности, если не считать доносов, которые они строчат друг на друга… Эти «письменные работы», конечно, свидетельствуют о похвальном трудолюбии, но мы ждём от них деятельности другого рода… Впрочем, исчерпывающую информацию вы получите в отделе… — Он допил виски и взглянул на меня: — Ну, что скажете?
— Что я могу сказать? — Я сжал молитвенно руки. — Вы сами сказали, что мне даётся «шанс», и, может, только из соображений такта не сказали «последний»…
— Вы правильно поняли, — кивает шеф.
— В таком случае, что я могу сказать, кроме как поблагодарить вас… Я вижу, что вы единственный человек, который хоть сколько-нибудь мне доверяет…
— Да бросьте вы изображать из себя оскорблённую невинность, — добродушно прерывает меня Хьюберт. — Если говорить о доверии в смысле политическом, то никто, включая Главного, в вас не сомневается. А что касается другого…
Он замолкает и делает большим и указательным пальцами красноречивый жест, показывая, как пересчитывают деньги.
— Не хочу сказать, что наши люди столь безупречны, но никто не потерпит, чтобы дело приносили в жертву личным интересам… И потом, вы знаете, что кое-кто очень настроен против нас… Мы государство в государстве, однако и нам не всё дозволено, а в последнее время случаи коррупции, вызывавшие скандалы, слишком уж… участились.
Он снова начал было распаляться, но усталость, видно, уже берёт верх, потому что он замолкает, а затем произносит совсем другим тоном:
— В общем, поезжайте… Расширяйте агентурную сеть, покажите, на что вы способны, и воскреснете… Вы не всегда следуете божьим заповедям, но вы результативный работник, Томас. Так что оставайтесь и впредь таким, только будьте осторожнее.
Хьюберт берёт со стола магнитофон и поднимается, давая понять, что аудиенция окончена.
— Как Элен? — наконец догадывается он спросить и машинально нажимает кнопку магнитофона.
— Спасибо, хорошо, — отвечаю я с благодарностью в голосе под звуки приятной мелодии.
— Привет ей от меня. А вам — вот это! — И он протягивает мне маленький магнитофон. — Замечательный глушитель… и песенка чудесная… Простая искренняя мелодия, как вы… Кандид, ха-ха-ха…
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |