"Быль о полях бранных" - читать интересную книгу автора (Пономарев Станислав Александрович)
Глава четвертая На рубеже Нижегородской земли
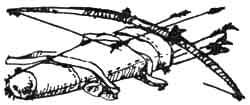 |
В отличие от младшего своего брата Бориса, князя Городецкого, властитель Нижегородско-Суздальской земли Дмитрий Константинович, или Дмитрий-Фома, как его звали в народе, не отличался особой храбростью и государственным умом. Ко времени позорной для руссов битвы на реке Пьяне исполнилось ему пятьдесят четыре года — возраст самый подходящий для свершения мудрых дел и поступков. Но... к этому возрасту великий князь Нижегородско-Суздальский успел дважды попасть в плен к ордынцам, и дважды его выкупал своими деньгами сердобольный купец Тарасий Новосильцев. Дмитрий-Фома радовался безмерно избавлению своему, но боярский чин пожаловал доброхоту только после того, как тот выкупил из татарской неволи украденную супругу властелина.
По примеру своего младшего по возрасту, но старшего по чину тезки и зятя — Великого Князя Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича — начал было Дмитрий-Фома огораживать Нижний Новгород стеной белокаменной, но потянулось у него дело это на долгие годы, то есть ни шатко ни валко... Если налетала на его пределы татарская изгонная рать, «отец народа» спешно бросал своих подданных на произвол судьбы, садился в ладью, уплывал в Суздаль, древнюю свою отчину, и там отсиживался до лучших времен.
Нижегородцы же брались за топоры, мечи и копья, отбивали вражеский натиск и всегда в этом случае звали на помощь стремительного и бесстрашного полководца Бориса Городецкого. Ордынцы хорошо знали его тяжелую карающую десницу, в открытую битву с таким воеводой вступать не стремились и на быстрых конях своих улетали восвояси.
Однажды терпение нижегородцев синим пламенем взялось, и они в шею прогнали своего великого князя Дмитрия-Фому, а править княжеством призвали заступника Бориса.
Дмитрию-Фоме ничего не оставалось, как поливать слезами обиды грудь всемогущего зятя — Великого Князя Московского и Владимирского. А тот в те времена хоть и молоденек был, а понимал, что на престоле сильного Нижегородско-Суздальского княжества Московской Руси совсем не нужен своенравный и самостоятельный правитель, к тому же талантливый военачальник.
И полки московские изготовились к карательному походу. Но никакого похода не понадобилось. В княж-терем к Дмитрию Ивановичу пришел и с почетом был принят суровый аскет, настоятель Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Монах решительно воспротивился междоусобной войне и пообещал один понудить уйти «самозванца» из Нижнего Новгорода.
Игумену[99] не поверили, хотя авторитет Сергия на Руси был огромен: народ при жизни нарек его святым без всякой церковной канонизации[100]. Даже в самой патриархии Константинопольской Сергия Радонежского знали и почитали.
Как бы там ни было, а в мятежный город святой послушник отправился один и пешком. Идти было далеко, почти двести верст[101], и, казалось, небезопасно: разбойников в лесах и на больших дорогах развелось великое множество. В большинстве своем эти забубённые головушки верили только в кистень, засапожный нож да в удачу, а Бога вспоминали только на лобном месте, перед тем как повенчать жизнь свою разудалую с плахой. Любой другой человек, даже самый ловкий и смелый, в одиночку никогда бы этот путь не прошел. Но святой Сергий Радонежский никогда и не был в одиночестве. От села к селу, от города к городу его сопровождала огромная толпа богомольцев. И даже разбойники, сказывают летописи, выходили из лесов, каялись в грехах и становились праведниками. Хотя в это трудно поверить, если следовать русской пословице: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит!»
 |
Князь Борис Городецкий выехал за стены столицы, чтобы с почетом встретить святого послушника божия, склонил под благословение свою непокорную голову. Но Сергий в благословении ему отказал и сурово, при всем народе, попенял «нечестивцу». Князь гневом вскипел и, птицей взлетев в седло, наметом погнал коня в детинец. Закрыть ворота мятежной столицы перед монахом Борис Константинович был не волен, однако подпевалы его — архиепископ Нижегородско-Суздальский и весь причет[102] духовный, бояре из Городца — не дали Сергию выступить с проповедью ни в одной церкви города. А народ, повинный в изгнании своего законного правителя, хотел услышать слово одобрения собственным праведным деяниям.
Князь Борис за бражным столом от души смеялся над бессилием посланника московского.
— Они меня что, попом-черноризцем испугать вздумали? — говорил он своим собутыльникам. — Лучше б дружину добрую для усмирения пригнали. Ха-ха-ха!
Зря он так говорил. На следующий день вдруг и соборный Спасо-Преображенский храм, и все до единой церкви в Нижнем Новгороде оказались закрытыми: на дверях восковые печати со знаком патриарха Константинопольского! И снять эти печати мог только тот, кто их наложил, то есть Сергий Радонежский...
В то время вся жизнь людская и сама смерть, особенно в городах, вершилась святостью храмов господних. И вдруг они бездействуют! Ребенок родился, а окрестить негде: значит, дите твое — нехристь, одинаково что бесово семя! Умер человек, а похоронить без отпевания нельзя, иначе покойник по ночам вампиром неприкаянным бродить будет и кровь людскую сосать (такое уж понятие обо всем сущем было у наших предков). Снять грех с души, покаяться тоже не перед кем: поп без прихода — считай расстрига[103]! Свадьба без венчания недействительна: раз церковь не освятила этот народный обряд, значит, молодые не муж и жена, а прелюбодеи и дети у них будут незаконнорожденными, байстрюками то есть!
Всякое, даже самое благое деяние христианина без церкви — зло! А если учесть, что у руссов сколько дней в году, столько праздников и поминаний было, то... То уже через неделю небо нижегородцам с овчинку показалось. И все-таки храбрый князь Борис Городецкий продержался еще три дня сверх этой недели...
Теперь те, кто еще недавно слезно молил заступника занять престол Нижегородско-Суз-дальский, колья готовили, чтобы штурмом взять детинец и силой выдворить благодетеля из города. К тому же великокняжескую церковь в детинце Сергий Радонежский не закрыл, а значит, сам Борис Константинович не осквернился в принудительном безбожии. В крепость же никого из простых людей не пускали. Это взъярило народ еще больше.
Когда князь Городецкий с дружиной своей покидал город, вослед ему проклятья гремели.
Так один немощный старец воцарил мир на Руси и распахнул ворота столицы Нижегородско-Суздальской земли перед ее законным хозяином — бесталанным Дмитрием-Фомой.
Теперь понятно, почему, отъезжая в Москву летом 1377 года, Дмитрий Константинович командовать войском на реке Пьяне оставил бездарного сына своего Ивана, а не многоопытного брата Бориса. Боялся!..
На Покров[104] в Нижний Новгород ступила московская тяжеловооруженная дружина воеводы Боброка. Дмитрий Константинович встретил союзных ратников со всем почетом боярским[105]. Воины расположились на посаде в раскинутых заранее шатрах. А Боброк был зван к великокняжескому столу.
После здравицы хозяину, только пригубив вина, неулыбчивый воевода московский заявил твердо:
— Надобно дело вершить. Дозор князя Бориса донес, что Арапша-хан с войском и полоном русским недалеко за рекой Сережей стоит. Не было б беды. Мало там дружины русской.
Дмитрий Константинович поморщился: гонец с теми же вестями и у него был. Но ведь и Москву не забыл уведомить братец Борис! Спросил холодно:
— Когда ж полон выручать будешь?
— Как только Семен Мелик с грамотой от Великого Князя Московского и Владимирского приедет. Скоро, надо думать.
— А пошто он грамотку с тобой не прислал? — съехидничал Дмитрий-Фома.
Боброк не ответил, потребовал обещанное:
— Где кони для дружины моей?
— Седлают. Не бойсь, мое слово крепко.
— Ты поедешь ли к Засечному Броду?
— Нет! Чай, без меня управитесь, — поспешно ответил Дмитрий Константинович уже без всякого ехидства, а в глазах испуг застыл.
— Добро, — насмешливо блеснул черными очами бесстрашный воевода и, прозвенев броней, вышел вон.
Кони для московских ратников уже были оседланы. Боброк попусту ждать не любил, и дружина его, часа не медля, скорой рысью двинулась в поход к пределу Нижегородской земли...
Крепость на берегу реки Сережи открылась в полдень следующих суток. Здесь грозой веяло, дозоры предупредили: татары в двух верстах на той стороне стоят. Река к осени совсем обмелела: курица вброд перейдет и заяц перескочит. Надо быть предельно осторожным. Однако Дмитрия Михайловича Боброка учить — зря время тратить. Он никогда и никому не поддавался на хитрость, сам умел любого подвести под внезапный удар. Собственные воины называли князя Волынского кудесником[106], а татары — кара-мангус, то есть «черный дух».
В пограничной крепости, кроме постоянной дружины из пятисот ратников, расположился полк Бориса Городецкого и оставшиеся в живых, после избиения руссов на реке Пьяне, воины Родиона Осляби с частью нижегородцев. За стенами твердыни было тесно, поэтому для московской рати заранее приготовили укрепление с валом на берегу реки, как раз напротив главного брода на Сереже.
Татары не таились. Днем ездили спокойно по тому берегу и руссов не задирали. Ночью неподалеку были видны многочисленные огни их походных костров.
— Ордынцев тут не более пяти тысяч в голове с самим Арапшей-ханом, — доложил Боброку князь Борис Городецкий. — Остальные его полки в Булгар-граде, в крепости Мукши и в златом граде Гюлистане стоят.
Воевода молча слушал. Борис рассказывал спокойно, но, как ни старался, не смог побороть жгучего любопытства, спросил все же:
— Сколько ж злата-серебра хочешь отвалить Арапше-хану за полон русский?
— Прости, брат, — уклонился от прямого ответа воевода Боброк: сам он этого не знал, а врать не хотел. — То дела Великого Князя Московского и Владимирского Димитрия Иоанновича, а я только слуга ему. У меня никакого злата с собой нету. Видать, Москва с Ордой сама расчет произведет.
Борис Константинович не обиделся, хотя ему не все было ясно в этом деле. Например, зачем тут оказался сам хан татарский — для обмена пленных мог ведь и мурзу какого-нибудь послать. Правда, и полон такой стоил недешево... Одно князь Городецкий знал твердо: его братец Дмитрий-Фома категорически отказался платить за попавших в неволю соотечественников. Да и, похоже, совсем не деньги были нужны свирепому ордынскому военачальнику. Но что же? И Борис предложил:
— Воев у нас нынче много. Давай ночью нападем на поганых и своих силой выручим.
— Ни к чему, — возразил ему подошедший воевода Родион Ослябя. — Где сейчас тот полон, ты ведаешь? Я — нет. Ежели мы нападем на Арапшу, тогда ордынцы всех полонянников русских порубят и уйдут. А через две седмицы тот хан злобный с силой великой нагрянет на земли нижегородские. Прости, князь, но слово твое неправедно.
— Да я так, я ничего... Просто подумалось.
Боброк промолчал.
— Ждать надобно, когда посол московский приедет, — сказал Ослябя. — Тогда все и решится с полоном. И без напрасного кровопролития...
Семен Мелик примчался на взмыленном коне через три дня, к вечеру. Вместе с Боброком они расположились на отдых среди воинов московского боевого стана. Прежде чем уснуть, долго говорили о тайном.
Ночь выдалась на удивление теплой и прошла спокойно. Поутру, едва солнце показалось у края степи, к стану татарскому ускакал Родион Ослябя в сопровождении отрока, который высоко на острие копья нес белый, трепещущий от встречного ветра лоскут полотна...
Дмитрий Михайлович Боброк, князь Борис Константинович Городецкий и Семен Мелик построили дружины на берегу. Вскоре за рекой пыль закрутилась. Прискакали татары и тоже выстроились. Вернулся Родион Ослябя с отроком. Рядом с ним скакал на поджаром вороном коне всадник малого роста в простой одежде кочевого воина. Взор его был суров и властен, горбоносое лицо хмуро, глубокие складки залегли по углам плотно сжатых губ.
«Сам Арапша-хан?! — не поверил и удивился Борис Городецкий. — И не побоялся, надо же!»
— Кто Боброк? — по-татарски спросил Араб-Шах.
Родион Ослябя показал. Хан направил коня к воеводе московскому, остановился, прижал ладонь к груди, остро глянул на русса исподлобья, склонил голову. Дмитрий Михайлович почтительно ответил на приветствие и пригласил потомка Джучи-хана в крепость. Тот, не раздумывая, последовал за русским воеводой. Борис Константинович так и оставался в неведении: что же тут происходит? Он бы, например, немедленно схватил такого знатного заложника и много чего выторговал бы у ордынцев. Удивляло Городецкого князя и то, что татары на той стороне реки ведут себя смирно и, видимо, все происходящее принимают как должное.
А в горнице воеводы крепости Засечный Брод шел тайный разговор:
— Ты принес пайцзу, Боброк-коназ?
— Семен, покажи! — велел воевода.
Тот сунул руку за пазуху, вынул золотую пластину и положил ее на стол перед Араб-Шахом:
— Вот она.
Хан спокойно взял в руки знак царского достоинства в Орде, глянул только и сказал чуть дрогнувшим голосом:
— Да, это моя пайцза! Коназ-баши Димитро — мудрый правитель и честный человек, да хранит его Аллах за правду. Когда я стану Султаном Дешт-и Кыпчака, коназ Мушкафа будет осыпан моими милостями!.. А это тебе, Боброк-бей, от меня. — И хан снял со среднего пальца левой руки массивный золотой перстень с крупным изумрудом.
Воевода принял щедрый дар с подобающей благодарностью и уже хотел было напомнить собеседнику о договоре. Но тот сам предложил:
— Пошли на стену. Пока последний урусский невольник не перейдет на эту сторону реки, я сам буду твоим заложником.
Поднявшись на крепостную стену, Араб-Шах поднял над головой обе руки и резко развел их в стороны. Тотчас татарские полки расступились, и через образовавшийся проход к броду потекла густая толпа ободранных и изнуренных людей. Многие раненые повисли на плечах товарищей. Соотечественники принимали их и тут же вооружали каждого, кто способен был поднять меч или копье...
— Я звал их с собой как воинов, — задумчиво сказал Араб-Шах. — Но все они отказались. Почему? Урусы храбрые и очень стойкие батыры. Зачем же отказываться от счастья видеть чужие страны и народы, быть хозяевами над ними, без тяжелого труда добывать себе пищу и красивую одежду, ласковых и пленительных жен иметь и много рабов для блага своего? Разве не в этом счастье мужчины?
Боброк посмотрел на хана ордынского строго, ответил:
— Каждому свое. Нам чуждые страны не надобны, своей земли вдосталь. А от труда рабского хлеб больно уж горек бывает. От такой еды сила уходит и народ вырождается. Мы искони тут живем, жито растим, храбрых для битвы богатырей рождаем — в том сила и неодолимость наша!
— Нет, мне вас не понять, — буркнул Араб-Шах и замолчал.
Томительно долго текло время. А грозный ордынский полководец стоял на стене и молча глядел вдаль, покамест все невольники не оказались за стеной русских полков. На прощание сказал хан:
— Скоро вы услышите о делах моих. Пусть коназ-баши Димитро ждет послов от султана Высочайшей Орды Араб-Шах-Муззафара Гияс-лид-Дина!
— А Мамай?! — невольно вырвалось у Боброка.
— Он мой эмир. Он будет почтительно и скоро исполнять мои приказы. А если... — Араб-Шах не договорил, черкнул ребром ладони по горлу, усмехнулся зловеще и ступил на лестницу, вниз.
Перед тем как сесть на коня, хан подозвал к себе Семена Мелика, отстегнул от боевого пояса кривой дамасский меч и протянул его руссу со словами:
— Это тебе плата, хитрый Мелик-бей, за то, что ты сохранил для меня пайцзу Джучи-хана. — Засмеялся и добавил: — Если бы тогда, зимой, догнал тебя, плата была бы другой, совсем другой!
Араб-Шах лихо взлетел в седло, пришпорил карабаира и ринулся вброд.
Уже на той стороне он лихо развернулся на пятачке и высоко поднял руку.
— Алла-а, ур-рус! — громом грянули татары, поворотили коней, и через малое время только клубы пыли указывали их стремительный путь в степи.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |