"Великое делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и его собаки Альмы" - читать интересную книгу автора (Полещук Александр Лазаревич)
ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой читатель переносится в XIX столетие. — Новая химия разрушает воздушные замки. — Мистер Эмменс показывает, как превратить серебряный доллар в золотой
Отец закончил чтение рукописи и долго молчал, перебирая пожелтевшие от времени документы. Среди них он отыскал пергамент, покрытый арабскими письменами.
— Неужели это и есть тот самый документ, о котором упоминается в рукописи? — спросил он, задумчиво его рассматривая.
— Если это он, то на обороте должно быть письмо Даниила из Трансиордании, — ответил я.
И мне было страшно: а вдруг там ничего не окажется? Но, когда отец перевернул листок, его оборотная сторона оказалась целиком покрытой латинскими фразами и уже знакомыми мне алхимическими значками. В углу листка была подпись.
Отец быстро встал и, разыскав первый том Британской энциклопедии, развернул его на слове «Автограф». Большие вкладные листы были испещрены подписями выдающихся людей всего мира. И между неровной и запутанной виньеткой Бенджамина Франклина и отрывистыми знаками, начертанными рукой великого Шекспира, стояла подпись, удивительно напоминающая ту, что была на листке пергамента.
— Я так и знал! — сказал отец, сравнивая подписи. — Это Роджер Бэкон! Имя удивительного учителя, о котором рассказывает Одо Меканикус, — Роджер Бэкон. Это человек, с которого естествознание начинало свой новый, опытный период развития. Гений, провидения которого стали ныне явью, а гениальные заблуждения ввергли средневековую науку в водоворот ошибочных представлений… Лишенный учеников и возможности опытной проверки своих гипотез, четырнадцать долгих лет провел он в одиночном заключении. Да, Бэкон пришел к неверным построениям, к ложным теориям. Но он был до конца уверен в их истинности, был уверен, что если произвести опыт по его рецептам, то в магическом философском яйце ртуть и сера, соединившись, превратятся в золото. С великого ученого и великого мученика начало свое развитие современное опытное естествознание, началась современная химия…
На оборотной стороне арабского пергамента была короткая торопливая записка, подписанная мессером Даниилом. Часть ее удалось разобрать:
Роберту Гроссетесту, епископу в Линкольне[18].
Примите, мой высокий друг, этого мальчика… он достаточно смел, чтобы стать ученым… достаточно умел, чтобы быть полезным.
Ниже, уже рукой Бэкона, был помещен «перевод» арабского документа. По манере алхимиков того времени Бэкон не столько перевел содержание пергамента, сколько зашифровал его известными одному ему и его ученикам условными, символическими значками и фигурами.
Отец рассказал мне, что когда папа Климент IV стал получать от Роджера Бэкона описания Великого Делания, то «ученый» монах Ля-Мартиньери, которому была поручена проверка, понимал все символы Бэкона буквально. В одном месте своего исследования Бэкон в целях затемнения смысла упомянул о выделениях человека. Для Ля-Мартиньери этого было достаточно. Властью, данной ему папой, он заставил босоногих монахов своей обители часами молиться на холодном каменном полу церкви, затем они сморкались и плевали в специальный сосуд. «Но напрасно я пытался извлечь из всего этого квинтэссенцию», — писал невежественный монах.
Много вечеров подряд мы пытались проникнуть в тайный смысл записи, сделанной Бэконом, но задача оказалась непосильной даже для моего отца.
— В Париже у меня есть один старинный приятель. Он прекрасный историк, особенно увлекается арабистикой. Мы отправим ему нашу находку. Я уверен, что он разберется…
Отец списался со своим другом господином Рюделем, и мы отправили ему посылку с документами. Но напрасно мы ждали ответного письма. Шли дни за днями, наконец примерно через месяц отец написал письмо своему другому знакомому, господину Леволю, и просил узнать, получил ли его письмо Рюдель.
«Мне очень не хотелось вас беспокоить, — писал отец, — но я ничем не могу объяснить причину молчания Рюделя…»
Леволь ответил тотчас же.
«Адвоката Рюделя в Париже нет, — писал он. — Я разговаривал с привратником, и тот сообщил мне, что господин Рюдель последнее время находился в очень смятенном состоянии духа, ему казалось, что его преследуют, Он не выходил из дома, предварительно не осмотрев улицу сквозь щель в двери. Почувствовав доверие к привратнику, Рюдель оставил ему письмо: «Берегите дом. Я уехал надолго, это единственный способ обрести спокойствие…»
«Всю корреспонденцию я, как всегда, бросаю в его ящик, — сказал привратник. — И, пока я жив, только мосье Рюдель его вскроет…»
Отец был тронут письмом.
— Леволь! Какой это обязательный человек!.. Он сейчас должен быть глубоким стариком, однако у него нашлось и время и желание все подробно разузнать.
— Но что случилось с Рюделем? — спросил я. — И неужели наши документы потеряны?
— Нужно было снять копии, хотя бы просто переписать их… Будем надеяться, что вернется Рюдель и напишет нам подробное письмо. Мне почему-то кажется, что ничего серьезного с ним не произошло. А документы наши представляют собой ценность только для нас, больше ни для кого…
— Но почему-то они были очень дороги нашему предку, иначе он не стал бы прятать их так тщательно. В них что-то есть…
— Я помню, — в раздумье сказал отец, — что твой дед часто говорил мне, что Меканикусы были адептами, то есть владели тайной превращения металлов… Что богатство дома было заложено одним из Меканикусов, погибшим позднее на войне… Поэтому он считал, что все Меканикусы должны посвящать себя поискам секретов Великого Делания. Но среди найденных нами и так глупо утраченных документов нет ничего, что имело бы отношение к алхимии. Даже «перевод»» который сделал Бэкон, не содержит ни одного алхимического знака золота, на нем нет обязательного для таких рукописей символа Великого Делания, так называемого пантакля Сулеймана[19].
— Но, может быть, отец, наши предки действительно владели секретом алхимии? — спросил я.
— О нет, ведь этого секрета вовсе не существует. Это либо заблуждения темного средневековья, либо нарочитый обман. Современная наука…
— Но, может быть, наука ошибается? Разве все известно до конца и нет на свете тайны?
— «Много есть вещей на свете, друг Горацио, которые и не снились нашим мудрецам…»
— А разве Шекспир неправ?
— Прав и… неправ. Есть многие вещи в науке, которые дались такой большой кровью, таким большим трудом, что в них выкристаллизовалась, собралась, овеществилась правда. Есть открытия, сделанные навсегда, навечно. И, если бы не эти открытия гениев науки, Меканикусы и сейчас искали бы Красный камень, или «панацею», а ты помогал бы мне в работе у печи, глупой, старой, милой печи, из-за которой мои руки были всегда в ожогах.
— Отец, ты тоже искал Красный камень? Ведь ты инженер, современный ученый, а у нас сейчас двадцатый век!
— Но я не родился инженером. Представь, Карл, я тоже был мальчиком, потом стал юношей… Видишь ли, Карл, твой дед был еще во власти семейных преданий, легенд, не расставался со старыми книгами, сутками не отходил от колб и реторт. Он и послал меня учиться новой химии. «Иди учись, пойми причину могущества методов химии, — сказал он мне. — Она родилась в недрах средневековой алхимии и сейчас удивляет человечество неисчислимым количеством блестящих и очевидных открытий. Я верю, что, освоив эту новую науку, мы с тобой совершим Великое Делание — цель и задачу алхимии». И я, мой мальчик, вошел в стены университета, как входит лазутчик во вражеский город. Мне казалось, что я услышу новое и важное в привычной форме притч и загадок, зашифрованное неведомыми значками, туманными философскими рассуждениями. Мне не забыть моего удивления первыми же лекциями. Понимающе ухмыляясь, я записывал слова лектора, зарисовывал приборы и ночи напролет стремился разгадать их тайный смысл. Отец торопил меня. «Узнал?» — так начиналось каждое его письмо. «Узнаю!» — отвечал я. Но время шло, загадки множились. Я часами просиживал в библиотеке Сорбонны над рукописями древних авторов, но новая химия имела уже другую форму кодирования. И тогда я решился. Я пришел в университетскую лабораторию и попросил разрешения проделать опыты, о которых слышал на лекции.
Как сейчас, вижу реторту с каменной солью в моей дрожащей от волнения руке. Я внимательно перечел записи и, может быть, помимо своей воли, стал выполнять все так, как и записал. Я всыпал в реторту несколько крупинок двухромовокислого калия и долго держал в руке склянку с серной кислотой. «При вливании серной кислоты, читал я, образуются бурые пары хлористого хромила, похожие на пары брома…» Все, что было связано с хлором, который мой отец считал окислом алхимического таинственного элемента мурия, было окружено для меня покровом загадочности. Но вот я решился, и, когда со дна колбы поднялись резко пахнущие бурые пары, я уронил реторту… Это была первая и последняя случайно разбитая мной реторта. «Так, значит, не нужно никакого ключа, так, значит, химия смело раскрывает перед всем миром свои секреты! Как же я был глуп!» Я покраснел, вспомнив загадочные и насмешливые замечания, которыми я осаживал своих товарищей. Ведь я не верил, не мог верить в необыкновенную простоту и доступность химического знания. Теперь я с головой ушел в учебу. И не было для меня преград!
Бездумное, с туманной целью, бесконечное Великое Делание, опорой в котором были только хитроумные рассуждения «герметических философов», как называли себя алхимики в честь мифического Гермеса, уступило место простоте и ясности. Неведомые дали, в которых должна была начаться трансмутация металлов, превратились в технические задачи, решения которых ждали ремесленники и инженеры, художники и ткачи, мыловары и кожевники… Как я бывал счастлив, когда снова и снова убеждался в могуществе современной химии! С этого момента я буквально не покидал лабораторию. Как-то в Париж приехал мой отец. Я рассказал ему все, умолял простить мое недоверие, мою измену завещанию предков.
Это был трудный разговор, ведь речь шла о целой жизни, о жизни отца, отданной впустую. Но отец нашел в себе силы понять меня.
«Пусть так, — сказал он, — я верю в тебя… Ты можешь быть ученым, твое детство прошло в лаборатории, среди смешных теперь для тебя опытов. Помни только о тех, кто своим трудом расчистил дорогу новым наукам… Как много было потрачено человеческих сил, как много людей истратили свое имущество и подорвали здоровье из-за любви к знанию!..»
Не было среди моих товарищей студента прилежнее меня. Уходил я последним, приходил первым. Помню, как, приглашенный на рождественскую вечеринку, я шел по холодному, но еще бесснежному Парижу с учебником химии под мышкой. Товарищи встретили меня дружным смехом, а один из них, уже кончавший курс факультета, вырвал у меня книжку и выбросил в окно.
— Юстус, — сказал он мне, — я люблю тебя, но не будь одурелым болваном. Истину можно найти не только в реторте, но и на дне бутылки доброго вина, не только в учебниках, но в компании добрых друзей! Забудь на сегодня, если сможешь, обо всех атомах, молекулах, реакциях и прочей премудрости, которой нам пичкают головы.
Когда я после окончания университета остался еще на несколько лет для подготовки к профессорскому званию, произошел случай, после которого всякая мысль о возможности Великого Делания оставила меня. Ведь, сознаюсь тебе, я нет-нет, да. иногда, сам посмеиваясь над собой, переводил четкий язык научных формул в символику алхимии. Или, что было чаще, вспоминая отдельные этапы алхимических действий, переводил их на язык современной химии. Иногда это приводило к удивительным результатам. Оказывается, некоторые реакции современной химии были давным-давно известны древним алхимикам, но понимались ими совершенно превратно, толковались в духе их главной идеи, как ступень к трансмутации металлов. Но что всегда вызывало во мне почтительность к достижениям алхимиков и чувство благодарности к моему отцу, с детства приучившего меня к наблюдениям и опытам, — это обилие очень тонко и верно подсмотренных свойств многих простых веществ.
Как-то вечером я собирался уже покинуть лабораторию и перемывал посуду, загрязненную после дневной работы, как вдруг дверь отворилась и вошел мой приятель, а до известной степени и учитель, так как он руководил нашей группой при изучении некоторых деликатных химических операций, связанных с установлением полноценности драгоценных металлов и обнаружения подделок. Его звали Леволь. Служил он в то время на Монетном дворе в качестве эксперта-химика.
— Юстус Амедео Меканикус, — сказал он, пожимая мою еще влажную руку, — как вы относитесь к алхимикам?
Я растерялся. О том, что я происхожу из семьи алхимиков, никто в Париже не знал, и я никому об этом не говорил.
— Но почему вы задаете этот вопрос мне? — спросил я.
— Да больше некому. Нужно поймать за руку одного шарлатана, выдающего себя за нового алхимика. Позор! Двадцатый век на носу, а нас угощают средневековым мракобесием, поставленным на современную ногу! Ну как, идет? Ты согласен?
Я улыбнулся, подумав о том, как сложилась бы моя судьба, если бы я остался в Динане и, подобно моим дедам и прадедам, корпел у старого атанора. И вдруг вспомнил, что совсем недавно что-то читал о новой вспышке алхимического психоза в Европе.
— А когда вы думаете этим заняться?
— Ты согласен, Юстус?.. Чудесно! Я буду ждать тебя завтра, в семь вечера. Мы встретимся в моей домашней лаборатории, что у Трокадеро. Да ты там был…
Утром я отправился в книжную лавку и, мучительно вспоминая, где я мог видеть интересную. критическую статью об алхимии, перебрал кипу журналов за последние годы и неожиданно вспомнил: статья была на русском языке, в журнале за этот год. Я разыскал и приобрел этот журнал. Не без труда перевел статью, она поразила меня логикой и глубиной подхода.
…Вечер был тихий и теплый. Я нанял фиакр. У Иенского моста расплатился с кучером и пешком отправился к Трокадеро. Противоречивые мысли толпились в моей голове. Я не мог не сочувствовать честному заблуждению, так как слишком хорошо испытал его на самом себе, но я не мог не видеть плачевного конца ложных учений. Как бы там ни было, но я шел к Леволю без большого воодушевления. Леволь встретил меня очень радушно. Я немного запоздал, однако в его домашней лаборатории никого не было.
— Юстус, — сказал Леволь, — мы должны выработать план действий. Сейчас сюда явятся мои алхимики, я пригласил их для создания благоприятной атмосферы…
— Алхимики? — удивился я. — Да откуда они взялись?
— Ах, дорогой Юстус, ты прямо наивен! Неужели ты думаешь, что в наш век золота — да, да, я не оговорился, не пара или электричества, а именно золота — обойдешься без алхимиков? Разве сейчас есть что-нибудь, что не продавалось и не покупалось бы?! Газеты, совесть, министры, лошади, даже мы, ученые, — все имеет свою цену на гнусной вселенской бирже. Как тут не найтись беднягам, которые своим помутившимся рассудком хотят попытаться проникнуть в тайну превращения металлов!
— Но, Леволь, откуда вы их знаете?
— А я некоторым из них симпатизирую… Да, да, есть среди них фанатично, преданные идее люди, аскетического образа жизни. Их иногда по-человечески жалко, а ко мне они тянутся по той простой причине, что я, как-никак, а пробирер, эксперт Монетного двора. Их чуткие к благородным металлам ноздри угадывают во мне человека, хорошо разбирающегося в настоящем золоте. Да ты их сегодня увидишь… Не пугайся только, Юстус. Я понимаю, что алхимик, живой алхимик тысяча восемьсот девяносто восьмого года должен казаться ископаемым чудовищем, сродни тем, что открыл Кювье. Приглядись к ним поближе, и они все окажутся просто бедняками, одержимыми, потерявшими разум… А вот в девять часов здесь появится птица высокого полета. О нет, не думаю, что это большой ученый, скорее — крупный международный аферист. Он пользуется тем, что наши политические и финансовые деятели могут часами рассуждать о последних событиях театра, о лошадях и женщинах, но их конкретные познания о свойствах вещества сводятся к рассуждению о том, какое вино слаще и чей жокей больше весит… Я никогда не стал бы устраивать сегодняшнее заседание, если бы это не касалось, будем говорить откровенно, Юстус, моего служебного положения. Я не ожидаю наследства и, лишенный должности, должен буду… Ну, ты понимаешь? Этот американец…
— Неужели Стефан Эмменс[20] в Париже?
— Откуда ты знаешь?
— Не нужно продолжать! Вот вам моя рука, Леволь! И я сделаю все, что в моих силах, чтобы эта гадина спряталась в ту нору, откуда она вылезла…
Я помог Леволю вытащить на середину тяжелый лабораторный стол, проверил газовые горелки, расставил несложную химическую утварь, сверяясь со списком, под которым стояла подпись Эмменса. Мы быстро закончили подготовку. И я отошел в дальний угол, где широкая ширма из зеленой непрозрачной материи закрывала дверь в жилые комнаты Леволя, и присел на низенькой тахте.
Пробило девять, и вместе с ударами часов в комнату шли какие-то необыкновенные существа. Их было пять или шесть человек. И я, привыкший к виду добропорядочных фламандских алхимиков, которые днем аптекари, торговцы или землевладельцы и только ночью одержимые искатели, был по-настоящему поражен.
— Леволь, — тихо спросил я хозяина дома, — Леволь, почему вы их пригласили?
— Иначе было нельзя, Юстус. Перед нами Эмменс не раскроется. За десять километров от нас, ученых, несет скепсисом, неверием. А эти мои гости создадут нужный фон, что ли.
Эмменс запаздывал.
Леволь подсел ко мне:
— Понимаешь, Юстус, у меня очень сложное положение. В четверг меня вызвал директор Монетного двора и потребовал освидетельствовать несколько небольших слитков золота.
«Они получены искусственно, из мексиканского серебра, — сказал директор. — Франция должна быть в курсе современной науки…»
Я нашел, что золото настоящее, без особых примесей, а судя по блеску — калифорнийского месторождения.
«Так золото все-таки настоящее? — оживился директор. — Это несколько неожиданно…»
«Но современная химия отрицает возможность превращения металлов», — ответил я директору.
«Современная химия»! — иронически произнес директор. — А слитки-то настоящие! Меня не интересует теория, не интересует химия как наука. Передо мной слитки настоящего золота. Вы сами это утверждаете. А следовательно, вам придется заинтересоваться их происхождением, вернее — способом их производства. И если в дальнейшем выяснится, что американцы и в этом вопросе обогнали науку Старого Света, то нашей химии придется поработать».
Я твердо заявил директору, что вся эта история — сплошное надувательство. Какой-то продувной мошенник хочет выкачать денежки, ловит простачков на позолоченный крючок.
«Ну, знаете ли, не стоит так спорить, — с видимым неудовольствием сказал директор. — Для меня признаком истины является положение дел на бирже. А золотой курс после первых же сообщений из Америки об организации синдиката Аргентаурум испытал некоторые колебания. Поэтому я склонен верить… А если так, то вы обязаны размышлять и думать…»
Что было делать, Юстус? — закончил Леволь свой рассказ. — Я было намекнул господину директору, что биржа не может считаться чутким инструментом в познании истины, что этот американский мистер Эмменс, по всем данным, смахивает на вульгарного афериста. И ты бы посмотрел, как рассердился мой шеф.
«Что?! — закричал он. — Да знаете ли вы, сударь, что министры считают Стефана Эмменса вне подозрений, а вы позволяете себе!..»
Кстати, почему задерживается этот «гений» Эмменс?..
В этот момент в комнату медленно вошел человек небольшого роста. Его длинные прямые волосы были зачесаны назад, большие роговые очки резко выделялись на невыразительном лице. Узкая и редкая козлиная бороденка вызывающе вздергивалась. Я мысленно снял с его головы длинные волосы, бороду, очки… Жалкое лицо плута, с косящими глазами, лишенное значительности, лишенное мысли. Однако он был одет как джентльмен, только из кармана жилетки сверкающей струйкой выбегала слишком массивная золотая цепь.
Он покровительственно поздоровался с Леволем.
— Мой друг Юстус, — представил меня Леволь. Сзади меня, там, где стояла зеленая ширма, раздалось какое-то шуршание, но Леволь увлек меня к столу.
— Юстус — неплохой химик и будет вам ассистировать, — сказал он Эмменсу.
Тот благожелательно кивнул.
Подобно теням, из углов выступили приглашенные Леволем алхимики. Не сводя глаз с Эмменса, они несмело приблизились к столу. Я смог рассмотреть их подробнее. Высокие и низкие, седые как лунь или плешивые, одетые в какие-то немыслимые черные плащи или черные сюртуки, по-видимому одолженные к случаю, — все они были неуловимо похожи друг на друга. Одни проводили дни в пыли библиотек за изучением старинных рукописей; другие, не зная сна, изучали положение планет, стремясь проникнуть в тайную связь между их перемещениями и свойствами металлов. Но и те и другие слышали насмешки чаще, чем звон денег; гордость и унижения врезались в их лица глубокой сетью морщин, окрашенных сажей печей, обожженных брызгами кислот.
Леволь был прав. Эмменс оживился, завидя наших алхимиков и почувствовав, что в этой аудитории он желанный гость. Он торопливо смешал растворы, бросив мне несколько приказаний на ломаном французском языке.
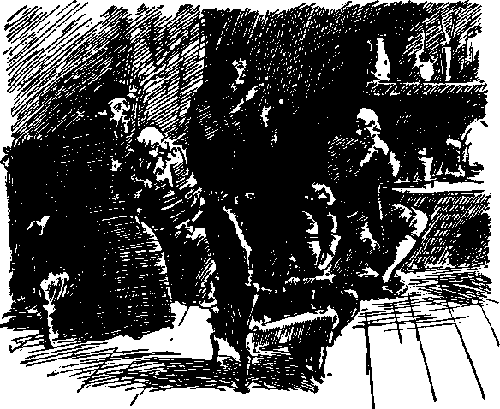 |
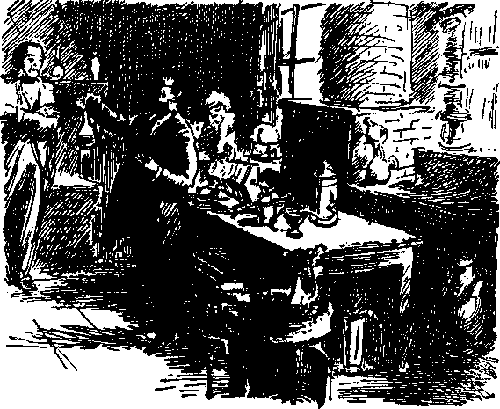 |
— Господа, — обратился он к нам, — господа! Век безраздельного господства официальной химии окончился! Повергнутая, осмеянная, распятая на кресте материализма алхимия возрождена! Я расскажу в нескольких словах о своих исканиях, продемонстрирую некоторые опыты и удалюсь, уверенный, что посеял семена истины. Я ни в чем не заинтересован, я не нуждаюсь ни в последователях, ни в учениках. Дело сделано, господа! Синдикат, в который я вхожу, независим и могуч. Аргентаурум — его название. Мне не стоит его переводить. По-латыни аргентум — серебро, аурум — золото. Я не хочу и не могу кого-либо обманывать. Да, сегодня я еще не могу говорить о превращении меди в золото или свинца в серебро. До этого синдикат еще не дошел. Но превращение полублагородного серебра в благородное золото — задача вполне решенная! Америка, господа, Новый Свет!.. Потоком к вам приходят ежегодно тысячи изумительных изобретений. Не стоит говорить о таких именах, как Томас Альва Эдисон[21], как мой друг Керн Ли[22], не стоит! Самые молодые в мире, лишенные ложных авторитетов научные силы Американского континента, подвергнув тщательному анализу все, что пришло из Европы, подошли совершенно практически и к гипотезам алхимии. Для меня, Стефана Эмменса, было совершенно ясно, что один из самых тяжелых металлов на земле — золото — легко может быть получено соединенным действием сжимания и… я предвижу ваше удивление, господа… очень низкой температуры. Вы легко сможете проделать следующий опыт: возьмите мексиканский доллар, поместите его в прибор, препятствующий его расширению, и продолжительно действуйте быстрыми и сильными ударами, быстрыми и сильными… — Эмменс показал, какими именно ударами следует действовать на мексиканский доллар. — Но так — внимание господа! — но так, чтобы при этих ударах не могло происходить повышения температуры, даже моментального! В этом весь секрет, предупреждаю… Ведите операцию долго, и после некоторого времени вы найдете более чем простые следы золота, более чем простые! Перехожу к способу промышленного превращения мексиканского серебра в золото. Я прошу вас ознакомиться со следующим документом… — Эмменс полез в карман, извлек плотный бумажник крокодиловой кожи и вынул из него сложенный вчетверо лист. — Мистер Леволь, попрошу вас засвидетельствовать истинность этого документа. Вы, насколько мне известно, служащий Монетного двора Французской республики и, вероятно, не раз видели на денежных документах эти подписи.
— Документ действительный, — сказал Леволь и едва заметно вздохнул. — Мне известны подписи чиновников Нью-йоркского монетного двора.
— В этом я не сомневался, — с улыбкой объявил Эмменс, — не сомневался, господа! Документ свидетельствует, что в марте тысяча восемьсот девяносто седьмого года мною, Стефаном Эмменсом, были получены мексиканские серебряные доллары в Нью-йоркском банке, а уже в апреле я сдал в банк три золотых слитка, полученных из этих серебряных монет, следующего веса: первый слиток в 7,04 унции, второй — 9,61 унции и третий — 10,96 унции, на общую стоимость в 257 долларов и 61 цент!
— Адепт! — хрипло сказал один из алхимиков. — Он адепт!
Восхищенный шепот пробежал по группе наших гостей. Каждый из них пожал руку Стефану Эмменсу, глаза их горели, один из алхимиков бросился в кресло, на котором я сидел до прихода Эмменса, и закрыл своей исхудалой рукой лицо.
Эмменс был очень доволен произведенным впечатлением.
— Да, господа, прошу внимания, — продолжал он. — Сейчас я на ваших глазах осуществлю превращение серебра в золото.
Несколько часов длилась таинственная операция. Я подавал Эмменсу растворы, фильтровал, взвешивал. Должен сказать, что он задал мне работы! И самое неприятное, что все стадии его опыта оказались совершенно обычными и современными химическими операциями. Иногда он что-то делал, отвернувшись от гостей, но по лицам алхимиков было видно, что они вполне разделяют такой порядок изложения секретов Великого Делания. Ведь все из них знали завет средневекового алхимика Николаса Фламеля[23], запрещающий алхимику откровенно описывать Великое Делание. «Бог карает мгновенной смертью алхимика, который раскрывает все…» Наконец операция была закончена. На дне пробирки собирались красновато-желтые хлопья, по виду действительно напоминающие золото. Влага испарилась, и Эмменс показал всем золотистый осадок. У меня нет слов, чтобы описать то, что творилось в аудитории. Когда же восторги смолкли, Леволь взял из рук Эмменса колбу с алхимическим золотом, тот выпустил ее нехотя, и протянул колбу мне. Я влил в колбу немного азотной кислоты. Реакция пошла сразу.
— Серебро! — сказал я уверенно.
— Да, — охотно согласился Эмменс, — но в значительной степени превратившееся в золото. Теперь несколько уверенных ударов в станке, о котором я вам говорил, но я его, естественно, не мог захватить с собой — он представляет фирменный секрет, господа!.. Итак, несколько ударов…
— Ударов, при которых серебро не нагревается? — спросил я.
— Совершенно верно!
— Но таких ударов не может быть! Нет таких ударов! — не выдержал Леволь. — Энергия удара обязательно переходит в тепло!
— Простите… — Стефан Эмменс снял очки, старательно их протер. (В этот момент его лицо было наглым, но, я не ошибся, глаза его косили, зрачки дрожали.) — Простите, но я…
— Нет, нет, мистер Эмменс, мы внимательно ознакомились со всем, что вы нам любезно показали, — сказал я. — Но… но упоминание такого замечательного исследователя свойств серебра, как Кери Ли, вряд ли было оправданным. Ведь то, что вы нам показали, было самое настоящее серебро…
— Цвета золота! — вставил Эмменс.
— Да, цвета золота, но оно по химическому составу представляет собой серебро, полученное по методу Кери Ли. Только Кери Ли никогда не пытался его выдавать за золото. Это интересный опыт, очень интересный, но мы знаем о нем. Серебро может давать аллотропические видоизменения, как фосфор или сера. Сера, кристаллизующаяся в виде ромбов, и сера моноклиническая — это все-таки сера! Почти каждый элемент может давать различные формы, может находиться в различных состояниях, оставаясь тем же элементом, мистер Эмменс. Так же как вода в виде льда или пара — это вода и только…
— …как ее ни колоти быстрыми и сильными ударами! — опять вставил Леволь.
Он поднял колбу с «золотом» Эмменса и показал всем присутствующим: осадок исчез, растворился в азотной кислоте.
— Обманщик! — громко сказал один из алхимиков. — Из-за таких, как он, нас всех считают обманщиками, нас, честных герметических философов и алхимиков!
Эмменс повернулся спиной к нам, его движения стали вновь уверенными и бодрыми, он, что-то насвистывая, мыл руки возле раковины.
— Джентльмены, — обратился он к нам, вытирая руки, — все, что случилось сегодня, ни в коем случае не угрожает жизнеспособности синдиката. На нашей стороне великолепные ученые, огромнейшие авторитеты. Естественно, что я — только один из членов синдиката — не имел полномочий раскрывать наш секрет превращения серебра в золото. Было бы удивительно, если бы я действительно приоткрыл завесу над тайнами тайн, завесу, которую еще никто до меня не смог поднять. Вы оказались более знающими, господин Леволь, чем я думал, ну что ж, это не помешает вашему Французскому банку прогореть в тот день, когда золото синдиката Аргентаурум, золото Стефана Эмменса, дешевое и звонкое, станет доступнее булыжника с мостовой! Вы верите наглым выдумкам Рентгена[24], который якобы открыл всепроникающие невидимые лучи, или безграмотному бреду Стретта, лорда Рэлея[25], который совместно с Рамзаем[26] открыл какой-то там аргон в обычном воздухе, а мне…
— А вам — нет! — сказал Леволь.
— Так! Да будет вам известно, что сам Менделеев… кажется, его авторитет после открытия периодической системы для вас закон… сам Менделеев ждет от науки о взаимных превращениях металлов решения загадки периодической законности элементов!
— Мне кажется, что не в ваших интересах упоминать имя великого ученого, — сказал я. — Дмитрий Менделеев смеется над вашей попыткой доказывать возможность превращения элементов продажей золотых слитков, которые неизвестно откуда взялись! Вот что он пишет, мистер Эмменс, послушайте, — и я раскрыл журнал и прочел, медленно переводя с русского: — «…то, что опубликовал Эмменс, страдает в четырех отношениях, оно повторяет старое сомнение, секретничает, явно отвечает гешефту и страдает с опытной стороны… Толкования тонут в массе старых бредней, доказательства неубедительны, а секрет и гешефт очевидны…»
Наступило молчание.
— Это написал сам Менделеев? — осторожно спросил Эмменс.
— Можете убедиться. — Я протянул Эмменсу журнал.
— Ах, так это на русском языке! — обрадовано воскликнул он. — Да его никто не знает!
— После открытия Менделеевым периодического закона русский язык — язык химиков, — ответил я.
— Но я вообще не уверен, что вы сами знаете русский язык!.. — отпарировал Эмменс. — Это мне напоминает известное положение, господа, сложившееся в средние века, когда некоторые алхимики публиковали свои собственные исследования как переводы, показывая невежественному издателю какую-нибудь древнюю еврейскую или греческую рукопись… Это обман! Прощайте, мои коллеги, прощайте! — бросил он на ходу алхимикам.
Эмменс накинул сюртук и быстро вышел. Совершенно неожиданно на меня с Леволем набросились наши бедняги алхимики. Все происходящее заставило их переживать гораздо сильнее, чем думал Леволь.
— Так вы считаете, что этот обманщик, выдававший себя за адепта, позорит нашу науку?
— Великое Делание возможно!
— О, утраченные рукописи древних, если бы они заговорили!..
— Да, да, все дело в утраченных рукописях… Господа, я верю, что в письме Изиды к сыну Гору…[27]
— Совершенно верно! И Планискампи и Филалец упоминают о нем!
— Сколько веков смеются над нами!..
— Спокойно! — обратился к разбушевавшимся алхимикам Леволь. — Мой друг Юстус, насколько я сегодня понял, гораздо лучше знает алхимию, чем обычные химики. Он ответит вам, господа. И пусть сегодня торжествует химия, но завтра, если на то будет желание судьбы, алхимия… Не нужно так волноваться!..
— Да что знает этот желторотый! — хрипло крикнул один из алхимиков. — Этот птенец! Если бы он сам мог читать…
— Я. читал письмо Изиды… — сказал я, — и, скажу по совести, мне было грустно разбивать последние надежды этих фанатических стариков.
— Он читал письмо Изиды к сыну Гору!. — закричали алхимики. — Слушайте, слушайте!
— Да, письмо Изиды! — повторил я.
И наступила неожиданная и глубокая тишина.
— Но это письмо было в библиотеке одного духовного лица, — тихо заметил один из алхимиков.
— Да, — подтвердил я, — оно хранилось в библиотеке Маврикия Ле-Телье, архиепископа Реймского…
— Пока солдаты Испании не разграбили библиотеку и не похитили рукопись…
— И все-таки я читал ее, эту рукопись, — повторил я.
— Так о чем там? Там раскрыт секрет Великого Делания?
— Да и нет!
— Говорите! Скорее! Это последняя наша надежда!
— Ну что ж, там говорится, как делать золото…
— Золото!.. — пронесся шепот.
— Да, золото, но этот секрет хорош для египетских богинь, а не для нас, простых смертных. Богиня Изида рассказывает сыну Гору, как она требовала у Амнаила, обитателя первого неба, раскрыть тайну превращения серебра в золото… Перед раскрытием тайны Амнаил заставил Изиду произнести страшную клятву в том, что, кроме возлюбленного сына, она никому ее не откроет, и объявил: как от человека рождается человек, от льва — лев, от пса — пес, так от золота…
— Ну!!! — одной грудью выдохнули алхимики.
— …так от золота рождается золото! Вот и вся тайна богини Изиды!
— Не верю! — громко сказал один из алхимиков и, скрестив руки на груди, вышел вперед. — Откуда ты знаешь сокровенные документы алхимии? Откуда ты? Кто ты такой?
— Юстус Амедео Меканикус, — сказал я, немного робея.
— Меканикус?! — раздались голоса. — Потомок великих адептов?
— Ты из нашей породы! И ты изменил?
— Он сам доказывает, что письмо Изиды подложное! — хрипло сказал один из алхимиков. — Смотрите на него, потомка славных алхимиков, адептов, владевших Красным камнем. Он говорил нам, что лев рождает льва, что пес — пса, а сам он — пес, завершивший поколения львов!.. Идемте отсюда!
Алхимики завернулись в рваные плащи и нестройной группой вышли из лаборатории.
— Я не знал, — сказал мне Леволь, — что ты имеешь отношение к алхимии… Но что это за журнал, который придал тебе столько сил?
— Это? «Журнал журналов».
— «Журнал журналов»? Брось шутить! Нет такого названия.
— Я не шучу, это русский журнал. Он так и называется «Журнал журналов и Энциклопедическое обозрение». В нем я нашел статью об Эмменсе.
— Позволь-ка мне этот журнал! Я верну его…
Леволь подошел к зеленой ширме и отодвинул ее к стене. В глубоком простенке, скрытом ширмой, за маленьким столиком сидел писец в чиновничьем мундире. Когда я подошел, он торопливо собирал листки, испещренные стенографическими значками.
— Вам все удалось записать? — спросил стенографиста Леволь.
— Да, все, — ответил тот.
— Присоедините к делу Эмменса этот журнал и распорядитесь, чтобы был приготовлен перевод вот этой статьи господина Менделеева…
Чиновник раскланялся и вышел в ту дверь, которую прикрывала ширма.
Больше мне не пришлось сталкиваться с алхимией.
— Отец, но зачем Эмменсу понадобилось обманывать, ведь он не мог делать золото из серебра?
— Интересы биржи… — сказал отец. — Бизнес, гешефт… Эмменс был марионеткой в чьих-то опытных руках. Каким-то крупным финансистам было важно временно обесценить золото, вызвать на бирже панику, воспользоваться этим и скупить золото по дешевке. Это и было достигнуто…
На этом листки из термоса, притащенного Альмой, окончились. Легко представить, с каким нетерпением я и Клименко ждали выздоровления Альмы. Вскоре она поправилась, стала понемногу ходить по комнате. Наконец, терпение Клименко лопнуло, и он стал задавать ей вопросы по заранее приготовленному листку «допроса». Вопросы задавались с таким расчетом, чтобы Альма кивком головы могла отвечать либо «да», либо «нет». Но уже с первым вопросом Клименко потерпел поражение. Он пытался узнать, у кого был термос. Какие только он не называл имена и профессии! Альма терпеливо качала головой: «нет», «нет», «нет»… Но зато, когда Клименко сказал Альме, что листки, принесенные в термосе, не все, что их мало, она как будто сразу поняла, в чем дело, и бросилась к забору. Клименко догнал ее и уговорил обождать день-два.
К неудовольствию Альмы, в одно прекрасное утро мы накинули на ее шею нормальный ошейник, и Клименко, держа ее на длинном поводке, пошел впереди. Я старался не отставать.
Альма вывела нас за город. И только тогда, когда мы миновали станционные пути, я понял, куда она нас вела. Вдали показался забор из карликовых акаций, переплетенных колючей проволокой, а за ним беленькая хатка собачника.
— Теперь понятно, почему она не смогла указать профессию того, кто избил ее, — сказал Клименко. — Здесь, вероятно, и живет тот самый собачник, у которого вы ее выкупили?
Я не успел ответить. Из двери хатки вышел высокий мужчина с охотничьим ружьем в руках. Это был уже знакомый мне собачник. Альма неожиданно дернулась с такой силой, что Клименко чуть не упал. К счастью, он не выпустил поводка.
Это спасло Альму. Прямо перед нами взрыхлилась от выстрела земля.
— Ни с места! — раздался голос собачника. — Застрелю! Чтобы и близко ко мне с этой собакой не подходили!
Клименко подтянул к себе Альму, отстегнул ремешок и сказал:
— Беги домой, Альма! Только домой!
Альма медленно побрела к городу. Временами она останавливалась и рычала в сторону собачника, но Клименко кричал ей:
— Домой, Альма, домой!
И она поворачивала к городу. Вскоре она скрылась из виду. Мы подошли к собачнику. Ружье он не опустил.
— Так это вы на меня собаку натравливали? — спросил он меня. — Что я, не человек, по-вашему? Мне эта сволочь все руки искусала. Нет такого закона, чтобы на рабочего человека собак науськивать!
— Я следователь — Клименко показал свое удостоверение. — Пройдемте в дом.
Мы вошли в хату.
— Попрошу вас поподробнее рассказать об этой собаке, — сказал Клименко.
— Ну, что я? Я специалист, можно сказать, по собакам, но чтобы я, товарищ следователь, когда кого обижал или что? Вот вам гражданин этот, — собачник указал на меня, — пусть скажет. Чтобы я когда хозяину собаку не отдал, да никогда! Вон и собаку вашу я отпустил…
— А где вы ее поймали, не помните? — спросил Клименко.
— Где?.. Нет, не припомню. Я, товарищ следователь, в какой день их по двадцать штук ловлю. Разве припомнишь!.. Утром ее встретил, это точно, того самого дня, как ко мне этот товарищ за ней пришел. Бежала она по улице и что-то в зубах несла, а волкодав мой… Есть у меня пес ученый, Марс по прозвищу. Ну до чего же умная животная, товарищ следователь, понятливая и спокойная! Поймает приблудную собаку, к земле прижмет. А я с инструментом — раз… и в клетку. А тут как завидел он эту самую собаку, как соскочит с телеги — и к ней! Она было с ним сцепилась, да увидела меня — и ходу, а штуку там одну на землю бросила. Я за ней, Марс спереди забежал, и…
— А что за штуку она несла?
— Да так, бутылка кожаная…
— Эта? — Клименко раскрыл свой чемоданчик и вынул корпус термоса.
— Эта! — подтвердил собачник. — У меня вон из-за нее все руки до сих пор покусаны… Еду это я, значит, по Привокзальной улице, а Марс мой вдруг как зарычит. Смотрю, стоит возле больницы эта самая ваша собака. Вы меня, товарищи, извините, но я как специалист могу сказать, что собаки очень разные бывают. А тут, как глянул я на нее, рука не поднялась. Не сводит она глаз с больничной двери. На меня взглянула — с места не двинулась. А ведь меня все собаки знают! Только уж какая дура, что случайно в город попала, дорогу мне перебежит. А так все знают… прячутся… Или им знак какой псы подают, что у меня с утра пойманы, или инстинкт какой… Ну, а ваша-то собачка сама у меня была. Должна была бы помнить! Взглянула она на меня — и опять отвернулась. «Бери ее! Бери, не жалей!» — думаю, а сам не могу. Можно сказать, первый раз в жизни не взял. Вижу — у нее горе: не по себе горюет, раз меня не боится. Больше себя у нее горе! Не взял!.. Так вместо благодарности забегает она, дней десять назад, ко мне в дом, прямо в хату! Я лежал это после обеда, отдыхал. Вбегает — прямо к столу. Хвать вашу-то бутылку за ремешок! Ну, я ее кочергой! Мы тут такой бой устроили, что всё кувырком. За руку пару раз рванула. Я за верхушку термоса схватился, а она как дернет — и из хаты. Надо мне было дверь первым долгом закрыть… И убежала. Больше я ее не видел.
— Давайте подробнее про термос.
— Ну, когда он распался, то колба, маленькая такая, в руках у меня осталась. А из корпуса бумага белая так и посыпалась. А собачка ваша за ремешок — и тягу…
— А бумаги где? Листки эти?
— Бумаги?.. Да они не по-нашему написаны, товарищ следователь. Не по-нашему, я их и так поворачивал, и этак. Буквы и те не наши. Должно быть, для тепла ее, эту бумагу, в термос засунули…
— И вы выбросили эти листки?!
— Выбросил, ага. Ну, думаю, попадись ты мне еще раз! Хоть месячишку, мечтал, без уколов от бешенства похожу, так нет…
— А куда вы их выбросили? Листки эти?
— Да за хатой, в яму…
Нет, не все листки были «за хатой в яме», не все! Ветер разбросал их по полю, и мы долго ходили и собирали их. Да, это было продолжение записей. Но то, что мы уже знали и что, казалось бы, никакого отношения не имело к случаю на дороге, приобрело неожиданный и удивительный смысл.
Вот продолжение записок Карла Меканикуса.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |