"За Великой стеной" - читать интересную книгу автора (Демиденко Михаил Иванович)
ЗА ВЕЛИКОЙ СТЕНОЙ ПОВЕСТЬ
В начале пятидесятых годов я работал заправщиком самолетов Свердловского аэропорта в должности техника службы ГСМ[6]. Мне было двадцать лет. Сел самолет, подрулил на стоянку, приставили лестницу, сняли почту, выпустили пассажиров прогуляться до буфета, я в это время подкатил на бензозаправщике, развернулся, заехал под плоскость. Механики проверяют давление в шасси, я заправляю баки горючим, глазею на пассажиров, затем требую у бортмеханика расписаться в ведомости и жму назад к емкостям за новой порцией бензина
В общем, работа не то чтобы «ух», но и не пыльная, только аромат от меня шел такой, что прохожие на улицах тушили папиросы. Но я лично не замечал запаха бензина. Спросите у любого кавалериста, чувствует ли он запах лошадиного пота. Нет, не чувствует, потому что привык. Зато в абсолютной темноте на слух определит, что жуют лошади.
Скажу откровенно: я влюблен в авиацию. Остряки говорят: порядок в авиации вывалился из кармана летчика Нестерова, когда он делал первую «мертвую петлю». Или еще: на рекламах, мол, огромными буквами пишут: «Дешево», «Удобно» — и маленькими: «Быстро». Не надо путать, что было и что есть. Было, конечно, и такое, когда по трассам ходили винтомоторные «еропланы».
Но когда на трассы вышли Илы и Ту, дело значительно улучшилось. Рейсы минута в минуту, почти без отклонений. Бывают исключения, и счетно-вычислительная машина перегорает, но я говорю про правила, а не про исключения.
Реактивные лайнеры — гениальное изобретение. Техникам зимой не надо разогревать двигатели; а ведь раньше с «примусом» намучаешься, прямо готов от злости обглодать самолет. Теперь не работа — удовольствие. Подогнал стартовую тележку, подключил, нажал кнопку... «Ши-ши-ши...» И загудели двигатели. Но самое главное — скорость: от Москвы до Владивостока девять часов лета. Фантастика! Получилось так, что одновременно с этими самолетами появились первые спутники, взлетели космонавты, ну и это как-то авиацию несколько отодвинуло, не так она сенсационна по сравнению с достижениями ракетной техники. А я лично и по сей день не могу сдержать восхищения при виде воздушных кораблей. Они громадны и в то же время грациозны, строгие линии, ничего лишнего, чувствуется сила и мощь.
Пассажиры — те быстренько освоились с новой техникой. Если вам придется когда-нибудь лететь через всю Россию, обратите внимание: люди отлично знают, на какой борт следует брать билеты. Если от Москвы, то на левый борт, из Владивостока — на правый. Почему? Пассажир учитывает местоположение солнца. Чтобы можно было подремать в теневой стороне, чтоб посмотреть с высоты на землю, чтоб солнце не светило в иллюминатор как прожектор.
А какой народ у нас в авиации! Тут как на фронте спайка. Чувство локтя — главный навигационный прибор. Случайные люди отсеиваются. Остаются настоящие...
Так вот, я работал заправщиком в Свердловском аэропорту. В тот день, о котором пойдет речь, не принимала Казань.
Утром выпустили машины на Москву и Ленинград, но их вернули с половины пути. А с востока подходят и подходят новые. Здание аэропорта в начале пятидесятых годов было маленькое. Народу скопилось много. Самые нетерпеливые, конечно, стоят у окошек, терзают наших справочных девушек, будто девушки с богом на короткой ноге, будто могут снять трубку и: «Алло, бог? Слушай, друг, дай погоду в Казани! Чего тебе стоит? Понимаешь, один атеист на лекцию опаздывает...»
Я сидел в дежурке, забивал с дружком Васей «козла», когда позвонил диспетчер и сказал, что идет международный. Что ж, надо поглядеть. Поехали, Вася!
Прилетел Ли-2. Зарулил на стоянку, дали сходни. Иностранцы... Все в одинаковых шапках, в одинаковых синих пальто, на боках одинаковые фотоаппараты. Ясно: китайские товарищи пожаловали. Они умеют одеваться в одинаковое и любят фотоаппараты.
Вышли, потянулись на вокзал.
А у меня душа заныла, до того захотелось поговорить с ними по-китайски: вспомнилось детство.
Китайцы ходят по вокзалу, обсуждают что-то, пытаются что-то выяснить. Их, естественно, никто не понимает, так как переводчик, который прибыл с ними, вместо того чтоб исполнять обязанности, залег в медпункте и на вопросы твердит лишь одно: «Сейчас, сейчас...» — и вместо воздуха дышит нашатырным спиртом: укачало беднягу.
Ну я и рискнул. Оставил за рулем бензовоза Ваську, подошел и осторожно говорю:
— Ни чифан ла ма? (Кушал ли, мол, сегодня?)
Такое китайское приветствие. Чисто народное. У них редко кто ответит на этот вопрос утвердительно. Меня поняли.
— Чифан ла. (Ели, мол, спасибо.)
Тут пассажиры нас окружили, начали удивляться, что я соображаю по-китайски. И пассажиры удивляются, и китайские товарищи, и товарищи по работе, потому что никто не подозревал у меня такого таланта. Больше всех я сам удивляюсь: столько времени прошло, а не забыл языка. Слова откуда-то из памяти выплывают, хотя минуту назад спроси, что как называется, я и не вспомнил бы, а в разговоре одно за другим потянулось как ниточка из клубка.
Вначале я очень смущался, потому что говорил на страшном тухуа — наречии вроде нашего «чаво... каво...». А гости-то, видно, народ культурный, городские, раз фотоаппараты на боку.
Они меня спрашивают:
— Хоче... Хоче...
Чего «хоче»? Вроде что-то знакомое, а что именно, никак не могу вспомнить. Один догадался, сказал попросту: «Огненный бык...»
И я понял: о поезде спрашивают. Железнодорожную терминологию я более-менее знал, и на то были причины. Чтоб вам они стали понятны, я обязан рассказать о своем детстве.
Родился я во Владивостоке на Второй речке. Если вы были когда-нибудь в Приморье, должны знать место, где я родился, так же, как и Девятнадцатый километр и Океанскую. Прелестнейшие уголки, особенно осенью. На Второй речке у отца был свой домик. Во дворе росли дикий виноград и хризантемы... С рождением мне не повезло: мать умерла при родах- а известно, что, если у человека нет отца — это еще полбеды, но если нет матери — беда настоящая. Человек становится круглым сиротой.
Странно, но почему-то «круглыми» бывают или сироты, или дураки, хотя первое не имеет ничего общего со вторым. Где вы слышали, чтоб говорили: «круглый умница» или «круглый талант», — но вот выражений вроде «круглый дурак» можно услышать сколько угодно.
Правда, есть еще одно выражение — «круглый отличник».
В тот момент, когда я появился на свет, отца дома не было: он «давал морские узлы» где-то вокруг Австралии; отец ходил старшим матросом на старой дырявой калоше времен русско-японской войны.
Это был исторический корабль: он уцелел после Цусимского сражения, японцы почему-то пожалели на него снаряд. Наверное, думали, что неповоротливый транспорт, склепанный гвоздями, сам потонет от страха. Но угольный транспорт потихонечку дотопал до Порт-Артура, потом так же потихонечку подался на Чемульпо, затем во Владивосток.
После освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов стали приводить в порядок Тихоокеанский флот. Этот флот разворовали все страны мира, принимавшие участие в разбойной войне против Советской России. Угольный транспорт никто не захотел украсть, и он пришелся теперь кстати. Корабль подлатали, подкрасили, переоборудовали в лесовоз, поставили новую трубу и намалевали на борту полубака «Неутомимый».
«Неутомимый» был весьма странным судном. Он коптил на весь Тихий океан, возил лес по странам капитала и вызывал встречные наши корабли на соцсоревнование. Как встретит какой-нибудь советский корабль, так и дает открытым текстом: «Вызываю на соцсоревнование... Обязуюсь...» и прочее. От него шарахались в разные стороны: отказываться было нельзя, а соревноваться с таким корытом — позор на оба полушария.
Так вот, когда о смерти моей матери узнали родственники, в наш дом с разных мест наехала родня из Сучана, из Хабаровска. Вся дальневосточная Украина приехала. Дело в том, что по национальности я украинец, а здесь людей с фамилией на «ко» — каждый второй, если не больше.
Набилось теток полным-полно, и давай реветь. Ревели на все лады и одновременно лузгали семечки. Такая уж у меня родня — по любому поводу грызет семечки.
Заплевали они весь пол шелухой, успокоились, стали судить да рядить, что со мной делать, и единогласно решили купить в складчину козу, чтоб я не умер с голоду.
Возможно, мне бы и тут не повезло: всучили бы они неразумному дитяти рожок с козлиным молоком, я бы доверчиво сосал соску, агукал и просил добавки, но пришла тетя Ду-ся и сказала:
— Моя бери твоя сяохайцзы... Моя твоя еси найму.
Тетя Ду-ся была нашей соседкой, у нее был муж, дядя Дима, настоящее имя которого Дин Фу-тан. Дин Фу-тан работал сцепщиком на железной дороге. Вот отсюда и пошло мое раннее знакомство с железнодорожными терминами. Дины были наши наиближайшие соседи. То, что сказала тетя Ду-ся, я переведу, если вы не поняли. Знать-то вам, что она сказала, все равно надо, раз вы решили читать историю моей жизни.
Тетя Ду-ся сказала следующее:
— Хватит плакать! Мальчика я возьму к себе, потому что у меня десять дней назад родился сын — Лю-третий, и молока хватит на двоих детей. Давайте я буду ему найму (по-китайски это значит — молочная мать).
Никто из родственников не возражал, разговоры о покупке козы сами собой прекратились: родственнички были скуповаты. Тетя Ду-ся завернула меня в одеяло и унесла в свою фанзу. У них был широкий и всегда теплый кан, на стеклах в окнах были наклеены вырезки из красной бумаги. И я зажил на пару с Лю-третьим, моим молочным братом.
Вот в силу этих обстоятельств я и начал говорить через год по-китайски, да так, что спустя пять лет мой папа за голову схватился, потому что я по-русски говорил чуть-чуть лучше тети Ду-ся или дяди Димы, настоящее имя которого было Дин Фу-тан.
Мой отец схватился за голову оттого, что я говорил на диком тарабарском наречии, смешанном из китайского, корейского, русского и украинского языков. Он стал слать срочные телеграммы на Полтавщину своей сестре с просьбой, чтобы та приезжала немедленно. Тетя Маруся срочно приехала и еще срочнее вышла замуж за красного командира товарища Коня.
Теперь, много лет спустя, анализируя события моего глубокого детства, я пришел к выводу, что скоропостижный приезд тетки был вызван лишь одним обстоятельством: после смерти матери отец запил и как-то очень быстро сумел пропить половину нашего домика. Хотя эта половина была пропита за тысячи километров от Полтавы, сердце тетки дрогнуло, и она под аккомпанемент песни Дунаевского «До свиданья, девушки! Не забудьте, девушки, как вас встретил Дальний Восток!» направилась в край девичьих надежд.
Этой девушке было уже под тридцать. Там, на Полтаве, на возможность ее замужества махнули рукой даже подруги, а когда она приехала к нам, у нее закружилась голова: кругом холостяки.
Особенно ей пришелся по душе лихой командир товарищ Конь. Человеком он был положительным, носил шашку и усы, командовал артиллерийским дивизионом. Тетя Маруся, долго не раздумывая, взяла Коня под руку и свела в загс. Все это, конечно, было хорошо, только мной ей заниматься было некогда. Я по-прежнему бегал по улице с Лю-первым, Лю-вторым, моим молочным братом Лю-третьим, Няо-маленькой, Няо — самой маленькой и корейцем Кимом.
Компания у нас была довольно лихая. Когда мы угоняли чью-нибудь лодку или ломали чей-нибудь забор, на улице поднимался скандал. Звали милицию. К нашей великой радости, милиции было не до нас: ловили контрабандистов, перебежчиков, воров и прочих авантюристов. Кончалось все тем, что на ножках-копытцах приходила тетя Ду-ся или бабушка Фан. Мы отпирались на всех языках, какие знали, говорили, что это Борька-хромой сломал забор своим костылем. Нас уводили домой.
Я не помню ни одного случая, чтоб тетя Ду-ся ругала нас или отвесила кому-нибудь подзатыльник. Это была на редкость уравновешенная и ласковая женщина. Ей совершенно было безразлично, чьи дети садились обедать на циновке вокруг низенького стола. Она клала перед каждым куайцзы (палочки для еды), ставила миску чумизы и закуску. Жили Дин Фу-таны не особенно богато, так что закуска была всего одна. Зато такая вкусная, острая, что мы незаметно уплетали всю чумизу, а потом пили чай и давали друг другу слово больше не ломать чужие заборы.
Моя приверженность к китайскому столу приводила в ярость тетю Марусю. Она кричала на весь двор, как могут кричать только жители Полтавщины:
— Ратуйте, люди добрые! Этот оголец брезгует варениками! Шоб ты засох, болячка скаженная!
На крыльцо выходил Конь в галифе и тапочках на босу ногу. Он расправлял лихие усы и говорил:
— Будя тебе, Маруся! Да нехай он ест червяков, если не хочет шкварки! Береги ты, Маруся, свои нервы. Твои нервы нужны мне, красному командиру, потому что японцы опять на конфликт лезут...
А японцы действительно лезли на конфликт. Они захватили Корею, оккупировали Маньчжурию, быстренько состряпали государство Маньчжоу-Го, посадили на трон «императора» Пу-и и начали подозрительную возню вдоль нашей границы. Владивосток почти все время находился на военном положении.
Появлялся вестовой. Конь срывал со стены шашку, натягивал сапоги и бежал рысью в казармы. Воинская часть куда-то немедленно выступала. По улице громыхали зарядные ящики орудий.
Тетя Маруся бежала за дивизионом и кричала:
— Возьми меня санитаркой! Возьми меня санитаркой!
— Иди в хату! — рявкал на нее Конь. Он сидел на белом жеребце и шевелил усами. — Не позорь перед боевыми товарищами. Иди в хату. И жди. С победой!
Но тетя Маруся не хотела ждать. Она знала, что такое ждать. Вдоль улицы у калиток стояли женщины. Они брали тетку под руку, вели к дому и уговаривали:
— Санитарка им не нужна. У них ветеринар есть.
В другой половине нашего дома, которую отец успел пропить, когда махнул на все рукой, жила, семья бухгалтера Петра Николаевича. Детей у них не было. И, наверное, поэтому у нас, ребятишек, с соседями не находилось контакта. Донимали мы Петра Николаевича постоянно и с большой выдумкой. Он сносил все наши выходки с невероятным терпением, хотя и драл уши, когда мы мазали ему чем-нибудь дверь и он ловил нас на месте преступления.
Его жена Лариса Зигмундовна советовала тете Марусе, когда Конь уходил на конфликт:
— Вы ребенка заведите. Легче ждать будет. Поверьте мне... Вы уж мне поверьте!
— Венька! — вспоминала сразу обо мне тетка. — Марш домой. Цыпки буду выводить. Варнак вислоухий, глянь на свои руки, глянь на свои ноги! Цыпки тебя съели...
Она тащила меня в дом, не обращая внимания на мои вопли, мазала цыпки йодом, заставляла мыть мылом лицо, надевать ненавистные ботинки и еще более ненавистную матроску, в которой можно было только сидеть сложа руки или прогуливаться по крыльцу. А в это время мои друзья, как назло, обязательно шли ловить рыбу. Они несли с собой удочки, червяков и метровую железяку — сбивать замок у чьей-нибудь лодки.
Ох эти конфликты на границе! Они имели ко мне самое прямое отношение. Вы бы знали, как я ненавидел проклятых самураев, которые лезли на рожон! Если бы не они, моя тетка никогда не пыталась бы стать санитаркой и не мучила бы меня йодом и мылом. Жизнь была бы мирной, и я мог бы сколько душе угодно бегать босиком по всему побережью Тихого океана.
Мы ложились куча мала на теплый кан. За окном выл ветер. Была зима. А зима в Приморье — самое гнусное время года. С океана дул сногсшибательный ветер, точно хотел сдуть все дома с сопок, но сдувал лишь снег. Поэтому сопки всегда были голые, как облезлый горб верблюда.
На кан садилась бабушка Фан с длинной прокуренной трубкой. Она тоже любила слушать рассказы сына, дяди Димы, бывшего красного партизана и нынешнего сцепщика железнодорожных вагонов. Дядя Дима был в гражданскую партизанским пулеметчиком. Он лично знал самого Сергея Лазо, видел Блюхера...
Иногда приходила тетка Маруся, если Конь находился в дивизионе.
— О чем это вы брешете? — спрашивала она. Я переводил ей рассказ дяди Димы. Только я все время отставал и сбивался: мне странно было, что тетка не понимает простых слов по-китайски. Честно говоря, я тогда почти не различал, когда говорят по-китайски, когда по-русски, а когда по-украински. Корейский же знал плоховато, но, впрочем, понимал хорошо.
— Уеду до дому! — жаловалась тетка. — Поговорить и то не с кем...
Тетя Ду-ся наливала ей чаю. Моя молочная мать угощала всех, кто бы ни пришел. Нет закуски — чаю даст, нет чаю — так хоть кипятку нальет. И все вежливо, с радушием.
— Уеду, — решительно говорила тетка и уходила домой гадать на картах, что будет, что станется с ее червонным королем, лихим красным командиром товарищем Конем.
А дядя Дима рассказывал:
— На сопках засели белогвардейские черепахи, а красные герои залегли на крутом берегу. За спиной белогвардейских черепах были Антанта и империалисты Соединенных Штатов, а за спиной красных героев — Тихий океан. Командир красных героев, сучанский шахтер товарищ Нечипоренко, собрал ночью в кружок оставшихся в живых товарищей и сказал:
«Ух, шпарят, собаки, чтоб у них зенки повылазили, чтоб им... А у нас патронов нет, хлопцы. Если завтра мороза не будет, сложим мы свои лихие головы за власть Советов на этом берегу. За спиной беляков Антанта и империалисты Соединенных Штатов, а у нас что? О г, глядите, хлопцы, — Тихий океан! И вплавь нельзя, потому что судорога сведет, камнем пойдешь на дно».
И пришло завтра. И ударил ночью мороз, да такой, что белогвардейские черепахи на сопках заползали. А красные герои духом воспрянули.
Командир партизанского отряда, сучанский шахтер товарищ Нечипоренко, собрал в кружок оставшихся в живых товарищей и сказал им такую речь:
«Хлопцы, уйдем по припаю. Снимай, хлопцы, ремни...»
Хлопцы сняли ремни, подвязали штаны кто чем смог, а ремни связали вместе, закрепили за сосну, конец спустили с крутого берега на кромку льда.
И сказал командир партизанского отряда, сучанский шахтер товарищ Нечипоренко, еще одну речь, самую последнюю речь в своей жизни:
«Хлопцы, я остаюсь здесь, буду прикрывать вас... Спускайтесь по ремням на припай, идите на север, к Амуру, там живут нивхи, они бедные люди, они вам помогут. Они тоже за всемирную революцию. Но нужен мне доброволец, чтоб сложить вместе со мной лихую голову на этом берегу...»
И ответили партизаны, как один: «Не пойдем мы без тебя, наш любимый командир товарищ Нечипоренко! Все тогда головы сложим на этом берегу!»
И тогда вышел вперед пулеметчик Дима, настоящее имя которого было Дин Фу-тан. Он сказал так:
«Товаиса, моя еси пулеметчика... Моя машинка бьет! Моя никуда не ходи! Ваши ходи нивха... Советская власть надо еси много палтизана! Нету палтизана — нету Советская власть».
И тогда сучанский шахтер товарищ Нечипоренко обнял красного героя-пулеметчика товарища Диму и сказал так:
«Хлопцы, он говорит правильно! Советской власти надо много бойцов, так лучше мы погибнем вдвоем, чем весь отряд сложит свои лихие головы. Идите, хлопцы, и не поминайте нас лихом! Отомстите за нас всем белякам, и Антанте тоже, и империалистам Соединенных Штатов, которые стоят за спиной белогвардейской сволочи. А у нас за спиной — Тихий океан и вся Россия. Прощайте, товарищи!»
Заплакали красные герои... Подходили по одному и целовали оставшихся — сучанского шахтера товарища Нечипоренко и пулеметчика Диму, Дин Фу-тана. А утром беляки пошли в атаку.
«Моя машинка бьет!» — кричал Дима и бил, бил из пулемета по наступающим цепям белых черепах. Товарищ Нечипоренко тоже стрелял из винтовки. Он очень метко стрелял, и не один семеновский офицер сложил свою поганую голову на этом крутом берегу, который стал родным всем красным героям.
А потом, когда патроны кончились, сбросили Дима и Нечипоренко пулемет с крутого берега, чтоб не достался он белогвардейским черепахам, Антанте и империалистам Соединенных Штатов, а сами пошли навстречу смерти...
Дальше дядя Дима не помнил, что было. Очнулся он весь в крови, с переломанными ребрами. И пополз в сопки...
— Покажи, — просили мы.
Дядя Дима задирал рубашку, мы щупали его шрамы. Дотрагивались до обрубков обмороженных пальцев.
Как мы завидовали бывшему партизанскому пулеметчику!
«Моя машинка бьет!» — это была любимая поговорка Лю-первого, Лю-второго, Лю-третьего, моя, Няо-ма-ленькой, Няо — самой маленькой и корейца Кима.
Мы мечтали только об одном — найти тот легендарный берег, с которого сбросили пулемет дядя Дима и товарищ Нечипоренко. Эх, нам бы тот пулемет! Мы бы всех буржуев постреляли и японцев бы выгнали из Китая, и установилась бы в Китае Советская власть. Как бы это было хорошо!
Как шло мое дальнейшее развитие? По мнению тетки, хуже некуда. Но, анализируя прошлое, я пришел к твердому выводу, что шло оно диалектически, то есть было полно противоречий, которые боролись между собой.
К семи годам у меня стали проявляться философские наклонности: я пытался находить в спорах истину, о чем тетка сказала, что я научился отбрехиваться как цуцыня.
К этому времени подошла пора собираться в школу, чего страшно не хотелось, пусть мне и обещали за это много интересных вещей: ранец, коробку перьев № 86, букварь, задачник и стопку тетрадей в косую линейку.
— Хочешь в школу, мальчик? — спрашивал наш сосед, бухгалтер Петр Николаевич.
— Не, — чистосердечно признавался я.
— Не может быть! — не верила Лариса Зигмундовна.
— Может.
— Как не хочется идти в школу? — Петр Николаевич был уверен, что его вопрос разъяснит это недоразумение.
— Да так...
Мне действительно не хотелось.
— Ну знаешь, мальчик, в таком случае из тебя ничего путного не получится. Ты можешь кончить очень и очень плохо.
— Ты слухай, ты на ус мотай, что тебе говорят добрые люди, — требовала тетя Маруся и скорбно подпирала красные щеки белою рукой.
Я просто не знал, чем утешить всех этих добрых людей, которым так хотелось, чтоб из меня вышло что-нибудь путное. Я пытался найти компромиссное решение:
— Можно, я пойду в китайскую школу на Первой речке? Там Лю-и, Лю-эр, Лю-сань, Няо-сяо и Ким...
Мои слова приводили Петра Николаевича в ужас, а тетку в ярость. Она вставала на дыбы.
— Я из тебя сделаю интеллигента! — кричала она. — Нехай я живой в гроб лягу, но заставлю тебя кончить четыре класса! А там дело твое... Хватит грамотности — живи. Не хватит — пойдешь в семилетку!
— Не пойду в семилетку! — ужасался я. Ведь семь лет — это было ровно столько, сколько я прожил на земле. Я готов был реветь от отчаяния, что еще целую жизнь придется сидеть в каких-то классах, когда можно жизнь посвятить более нужным и более героическим делам, нежели изучение букваря.
— Тю, ему не нужна семилетка! — кричала тетка, клала руки на бедра и плевала на пол бухгалтерской половины дома. — Вы бачите? Ему не нужна семилетка!
Что было самое странное — тетя Маруся тоже не знала, зачем мне нужна семилетка, но тем не менее она просто переполнялась презрением ко мне за то, что я не хотел иметь неполное среднее образование.
— А может быть, ему действительно это не потребуется? — замечал Петр Николаевич и старался выпроводить нас на нашу половину, чтоб мы спорили у себя дома.
Спор кончал Конь, если он, конечно, был дома. Он сидел за столом, писал реестры, докладные, рапорты или конспектировал первоисточники в толстенных тетрадях. Он приводил свои доводы в пользу грамотности, и весьма убедительные.
— Венька, чуешь? — Конь показывал огромный мозолистый кулачище. — Треба знати, що воно такое?
— Не треба, — отвечал я.
— Так ты чуешь?
— Чую.
— Чуй. А то можешь и помацать...
«Мацать» его кулак мне совсем не хотелось, и поэтому 1 сентября тетке удалось без особого скандала напялить на меня английский костюмчик, который отец купил в Шанхае, французский берет с помпоном, который купил отец на острове Окинава, и ботинки, которые купил Конь на толкучке. Она взяла меня за руку и повела в русскую начальную школу на Второй речке.
Мой шикарный вид произвел совсем не то впечатление, которого ожидала тетка. И я узнал, что такое классовая ненависть. Весь класс — скопом и по отдельности — отказался сидеть со мной за одной партой. Вначале я никак не мог понять, что вызвало такую неприязнь у мальчишек и девчонок, но потом сообразил, что всему причина французский берет с помпоном (он слишком нравился девчонкам) и немецкий перочинный ножичек со множеством лезвий, который я по своему недомыслию старался показать всем, даже учительнице Клавдии Васильевне.
И хотя ножичка у меня уже не было, а берет с помпоном плавал в одном неприличном месте, отношения с классом у меня не налаживались. Я пытался драться. Вызывал «стукнуться» всех мальчишек подряд. После занятий мы выходили во двор, удалялись за сараи, а там... Там я оказывался в подавляющем меньшинстве: весь класс «болел», если так можно выразиться, за моего противника, у меня не было моральной поддержки, и л проигрывал все поединки.
Наконец я сообразил, как выйти из создавшегося положения.
Этот день я вспоминаю с теплотой... К концу последнего урока я выглянул в окно и увидел, что вокруг школы «дают круги» Лю-первый, Лю-второй, Лю-третий, Няо-маленькая, Няо — самая маленькая и кореец Ким.
Поэтому я, не задумываясь, пнул ногой сидящего впереди самого вредного в классе мальчишку, Левку Шлянкевича.
Левка дождался, когда Клавдия Васильевна начала писать на доске упражнение на дом (мы изучали букву «щ»), обернулся и трахнул меня книжкой по макушке...
Вызов был принят, я собирал тетради в ранец, а Левка шептался с соседями по партам...
Все в классе очень удивились, что я опять вдруг, ни с того ни с сего осмелел, — они ведь не знали, кого я увидел в окно.
Уроки кончились. Девчонки и мальчишки без особого шума окружили меня, чтоб я не удрал домой, прежде чем не побываю за сараями, как это случилось два дня назад.
Но сегодня я не хотел удирать. Наоборот! Я очень хотел скорее попасть за сараи.
Мы прошли туда. И тут все увидели, почему я не пытался убежать домой. Теперь у меня тоже была моральная поддержка: Лю-первый учился в пятом классе, Лю-второй — в четвертом, Няо-маленькая — в третьем, кореец Ким — во втором, Лю-третий — в первом классе и Няо — самая маленькая... Она еще нигде не училась. Но зато у нее в руках была палка.
Тут все из нашего класса заторопились домой. У всех сразу оказались срочные дела. Остался лишь один Левка. Он смотрел на крыши домов, скучал, потом вдруг сказал, что у него скоро день рождения и что он всех нас приглашает в гости. Мы очень любили ходить в гости, поэтому Левка сразу стал нашим лучшим другом, тем более он умел играть в шахматы и пообещал научить этой умной игре.
На другой день ко мне за парту села Нюрка. Она с первых дней учебы стала круглой отличницей, и у нее были какие-то свои соображения, чтоб дружить со мной. Я не возражал. Чего, пускай сидит!
Дело в том, что учеба у меня шла как-то неравномерно. Надо сказать, что склонения русского языка я усвоил еще до школы. «Ты, тебе, тобой, о тебе...» и так Далее. По-китайски это было всего-навсего одно слово — «та». «Та» — и все! И никаких «тебе», «о тебе», «тобой», «за тобой»... Я, правда, уже не путался во всех этих «ой», «ою», «ею». Но вот счет!.. Арифметика. Это было хуже. Арифметика куда труднее.
— Остаченко! — вызывала меня к доске Клавдия Васильевна. — Сколько будет три и пять?
Мне обязательно надо было сначала сосчитать по-китайски.
— Сань цзя у... — считал я вслух, — денюй ба... Будет восемь!
Я был очень доволен своими познаниями в арифметике, но Клавдия Васильевна оставалась недовольной.
— Сразу скажи: сколько будет?
Я соображал:
— Саньге... уге... баге... Восемь! Сразу будет восемь!
Клавдия Васильевна начинала нервничать:
— Один и один — сколько?
— Два!
— Два и два?
— Два и лянге... Четыре!
— Два и три? — уже совсем сердилась она.
— Лян и сань... У!
— Чего «у»?
— Пять!
— Ты можешь сказать «пять»? Понимаешь, пять...
— Могу... Пять.
— Так сколько же будет два и три?
— Я уже сказал. — Я тоже начинал нервничать, я тоже был человек. — Лян и сань — пять.
— Очень плохо, — тряслась от возмущения Клавдия Васильевна и ставила мне соответствующую отметку.
— А разве не правильно? — почти ревел я от обиды.
— Результат правильный... Но ты должен научиться считать по-арабски...
Я никак не мог понять, чем арабские цифры лучше китайских? Чем? И что ей вообще от меня надо? Результат-то правильный. Не все ли равно, как я считаю, лишь бы правильно.
Нюрка вызвалась научить меня считать. Но и у нее ничего не вышло. Считать вслух по-русски я научился лишь где-то в третьем классе. А до третьего все равно сначала производил подсчет в уме так, как меня научил дядя Дима, и только потом говорил результат по-русски.
Я рассказал вам о своем детстве, чтобы вы поняли, почему я вступил на аэродроме в разговор с китайскими товарищами, почему мне вдруг захотелось поговорить с ними, отвести душу, вспомнить Владивосток и то время, когда я ходил в школу на Второй речке.
Неожиданно прибыл дежурный по полетам Федоров и с места в карьер потребовал перевести целую речь.
— Скажи им, Веня, — попросил он, — что вылета до вечера не будет. Облачность в Казани девять баллов. Переведи!
Я открыл рот, постоял с открытым ртом... Все на меня смотрят, ждут, что я скажу, а я ничего не говорю, потому что не имею понятия, как будет «девять баллов облачности» по-китайски.
— Что ж ты? — волнуется Федоров. — То трепался без умолку, а когда нужно, молчишь как рыба.
— Да вот... — отвечаю, — сообразить нужно, что как, собраться с мыслями.
Пассажиры наперебой стали мне помогать, точно я без них не понимал, что требуется сказать.
И я с тоской гляжу на медпункт, переводчику вторую бутыль с нашатырным спиртом несут, нет переводчика, хоть плачь.
И я начал импровизировать.
— Эта... — показал я на самолет в окне, — до самого вечера будет стоять, на месте стоять. Долго стоять. На поезде далеко. Даже не представляете, как далеко... Двое суток ехать — вот как далеко. Страшно далеко!
— Поняли? — нервничает Федоров.
— Не сбивайте с мысли. Поймут, — пообещал я и продолжаю: — А это, — я показал на облака, — там... Низко... Много...
— Большая облачность! — пришли на помощь китайские товарищи.
— Большая! — обрадовался я. — Облачность большая!.. Очень большая... Вы даже представить себе не можете, какая большая облачность... Слишком большая!
— Чего полчаса объясняешь? — заволновался Федоров.
— Метеосводку, — говорю.
Китайские товарищи посовещались между собой, закивали головами:
— Понятно. Минбай!
Больше всего удивился я сам, что они меня все-таки поняли.
— Веня, ты гений! — говорит товарищ Федоров. — Мы тебя обязательно отметим в приказе. Только переведи еще... Скажи, что сейчас пусть они пойдут в ресторан, покушают. Ну а потом... Мы машину раздобудем, город покажем. Созвонимся с «Уралмашем», пусть поглядят на нашего красавца. У них тоже скоро такие заводы будут. Мы поможем! Весь советский народ поможет. Им легче будет, чем нам, потому что у них есть мы, а нам ведь никто не помогал... Они будут идти по проторенному пути, не повторяя наших ошибок, так что им будет легче. Переведи, пожалуйста.
Пассажиры кивают головами и тоже твердят:
— Им легче. У них мы. У нас такого помощника не было... Им легче.
Начал я это переводить. Полчаса переводил. Ну то, что мы их в ресторан приглашаем, — это они, конечно, сразу поняли, а вот как насчет всего остального, что я им пытался втолковать, — это уж не знаю... Кажется, не очень. Китайцев повели в ресторан, я было направился к своему БЗ, где сидел и нервничал Васька.
— Ты куда, Веня? — схватил меня за рукав мертвой хваткой Федоров.
— На дежурство. Я на дежурстве.
— Мы тебя заменим, — пообещал Федоров. — Иди с ними.
Пошли, значит, мы в ресторан, в главное здание. В зале никого нет, на двери табличку повесили: «Закрыто на переучет». Принесли на стол китайским товарищам всего — холодного, горячего и прочего. От прочего они отказались.
Пообедали на славу. После этого пришел автобус. Сели мы и поехали в город осматривать достопримечательности.
Начали с памятников. Конечно, я их первым делом повел к памятнику Свердлову. Странно, но они не знали, кто был Свердлов. Я рассказал. Рассказал все, что знал про Якова Михайловича, про уральских большевиков-революционеров. И еще добавил про знакомого мне лично партизана революции — про дядю Диму, которого по-настоящему звали Дин Фу-тан.
Потом поехали на центральную площадь, к памятнику Карлу Марксу. Но тут китайские товарищи сказали, что им не стоит рассказывать, потому что про Карла Маркса они сами все хорошо знают.
Что же, дело ихнее. А то я бы мог рассказать: вдруг они чего забыли или что-то не так поняли.
Очень странно устроена человеческая память.
Я учил в школе с четвертого класса немецкий язык. Окончил девять классов, поступил в вечерний авиационный техникум. Работал, учился как миллионы моих сверстников. В техникуме продолжал изучать немецкий. У меня в общем была по нему четверка, вполне приличная отметка. Но немецкий давался мне с великим трудом. Я его в полном смысле слова «долбил»: не люблю ничего делать недобросовестно. А китайский... Вот уж много времени прошло, и я, оказывается, его помнил, сегодня точно какая-то волна накатила, подхватила меня, и я почувствовал себя на ее гребне. Речь у меня лилась без задержки. Вот так иногда бывает с человеком, который любит петь. На работе нельзя, дома соседи — неудобно, и вдруг как-то, оказавшись один в лесу, он запоет, и одна песня льется за другой.
Так и я.
Через каждый час я звонил в аэропорт: дали погоду или нет? Потом вел китайских товарищей дальше по городу. Встречали нас всюду приветливо. Мы посетили краеведческий музей, потом зашли в универмаг. Китайских товарищей почему-то больше всего заинтересовали фотоаппараты. Они узнавали цены, переводили их на юани и очень удивлялись, как дешево стоят у нас такие первоклассные аппараты, как «Зоркий», «Киев».
Потом я пригласил гостей в кинотеатр на экранизированную оперу «Черевички». Была кинокартина с подобным названием.
— А какая опера? — спрашивают.
— Обыкновенная, — отвечаю. — Поют в ней, танцуют между делом, оркестр играет и при этом имеется содержание...
Я не был силен в оперном искусстве и вообще в музыке. Как-то эта область осталась для меня малознакомой.
— А у нас, — заявили китайцы, — есть несколько видов опер. Шаосинская, Пекинская...
— У нас тоже много, — отвечаю я, чтоб не ударить в грязь лицом. — В Москве есть, в Новосибирске есть, в Свердловске...
— А в чем их отличие?
— В чем? Декорации разные, артисты... В одной толстый певец поет тоненьким голосом, в другой, наоборот, тоненький певец поет басом. А также хор разный. В одном оперном театре целый полк выйдет на сцену, в другом — два полка. Больше, чем зрителей в зале.
— Интересно, — говорят китайцы.
От разговора об опере у меня выступил на лбу пот. Не моя сфера.
Я провел гостей в фойе, рассадил за шахматными столиками, кому шахмат не хватило, шашки предложил. Но они не умели играть ни в то, ни в другое.
Открыли дверь в зрительный зал. Мы сели, заняв целый ряд.
Крутят журнал.
Неожиданно вспыхнул свет. Гляжу, Петр Михайлович, наш аэропортовский шофер, бежит вдоль рядов, рукой машет, чтоб выходили: мол, погоду дали, немедленно надо ехать в порт.
Вернулись мы в аэропорт. Китайских товарищей сразу повели на посадку. Разместились они честь честью. Только переводчика пришлось силой сажать, потому что он на поезд просился.
Федоров сдержал свое слово. К Октябрьскому празднику мне объявили благодарность в приказе. И началось...
Хлопотное это дело — из рядового заправщика стать заметной личностью.
Первый раз я даже, признаться, обрадовался, когда меня на собрании вдруг выбрали в президиум и попросили занять там место. Что было дальше, может понять лишь тот, кто сам сиживал в президиуме. В президиуме — это совсем не то, что в зале. В зале, особенно на задних рядах, если собрание неинтересное, ты можешь делать, что тебе заблагорассудится, — вертеться, шептаться с соседями, читать книжку писателя Овалова, даже вздремнуть. Это все привилегии общего зала... В президиуме же ты должен сидеть навытяжку, изображать на лице осмысленность и бодро кивать докладчику: да, мол, интересно говоришь, подумать только, а мы и не знали!
Но все это еще пустяки. А вот когда после доклада тебя вдруг ни с того ни с сего начинают толкать под бока:
— Иди, Веня, выступи.
— Зачем? — цепенеешь ты от ужаса.
Однако твое замешательство воспринимается лишь как проявление скромности, и тебя все-таки подталкивают к трибуне, на которой стоит графин и микрофон.
В голове от волнения ни одной путной мысли. Потом мелькает единственная: «Убежать бы! Повернуться бы сейчас да через черный ход на автобусную остановку...»
Но берешь себя в руки и начинаешь пить воду из графина.
Потом набираешь в грудь воздуха и говоришь.
На основании прожитого я пришел к выводу, что очень нелегко нести бремя известности.
Так вот. Объявили мне благодарность, повесили мою фотографию на доску Почета. Тут еще журналисты из «Уральского рабочего» подъехали. Поговорили о том, о сем, пошуршали блокнотами, потом, гляжу, в газете «Беседа с передовиком Вениамином Остаченко».
И пошло, пошло. Я даже похудел. Как что где происходит, так меня на трибуну: «Давай! Покажи. Поделись...»
Прошло некоторое время, и вдруг меня вызывают в отдел кадров. Я испугался: не увольнять ли собираются за то, что столько рабочего времени прогулял из-за разных заседаний и докладов? Потому что доклады — это одно, а производство — другое.
— Вася, замени, схожу к Димиванычу! — попросил я друга.
Димиваныч — это мы так для удобства сокращенно называли начальника отдела кадров Дмитрия Ивановича.
— Может, я вкалывать буду, а ты получку получать? — заартачился Васька, которому надоело порядком, что меня отвлекают от дела, а ему все время приходится заменять. — Ладно, валяй! Только в последний раз! Но запомни: если тебя не уволят, я сам подам заявление об уходе.
Прихожу в главное здание, стучусь в дверь, обитую железом. Вошел.
Димиваныч сидел за столом и пил молоко из бутылки. Увидел меня, заткнул бутылку пробкой, спрятал в сейф.
И вдруг улыбнулся. Хорошо так улыбнулся, тепло.
— Решили мы тебя, Остаченко, послать работать в Китай. Решили доверить тебе... Поедешь помогать китайским братьям создавать собственную гражданскую авиацию, а то там англичане пока наживаются на наших братьях. Ответственное поручение!
Он еще что-то говорил, а у меня все поплыло перед глазами от радости.
Кого не обрадует большое доверие, ответственное поручение! Чем больше ответственность, тем больше радуется человек — я так понимаю радость.
И потом: я ведь с детства мечтал о пулемете. Чтобы вместе с дядей Димой, которого звали Дин Фу-тан, помочь китайским рабочим разгромить всех врагов и построить новую жизнь. И вот теперь я вдруг поеду в Китай без всякого пулемета и буду помогать нашим братьям.
— Завидую тебе, Веня! — сказал Димиваныч. — Сам бы поехал, да не знаю языка. Надо им помочь. Кто же им поможет, как не мы? Понял?
— Конечно, — соглашался я. — Вы даже не представляете, что для меня эта командировка. Ведь я лечу в свою мечту. Моя машинка бьет...
Пожали мы друг другу руки, и я выбежал из кабинета.
Если вы когда-нибудь будете собираться в поездку за границу, то вам, как и мне, придется выслушать от друзей и родственников тысячу полезных советов. Самое интересное заключается в том, что если эти советы и пожелания собрать вместе, то польза от них будет равна нулю, потому что они взаимно исключают друг друга...
Да, необходимо рассказать, какими путями я оказался в Свердловске. Приехали мы сюда после войны. Дело в том, что мой дядька Тарас Тарасович Конь погиб в сорок пятом при освобождении Маньчжурии от японских захватчиков. Нашла его пуля самурая. Сложил он свою лихую голову под Цицикаром, высмотрел его какой-то смертник, камикадзе, были они у японцев не только в воздухе или на торпедах, но и на суше, вроде кукушек, стреляли по командирам. Конь пошел освобождать китайцев в звании подполковника, в должности командира артполка.
Тетя Маруся сильно горевала, плакала, убивалась, чуть зрение не потеряла. Батьку списали на сушу по старости. Думали мы, прикидывали. Продали свою половину домика и тронулись на родную Украину, на которой я сроду не бывал. Но, видать, не судьба... Не доехали...
Расхворались старики в поезде — его в шутку называли «Пятьсот веселый». После победы над Японией войска с востока перебрасывались на запад, к тому же валил поток демобилизованных, бывших эвакуированных... Полтора месяца мы путешествовали и застряли на середине пути, на Уральском хребте. Обжились, конечно, получили квартиру во Втузгородке...
Когда я пришел домой, показал анкеты и тетя Маруся с отцом узнали, что мне срочно требуется сфотографироваться шесть на четыре, написать собственной рукой автобиографию, они понимающе переглянулись.
— Понятно! — сказал важно отец. — В загранку посылают.
— Веня, — всхлипнула тетка. — Ты же был вот таким маленьким... Помнишь, как сломал мне швейную машину? Крутил, крутил колесо... Чего же я стою? Совсем поглупела твоя тетка...
Она стала вынимать изо всех углов чемоданы, выкладывать на стол, на кровать, на пол их содержимое.
— Не нужны эти чемоданы, Веня, сынок, не бери ничего с собой, кроме русской души. Возьми белые полотняные брюки и сандалии на кожаной подошве, чтоб ноги в жару не прели. Чего ты ему рундуки навязала? Нужно ему твое барахло! Что он, на рынок едет? Не дело русскому человеку о барахле думать. Пошли в магазин, сынок, брюки покупать. Не будь бабой. Это бабы от глупости за тряпки хватаются...
Переезд границы — штука впечатляющая, даже если конечная станция на родной земле всего-навсего деревянный дом с двумя огромными залами... В одном зале стояли скамейки, похожие на садовые, на них сидели пассажиры, во втором на длинных столах лежали чемоданы, а вокруг ходили таможенники, люди весьма серьезные.
После досмотра пассажиры сели в поезд, он тронулся, у светофора с подножек вагонов соскочили пограничники.
— Все!
— Свершилось!
— Где она? Где она?
— Вон!
— Нет, рановато, не доехали.
— Поздно, проехали...
Лично я этой самой границы, которая всегда на замке, почему-то не заметил. Кругом была все та же степь, ковыль, небо...
Поезд подошел к станции. На ней красовались иероглифы «Маньчжурия».
Все! Россия — там, Китай — здесь. Он для меня стал реальностью, а Россия воспоминанием.
В тамбуре какие-то ребята, одетые в одинаковые гражданские костюмы, дружно запели: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», кто-то вскрикнул: «Эх, ма!», кто-то отошел от окна, достал из кармана бумажник, из бумажника фотографию и долго глядел на нее.
На станции было полно китайцев. Все куда-то торопились. Все в синем. У всех на лицах марлевые повязки, как у хирургов во время операции.
Но это был еще не сам Китай. Он начинался дальше, за тысячи километров, за Великой стеной, за Шаньхай-гуанем. В то время, о котором я рассказываю, поезда ходили только через Читу-Пограничную на Харбин — Тяньцзин — Пекин. Это теперь они могут жать напрямик через Улан-Батор. В то время дорогу через Монголию лишь строили.
По первому заходу я так и не попал в Срединное государство, застрял в Маньчжурии (северо-восток), в Мукдене, на аэродроме около Дунлина — огромного парка, служившего когда-то местом захоронения бывших завоевателей Китая, императоров маньчжурской династии Цин.
Только через два года, в канун праздника весны, меня неожиданно перевели из Мукдена на крайний северо-запад, так сказать, бросили с одного конца Великой стены на другой — пять дней пути на поезде.
И я очутился за этой стеной, на земле ханей, то есть земле истинных китайцев.
Перевод был вызван тем, что у одного из моих коллег заболели почки — камни разыгрались. Его на самолете отвезли в Пекин, в госпиталь, там отпоили каким-то варевом, затем опять посадили на самолет и откомандировали на излечение в Советский Союз. У меня же почки работали «без перегрева», как маслофильтры в отлично отрегулированном двигателе, и это было хотя и слабым, но все-таки утешением, ибо летел я на новое место без особого желания.
В Мукдене я обжился. Шэньян, как называли Мукден китайские товарищи, считался после Харбина вторым городом, где хорошо было работать. Вопрос заключался не в самой работе — не надо так узко понимать, работа, она везде одинаковая, везде ее надо выполнять на совесть. В Мукдене находилась большая группа советских специалистов, целый городок железнодорожников ЮКВЖД. У железнодорожников был свой клуб, где демонстрировались советские фильмы, был плавательный бассейн и две волейбольные команды, которые без конца оспаривали первенство друг у друга.
И еще в Мукдене было очень приветливое советское консульство. В консульстве часто устраивались вечера отдыха. По праздникам в ресторане можно было запросто заказать столик и поплясать от души с женами дипломатов.
В общем, жить можно было.
Ведь самая большая трудность работы за кордоном не климат, не национальные обычаи страны. Самое тяжелое — тоска по Родине. И днем и ночью сосет под ложечкой. Начинает казаться, что вот никогда уж больше не попробуешь ржаного хлеба...
В Мукдене остались у меня друзья. Настоящие. Чего-чего, а друзьями меня судьба не обидела. Взять хотя бы подшефных китайских хлопцев, которых я обучал тонкостям ГСМ. Они величали меня «гэгэ» (старшим братом), хотя многие по возрасту были значительно старше. Учились они на совесть. Ко мне относились прямо-таки с нежностью. Чтобы сделать мне приятное, выучили на русском языке «Катюшу».
Это было, когда на наш аэродром перегнали МиГ-15, новенькие машины. Когда и где научили китайских парней летать на реактивных истребителях, не скажу, так как не знаю. Я числился в СКОГА (советско-китайском обществе гражданской авиации), вроде нашего Аэрофлота, и отвечал за топливо винтомоторных пассажирских самолетов. Часть моих учеников забрали в военную авиацию на обслуживание МиГов, по этому поводу и устроили прощальный ужин. Съездили на «газике» в город к «Чурину». Была такая солидная фирма русского купца. Купили пива, сладостей, колбасы... Дома приготовили рис, пампушки. Устроили проводы. И вот когда сели за стол, хлопцы запели «Катюшу»...
Теперь представьте себе плато, покрытое слоем серого лёсса толщиной в несколько сот метров. И на этом плато узкую, извилистую щель. Щель промыла река, названная Желтой по цвету воды. В этой щели лежит город, куда я попал, распрощавшись с Мукденом.
Лежит город километра на два, на три выше уровня моря. Сам он довольно симпатичный. В центре, разумеется, старая крепость, есть бывшая резиденция бывшего правителя. Обязательно Торговая улица. Городской парк. Среди деревьев там и сям торчат остроконечные крыши пагод бывшего буддийского монастыря.
Была ранняя весна, и в парке еще не появились навесы из дерюжек. Под такими навесами любители вечерних закатов не спеша пьют чай или лимонад в бутылках из-под кока-колы, задумчиво курят сигареты и слушают нежную игру на хуцине какого-нибудь участника художественной самодеятельности.
В узком одноэтажном здании мне выделили комнату, в которую я поставил клетку с волнистыми попугаями. Вручили мне ключи от бензохранилищ. После этого меня повели в столовую, познакомили с поваром Ваном и остальными товарищами. Фамилия старшего нашей группы была Гаврилов, заместителя его — Поддубный.
 |
Как я уже сказал, на новое место я прибыл в канун китайского Нового года.
Вы не знаете, что такое китайский Новый год, или праздник весны? Представьте себе страну в основном горную, с населением в шестьсот с лишним миллионов человек. И вот на каждую душу населения выделяется в среднем по сто хлопушек и барабан. В один прекрасный день, а именно в весеннее новолуние, все начинают жечь хлопушки и бить в свои барабаны. Получается очень веселый праздник. Называется он Чуньцзе. Если вы этого не видели, вам трудно представить, до чего же это здорово!
Во-первых, три дня никто не работает. Во-вторых, все выходят на улицы, и начинается карнавал. По улицам движутся танцующие колонны. Трясут головами львы с гривами всех цветов радуги. Мчится извивающийся дракон. Он хочет проглотить солнце. Дракон дрожит от вожделения, теснит людей к стенкам домов, разевает пасть... А солнце убегает, улетает, и никогда дракону не проглотить солнца, как злу не победить добра. Никогда! Солнце рвется в небо, чтоб светить людям, чтоб сделать их счастливыми и радостными. В этом символ жизни, символ движения, символ любви. Иначе если дракон смог бы проглотить солнце, то был бы мрак, . смерть, никогда бы не было «завтра», а «вчера», стало бы «сегодня».
Мне очень хотелось посмотреть на праздничные шествия, но жили мы в двух-трех километрах от города, так что я мог лишь слушать издали веселые рыки барабанов и любоваться издалека разрывами хлопушек.
С некоторых пор ходить в город поодиночке нам не разрешалось. Так распорядились местные власти. Если нам приспичивало куда-нибудь ехать, то собирали солидную группу, сажали в автобус и везли скопом. Объясняли нам подобное тем, что так нас легче не растерять. Теперь же ехать в город было бесполезно: слишком много было на улицах народу, автобусу не пробиться сквозь толчею. Да и что за праздник, если ты сидишь в автобусе!
Неожиданно пожаловали гости — группа активистов Общества китайско-советской дружбы. Возглавляла группу товарищ Цзянь Фу, высокая худощавая женщина. Ей было лет сорок, но выглядела она значительно старше, ее лоб рассекал шрам.
Родилась она в Циндао, когда-то отданном на откуп кайзеровской Германии. Циндао расположен на холмах и очень напоминает какой-либо заштатный городишко Южной Германии: садики, чистые улицы, на крышах домов, конечно, красная черепица. Семья Цзяней была зажиточной. Цзянь Фу крестилась в кирхе, ей дали христианское имя Марта.
Лет восемнадцати Цзянь познакомилась с одним революционером, ушла из дому, принимала участие в революционной работе среди кули Тяньцзина, вступила в компартию, попала вместе с мужем в руки чанкайшистской разведки. Мужа и ребенка замучили, она каким-то чудом спаслась.
Сейчас она занимала несколько должностей и, кажется, была избрана в Собрание народных представителей — верховный орган КНР.
Удивительно энергичная женщина. У нее было сто болезней, но она презирала боль и недуги. Она мечтала поехать в Советский Союз на учебу, самостоятельно изучала русский язык, поэтому, пользуясь малейшей возможностью, пыталась говорить по-русски.
С ней пришли молодые парни, рабочие. Они очень гордились эмблемами общества на шапках и одновременно стеснялись.
Встреча произошла скомканно; видно, ребята торопились в клуб на концерт самодеятельности или на карнавал.
— Понимаю, — сказала мне Цзянь Фу, — в такой день хочется быть дома. У вас танцуют на ходулях?
Даже она, крещенная в немецкой кирхе, не знала, что праздник весны — чисто китайский праздник, и празднуется он лишь в Китае.
— Конечно, — ответил я и, чтобы ее не обидеть, добавил: — На ходулях у нас в Свердловске любят танцевать, особенно хорошо получается на асфальте. Сколько ртов в вашей семье? — задал я вопрос, чтоб как-то сменить тему разговора.
— У меня нет семьи, — ответила она. — Мой муж был большим революционером, он отдал жизнь за революцию, и я посвятила жизнь его делу. Вот мои дети. — Она показала на молодых рабочих.
Мы договорились с Цзянь Фу, что вскоре обязательно состоится встреча советских специалистов с китайскими рабочими, на которой мы расскажем о Советском Союзе.
Они ушли. Я совсем загрустил. Вышел на летное поле, прислушиваясь к звукам города.
При въезде на аэродром стояли два китайских часовых, чтобы никто из населения не мог проникнуть на территорию. Я постоял около них, поздравил с праздником, пожелал им «Фацай, фацай!» («Будьте здоровы, живите богато!»). Они спросили, сколько времени. Им скоро сменяться, в казарме их ждал праздничный ужин.
Я пошел дальше. Миновал взлетную полосу, проверил сигнализацию. Долго ковырялся в реле красных и зеленых светофоров. Нашел замыкание, исправил.
Затем я двинулся вдоль глинобитного забора. В одном месте забор размыт дождями и осыпался. Его давно надо было отремонтировать, ведь через дыру на территорию проникали черные волосатые свиньи местных жителей. Свиньи в основном сами добывали себе пищу. Они рыли аэродромные поля в поисках всяких отбросов. Из-за них, не ровен час, могла произойти катастрофа.
Я перелез через стену и пошел по тропинке, которая вела к берегу реки. Там начинались фанзы.
Я шел один. Я просто забыл, что со мной обязательно должен был идти кто-нибудь из китайских товарищей, который охранял бы меня на тот случай, если бы, не дай бог, на меня вдруг вздумали напасть «тэу» (шпионы с Тайваня).
Мне было грустно. Очень хотелось посидеть на кане у кого-нибудь в фанзе. Как когда-то я сиживал у Дин Фу-танов. Поговорить о том, о сем, послушать сказку, отведать закусок, выпить крепкого зеленого чаю или горячего ханшина.
Над головой прыгали звезды, была темная сонная ночь. Чувствовалась весна.
Я шел и рассуждал сам с собой. Обо всем. А значит, и о любви.
Почему-то все мои рассуждения в последнее время логически приходили к этому вопросу. Наверное, потому, что я считал себя в душе безнадежно испорченным человеком. Откровенно говоря, я страстно желал как можно быстрее состариться, чтоб угомониться и научиться владеть собой.
«Было бы мне шестьдесят, — с грустью думал я. — Как бы все было просто, как бы все было хорошо! Болело бы мое сердце только об одних производственных проблемах. И не терзал бы я себя!»
А терзал я себя довольно основательно. И всему причиной была Ксения — железнодорожница из Коломны, которая осталась в Мукдене. Она была старше меня, успела побывать замужем, разошлась, родила девочку, ребенка пристроила у родителей в Коломне, сама поехала работать на ЮКВЖД.
Я вспомнил, как ребята шутили надо мной. И покраснел. Хотя вся эта история была уже в прошлом, но я все равно покраснел от стыда.
Мы приезжали в клуб железнодорожников посмотреть кинокартину. Ксения садилась рядом, прижималась горячим плечом и замирала. Не дожидаясь окончания сеанса, вытаскивала меня на улицу. Я не мог противиться и стыдился. Стыд у меня был очень сильный и в то же время какой-то робкий.
— Не ершись, — ластилась Ксения. — Положи сюда руку, положи! Слышишь? Это мое сердце стучит... Какие у тебя руки теплые!
И она начинала целовать мои руки.
«Неужели это и есть любовь? — думал я. — Как стыдно от этой любви! И нет никакой радости. Или, может быть, я чего-то недопонимаю? Почему Ксения смотрит на меня такими бездонными глазами? Вот ей абсолютно не стыдно. Она вся горит... Чего ей от меня надо? Чего? Уйду!»
Ксения понимала, испуганно отстранялась, становилась доброй и снисходительной, как мать, и от этого становилось еще хуже.
— Я вышла замуж девчонкой, — говорила тихо Ксения. — Я ничего не соображала. Когда почувствовала, что не люблю мужа, ушла от него. И зачем ты мне попался на пути, желторотый? — вдруг почти кричала она. — Зачем? Ну что ты? Ну куда ты? Милый мой, лапушка... Да люблю я тебя! Ну бабье счастье мне такое — полюбить тебя. Не дождусь я, когда ты мужчиной станешь. — И она всхлипывала, становясь какой-то беззащитной.
А у меня была только одна мысль: побыстрее бы уйти от нее.
И чего она плачет? Ведь в кино ходим вместе, гуляем. Разве обязательно еще и целоваться?
Разве нас сюда за этим послали — целоваться? Нас сюда за другим послали: помогать Китаю налаживать новую жизнь.
Я ведь не маленький и знаю, чем могут кончиться такие отношения. Мне неохота позориться, терять свой моральный облик...
Я шел по тропинке, не хотелось думать об этом, но мысли почему-то все равно возвращались к Мукдену, к Ксении, и я злился на себя.
И мне хотелось немедленно повернуться и побежать назад. Но я не повернулся, по-прежнему шел вперед. Я прислушивался, как в городе гремели барабаны, у реки лаяла собака.
До чего же трудно жить, когда тебе не шестьдесят лет!
И тут я услышал, что кто-то чихнул. В кустах.
— Эй! Кто там? — крикнул я и остановился.
В кустах подозрительно молчали. Тогда я крикнул еще громче, чем первый раз, даже в горле засаднило:
— Кто там, отвечай!
Молчание.
Я лихорадочно думал, что мне делать: или припустить что есть духу к аэродрому, или же применить всем известный впечатляющий маневр: «Отвечай! Не то сейчас подниму тревогу... Сержант Петров, заходи справа! Рядовой Иванов, заходи слева!»
— Ты кто такой? — вдруг раздался в кустах испуганный женский голосок. Я заметил, что говорит женщина мягко, сглаживая шипящие, как это делают жители южных провинций.
— Я аэродромная охрана, — уже без крика заявил я, потому что мне вовсе не хотелось поднимать тревогу.
В кустах зашевелились. Треснул сучок... И тут я сообразил, что там, в темноте, стоит девушка, что она, видно, услышала мои шаги, испугалась и свернула с тропинки в заросли, чтобы пропустить меня. Ей ведь неизвестно было, что за человек идет, чего он бормочет себе под нос. Может, пьяный...
Девушка заговорила. Я с трудом понимал, о чем она говорит, потому что говорила она на шанхайском наречии, я не знал его. Шанхайское наречие — особенное наречие. Например, такая фраза: «Я не знаю ее» — по-пекински звучит так: «Во бу женьши та». Та же фраза по-шанхайски: «Алла бу сяодо нун».
— Не понимаю тебя, — сказал я по-пекински. — Отвечай, кто ты такая и почему прячешься, когда все празднуют Новый год?
— Я заблудилась, — ответила девушка с шанхайским акцентом на пекинском диалекте. — Я нечаянно заблудилась.
— Выходи, — сказал я.
— Я боюсь, — ответила девушка.
— Чего боишься?
— Тебя боюсь.
Дело было совсем не в том, что я проявил невежливость, заговорив с ней на «ты». В китайском языке вообще нет нашего вежливого «вы». Есть слово «нинь», но это скорее «вы» в превосходной степени, с оттенком почтительности, что-то наподобие «ваше благородие». Его редко употребляют: слишком оно церемонное. Просто девушка испугалась встречного мужчину, что было вполне естественно. Надо было поговорить с ней, обстоятельно выяснить, кто она, откуда, расположить к себе, успокоить. В Китае не принято, заводя разговор, сразу брать быка за рога. Признаком хорошего тона считается всякую деловую беседу начинать с расспросов о погоде, потом уж говорить об основном деле.
Мы направились к окраине города. Я шел впереди, она следом за мной. Здесь так принято ходить. Я старался не оборачиваться, чтоб она, хотя и было темно, не увидела моего лица, не заметила, что я европеец, а то бы она, наверное, испугалась.
Она рассказала мне, что зовут ее Хао Мэй-мэй, что ей восемнадцать лет и что она восьмая в семье.
— Я окончила колледж в Шанхае, — рассказывала она. — Я преподавательница математики и географии. Нас призвали ехать в районы новостроек, и я с радостью поехала.
— Давно ты приехала?
— Три дня назад... Мне очень нравится здесь. Шанхай, конечно, красивее, но здесь тоже ничего... Мне очень хотелось посмотреть, что там, наверху, в горах, и я пошла, но не рассчитала, что дорога окажется длиннее, чем мне бы хотелось...
— Ну и как там, наверху, на плато?
— Голо очень. Нет воды, поэтому ничего не растет.
— И сколько же ты прошла пешком? — спросил я. — Ли двадцать или тридцать?
— Пожалуй, пятнадцать ли. Но я люблю ходить пешком. У нас была культбригада. Мы ходили по деревням, ликвидировали неграмотность. Я преподавала в трех деревнях, так что научилась ходить помногу.
— Айя!.. — только и мог я сказать по этому поводу.
— Ты что, неграмотный? Тогда приходи к нам в школу.
— Нет, я грамотный. Окончил среднюю школу, но вот иероглифов совсем мало знаю. Штук десять, не больше.
— Как же ты окончил среднюю школу? — удивилась Мэй-мэй.
— Как все. Жалко, техникум авиационный пришлось бросить, три курса всего окончил... Я заочно учился.
— Не понимаю, — замедлила шаги девушка. — Как же ты мог окончить среднюю школу и знать всего десять иероглифов?
— Зачем мне иероглифы?
— Зачем? — Девушка остановилась, и я даже почувствовал, как она с подозрением смотрит мне в спину.
И тут я сообразил, что проговорился. Она думала, что я китаец, и действительно, как же я мог так долго учиться и остаться таким абсолютно безграмотным, знать всего десять иероглифов.
Надо было как-то выходить из положения, а не то она испугается и убежит.
Улицы были совсем близко, доносились голоса жителей. Вдоль улиц бегали мальчишки и стучали палками по электрическим столбам. Наверное, им не хватило барабанов.
— Товарищ! — сказал я как можно официальнее и обернулся. — Дело в том, что я советский человек. И я приехал из Советского Союза. Китайский я знаю потому, что моя молочная мать была китаянкой. Я очень рад с вами познакомиться.
— Здравствуйте! — вдруг сказала по-русски Мэй-мэй. Это было так неожиданно, что мы рассмеялись.
— Ты отлично говоришь по-русски! — сказал я.
— Может быть, и отлично, — ответила она, — только больше я не знаю ни одного слова... Бат ай кэн инглиш вэри вэл.
— Нет, нет, — замахал я руками. — По-английски я не «спикаю». «Шпрехаю» еще немного по-немецки. А английский — нет, не знаю. Вот мы и пришли...
Мы остановились около фанз. На столбе горела тусклая электрическая лампочка. У реки уже лаяло несколько собак.
— До свидания, — сказал я.
— До свидания, — сказала она и смело протянула руку.
Рука у нее была теплая и маленькая.
— До свидания, — опять повторил я.
— А почему ты не идешь на праздник? Пойдем вместе, хочешь?
— Нет, — отпустил я ее руку. — Мне нельзя. У меня работы много. Очень много работы. Ты даже не представляешь, как много работы. Куча работы. Столько работы, что я лучше пойду на работу. А то вся работа станет.
— Я понимаю, — сказала она. — Мы живем в общежитии. Приходи к нам в гости, расскажешь о Советском Союзе.
— Хорошо, — сказал я. — Постараюсь. Как-нибудь в другой раз. При случае. До свидания...
Не мог же я ей объяснять, что с некоторых пор местные власти перестали разрешать нам ходить поодиночке в город, так как они боялись, что нас могут украсть «тэу» (шпионы с Тайваня).
На работе мною были довольны. Я не подозревал за собой таких способностей. Оказывается, я очень многое знал и очень многое умел. И обязанностей у меня было как у генерала; приходилось решать вопросы о транспортировке, хранении, учете и отчете, разработке документации и плюс чисто педагогические вопросы, потому что мне приходилось учить китайских товарищей, моих «подсоветных», как их там называли, азам современной техники.
Совершалось весьма интересное явление, которое, вероятно, уже не повторится в таких масштабах нигде на земном шаре. В огромнейшей стране, с самым большим населением в мире, происходило бурное развитие языка и понятий. Еще вчера здесь имели дело с двигателями в одну лошадиную силу. Эту лошадиную силу приводили в движение ударами бича и криком: «Юй! Юй!» Шестьсот миллионов людей не подозревали, что на свете есть шагающие экскаваторы. И вдруг в страну хлынула потоком советская техника. С техникой надо было познакомиться, привыкнуть к ней, изучить, освоить, научиться правильно ее эксплуатировать и, естественно, придумать всему названия.
Можно представить себе, что происходило в языке колоссальной страны. В каждой провинции, в каждой городе придумывались свои собственные технические термины. Взять слово «подкрылки». Как его только не переводили — «маленькие крылья», «вспомогательные крылья», «крылышки для торможения»...
Я пришел к товарищу Ян Ханю, начальнику службы ГСМ, и сказал:
— Очень прошу тебя, собери подчиненных, пригласи самого хорошего переводчика и давайте разберемся, кто что знает, что как у вас называется.
— Хао, — ответил товарищ Ян и записал что-то в блокнот. — Позову переводчика Лю. Он хорошо знает русский язык: отец у него был русским. В Хайларе скотом торговал.
Собрались мы в клубе. Я выяснил местные отклонения в технической терминологии и одновременно задал несколько специальных вопросов, чтобы выяснить степень подготовки товарищей. Пока я задавал теоретические вопросы, все было более или менее хорошо. Но как только я перешел к практике, так схватился руками за голову.
— Что же, — говорю, — получается, товарищи? Формулами-то вы бойко сыплете, а на деле ничего не знаете. Как, скажем, приготовить бензин марки Б-семьдесят четыре, если под руками есть только Б-семьдесят?
Молчат.
— Что такое цифра семьдесят? — спрашиваю.
— Октановое число...
— Как получить не семьдесят, а семьдесят четыре?
— Надо добавить этилки.
— Сколько?
Молчат.
— Четыре кубика, — подсказываю.
— Правильно, — говорят.
— А как добавить?
Молчат.
Тут я вспомнил про свою педагогическую практику в Мукдене и начал издалека, подробно, с чувством, с привлечением художественных образов.
— Работать в ГСМ и не уметь делать нужную смесь, — говорю, — это равносильно тому, что взяться печь пироги и не уметь замесить тесто. Мотор самолета без горючего, на голом энтузиазме тянуть не будет. Ему подавай нужную марку, а то он или тягу сбавит, или произойдет детонация при сжатии, полетят пальцы, шатун, может и картер разбить, и тогда самолет, вместо того чтобы птицей взлететь в небо, врежется в землю, как... Как кто?
— Как крот!
— Как враг!
— Как сундук!
— Совершенно правильно, — говорю. — Как сундук... Все тонкости ГСМ проверены наукой и многолетней практикой. Тут отсебятины пороть нельзя, если мы не хотим получить чего?
— Обломков!
— Правильно. Так почему же вы, выучив теорию, не спросили у моего русского предшественника, как надо практически применять полученные знания?
— Он все делал сам, — говорят. — Вместо нас работал.
— Как сам? — удивляюсь. — Вы где были?
— Мы были очень заняты. Некогда было работать.
— Чем же, — интересуюсь, — занимались?
— У нас было массовое движение.
— Точнее! Движений у вас было много.
— Движение «Против зол».
— А потом?
— Мы били мух.
— А потом?
— А потом подводили итоги соревнования. Кто больше мух набил.
Тут я поперхнулся. Что-то с горлом случилось. Покуда я откашливался, товарищ Ян Хань поднялся и двинулся к выходу.
— Товарищ Ян, ты куда? — крикнул я.
— Я спешу, очень важное дело, — отвечает.
— Рейсовый самолет будет через четыре часа, нам надо выяснить ряд фактических вопросов, — говорю.
— Выясняйте, — отвечает.
— Так ведь это же твои подчиненные, это твоя забота! Тебе в дальнейшем придется руководить работой. Ведь я к вам не на век приехал; научу и домой поеду. У меня и дома, в Советском Союзе, дела хватает. Неужели ты думаешь, что мне в моей стране делать нечего, что я там не нужен?!
— Соберемся в другой раз, — говорит. — Потолкуем. Приходи ко мне в гости. Чай пить... С женой познакомлю, фотографии покажу. У меня много революционных заслуг: я сочувствовал партизанам. Потом Советская Армия разгромила японцев, и партизаны сумели выгнать всех империалистических «бумажных тигров» из нашей местности, а заодно католических монахов...
— Что вы монахов выгнали, — говорю, — это я только приветствую. Но посидели бы, послушали бы.
— Занят я очень! Неотложное дело.
— Какое, если не секрет?
— Предстоит пуск отрезка железной дороги в сторону Синь-цзяна. Будет торжество. Мне надо доклад написать, к празднику подготовиться
— По-моему, главное не речи, а дело.
— Ты, товарищ Веня, — улыбнулся снисходительно Ян, — плохо знаешь наши условия, особенности нашего развития. Хорошая речь на торжестве имеет огромное воспитательное значение. Она мобилизует массы. И мне очень хочется выступить с трибуны. Тебе трудно это понять.
— Может быть... Но, по-моему, самое главное все же дела. Дела-то у нас с вами трудные... Вот возьмите службу пожарной безопасности. Иду я мимо бензохранилища, вижу, стоит часовой и курит. Разве можно играть с огнем? Авиационный бензин, если он воспламенится, поздно тушить. Море огня польется по земле... Поселок, дома, люди совсем рядом...
— Не волнуйся, — говорит Ян Хань с улыбкой. — Не волнуйся. У нас столько побед, что и противопожарную безопасность мы как-нибудь осилим. Нам это не страшно... Что такое бензин? Это всего-навсего жидкость. И если он загорится, если даже и сгорит несколько домов, от этого революция не пострадает. Это все субъективизм, как сказал Мао, это равносильно тому, что запрягать лошадь позади телеги. Главное то, что теперь мы не боимся «бумажных тигров».
Он достал блокнот, что-то записал в него и ушел готовиться к празднику.
Ну а я, конечно, продолжал учить его подчиненных, как практически добавлять этилку, чтоб получить нужное октановое число. Ребята старались. Без Яна они повеселели. Начались разговоры о том, о сем... Это, конечно, между делом.
Как я и предполагал, подвели свиньи. На полосу выскочило целое стадо и побежало, хрюкая, впереди взлетающего Ли-2. Пилоты притормозили, самолет вынесло на весенний грунт, левое шасси зачавкало... И произошла авария. Спасибо, что скорость успели затушить. Отделались счастливо: сломанными шасси, смятой плоскостью, одной поврежденной рукой, двумя десятками синяков и царапин.
К месту аварии понеслись машины — стартовая, пожарная, санитарная, два автобуса. Я ремонтировал насос с товарищем Сюй Бо, когда произошло все это. С Сюй Бо мы дружили. Он звал меня Вэй. Я звал его Боря. Хороший парень. Он всегда улыбался.
Мы вскочили в «додж» и тоже помчались в конец полосы. Когда мы подъехали к месту аварии, из самолета по приставной лестнице спускались бледные пассажиры. Они молчали. Около санитарной машины стоял один из пассажиров — человек лет сорока. На нем был светлый европейский костюм, не стандартный х/б, в котором ходит почти весь Китай, костюм, явно сшитый у портного, очки в золотой оправе, во рту сверкала полоса золотых зубов. Он привычно накладывал тампоны из марли на царапины пострадавших, приклеивал пластырь.
Тут подкатил «козлик» нашей Маши. Маша работала синоптиком, запускала шарики в небо, измеряла осадки и списывала температуру с термометров. Наша Маша была особенная. Она была рыжая. Веснушки дрожали на ее лице, и вся она была пухлая. Наверное, таких девчонок специально посылают в места, где плотность женского населения — одна десятая на квадратный километр.
Она присела, заглянула под самолет и пробасила:
— Вот это да!
— Здравствуй, подруга, — спрыгнул с самолета Жорка Карапетян, самый красивый парень на трассе.
— Маня, привет! — попытался для смеха обнять Машу дядя Федя, радист.
— Без пошлостей! — оттолкнула его Маша.
Пассажиры рассаживались в автобусы. Они много пережили сегодня, и теперь им было все безразлично.
Пассажир-врач в очках с золотой оправой сказал, что он хочет пойти пешком.
— Давайте провожу, — предложил я.
— Буду очень обязан, — ответил человек в очках. — Откуда вы знаете китайский язык? Вы что, родились в Маньчжурии? — И он еще что-то добавил по-английски.
— Говорите, пожалуйста, на своем родном языке, английский не знаю, — сказал я. — Вы откуда?
— Из Америки. Жил и учился в Сан-Франциско. Ну пойдемте, или у вас еще есть дела? Я могу подождать.
— Нет, нет... Боря, — сказал я Сюй Бо, — поезжай на склад.
И мы с американским китайцем пошли пешком. Он предложил сигарету «честерфильд», а я ему «Северную пальмиру».
— Меня... зовут мистер Сюн Пэн-и, — отрекомендовался он. — Мистер Сюн... Впрочем, можете называть и «товарищ Сюн». У вас ведь тоже принято при обращении говорить «товарищ»?
Когда он сказал эти слова, мне вдруг стало скучно. Я обернулся, но Боря уже уехал, других машин тоже не было, около самолета возился бортмеханик.
— Скажите, в чем причина несчастного случая? — поинтересовался товарищ-мистер Сюн, разглядывая меня. — Так неожиданно... Я не думаю, чтоб виной тому были русские летчики.
— Правильно думаете, — ответил я. Зря я пошел с ним. Если китаец просит, чтоб его называли мистером, то товарищем он тебе никогда не будет. Это уж проверено с точностью до микрона.
— Кто же виноват?
— Свиньи.
— Простите... какие свиньи?
— Черно-бурые... Вон посмотрите, выглядывают из-за забора. Нашкодили и прячутся. Очень умные животные. Все понимают, как собаки, — объяснил я.
— Нужно их перестрелять, — сказал спокойно мистер Сюн.
— Стрелять жалко, — ответил я. — Жалко. Свинья — целое состояние для бедной семьи. У вас ведь сейчас негусто с кормежкой... Надо забор отремонтировать. Вот тогда из-за свиней не будут калечиться самолеты и люди.
— А самолет вам жалко? — спрашивает.
— Еще бы! Я когда вижу подобное, плакать хочется. Ужасно халатное отношение к технике. Нельзя так.
— Ну... это поправимо, — усмехнулся он. — В России самолетов много! Сломается один, пришлете другой...
— Да? Вы что же, считаете, что Советский Союз — бездонная бочка? Что там, сколько ни бери, сколько ни ломай, сколько на помойку ни выбрасывай, конца и края не будет? У нас государство рабочих и крестьян, а не миллионеров. Каждый винтик на заводах вот такими руками сделан. — Я показал ему свои руки в тавоте. — И если делимся, то кровным, по-братски, как куском хлеба...
Несколько минут мы прошли молча. Но я знал, что Сюн задаст еще один вопрос, обязательно должен был задать, и он задал:
— И вы верите, что Китай может перегнать такие развитые страны, как Англия, Франция? Что в Китае будет социализм?
— Обязательно! Как учил Ленин.
Мистер Сюн ухмыльнулся и посмотрел на меня с сожалением.
— Вы говорите таким тоном, будто собираетесь драться...
Я ничего не ответил, и он начал поучать. Говорил негромко, на его холеном лице сияла умиротворенность:
— Я изучал историю революции в России. Пришлось. У нашего дома были кой-какие дела в Приморье. Я понимаю, в России был закаленный рабочий класс, который возглавила партия большевиков, а вот мой брат — капиталист. Да, да, не смотрите на меня с удивлением. Он капиталист, и сейчас у него завод по ремонту машин в Кантоне. Он жив и здоров, и на жизнь ему хватает. Даже меня выписал из Сан-Франциско.
Я оторопел.
— Зачем теперь Китаю капиталист? — сказал я. — Когда к тому же мы помогаем?
— Это вопрос политический, а не экономический. Китай — величайшая страна, — философствовал Сюн. — И это величие будет расти, ломая сложившиеся границы. А знаете, сколько китайцев проживает в других странах? И наиболее влиятельная их часть — капиталисты. Их нельзя отпугивать. Они еще пригодятся...
Между прочим, мой брат доволен, — продолжал он. — Раньше были забастовки, волнения, теперь их нет и не может быть. Теперь ему спокойнее. Дело процветает.
— Все равно вас ждет участь Цзян Цзя-ши (Чан Кай-ши)! — выпалил я, чувствуя, что своей горячностью лишь радую мистера Сюна.
— Мой молодой друг, — вздохнул товарищ-мистер Сюн и закурил новую сигарету. Он как бы чувствовал себя хозяином положения и старался быть снисходительно-вежливым. — Неужели вы не слышали, что правительство красного Китая заявило, что если Цзян (Чан Кай-ши) вернется на континент, ему предоставят пост не какого-то министра, а заместителя главы правительства? Не слышали?
Мы дошли до гостиницы.
— Прощайте, — сказал он, — мой молодой друг.
— Будьте здоровы...
Лично мне не довелось знаться с вундеркиндами. Как-то не повезло. Все мои знакомые были обыкновенными людьми, которым приходилось грызть гранит науки. Конечно, где-нибудь живет гений — бегло ознакомится с таблицей умножения и сразу садится за решение задач с тремя неизвестными. Но сам я был из породы грызунов, мне наука всегда давалась великим трудом...
Поэтому я отлично понимал моего «подсоветного» Ян Ханя. У него не было навыков в учебе. Эту штуку приобретают с детства, когда идут в школу. Ян в школу не ходил. Семья у них была — одиннадцать ртов. Перебивались тем, что торговали мелкими железными вещами, или, попросту говоря, железным ломом. Ян мог с закрытыми глазами, на ощупь определить степень ржавчины гвоздей, чтоб рассортировать их в зависимости от цены за один фунт.
Но таких знаний явно не хватало для управления сложным аэродромным хозяйством. На аэродром прибывало новейшее советское оборудование — локаторы, приводные станции, автоматы, приборы...
Хорошо, что Ян Хань хоть научился читать и писать. Он окончил три года назад курсы по ликвидации неграмотности ускоренным методом. Правда, читать такие газеты, как «Жэньминь жибао», ему было трудновато: эта газета рассчитана на более подготовленного читателя. Но за событиями Ян следил. Он был любознательным. Последние новости на аэродроме писались мелом на «хэйбань» (черной доске). Для этого, правда, несколько «упрощали» и подгоняли их важные сообщения под минимальное количество иероглифов.
Например, американцы испытали новую атомную бомбу. Это сразу же отражается на «хэйбань»: «Американские империалисты построили новую бомбу. Заморские варвары не запугают великий китайский народ! Мы не боимся подлых происков «бумажных тигров»!»
И внизу рисовался цветным мелом американский агрессор с большим носом. Большой нос в Китае издавна считался позорным в отличие от больших ушей — признака уравновешенности и мудрости. Большеносыми в Китае вообще называют всех, у кого белая кожа.
Вначале Ян Хань регулярно посещал занятия, которые я проводил с техниками, слушал, записывал что-то в блокнот. Но со временем стал пропускать занятия. Наверно, Ян считал, что ему не стоит тратить время на то, что он уже знает.
Замечу, что рядовые техники учились с невероятным упорством. Они даже перестали играть в баскетбол, а это для китайца равносильно тому, ну как бы заядлый московский болельщик не пошел на стадион, когда разыгрывается кубок по хоккею между ЦСКА и «Спартаком». Невероятная вещь!
Взять хотя бы Сюй Бо, Борю. По моим подсчетам, он спал в сутки не больше четырех часов. Все что-то читал, писал, чертил.
И как-то я сказал руководящему товарищу Ян Ха-ню, что ему неплохо бы взять пример с простого техника Сюй Бо, Бори.
Ян Хань обиделся смертельно.
— Разве можно сравнить какого-то там Сюя со мной? У него есть только малые заслуги в лигуне (соревновании), а у меня огромные заслуги в военных действиях!
— У меня был дядя, — решил я привести убедительный пример. — Фамилия его была Конь. Он был лихим рубакой. Он принимал активное участие в нашей Октябрьской революции. Начал революцию безграмотным солдатом, потом стал командиром артдивизиона, потом артполка. Все свободное время он посвящал книгам. Он мне Чехова читал. «Каштанку». Есть такой русский писатель. Я впервые слушал этот рассказ, и Конь впервые его читал. И другие книги мы читали вместе, вместе смеялись и плакали. Закалка — это хорошо. Но, помимо закалки, требуются знание революционной теории, культура, кругозор.
— А ты мог бы в бою закрыть грудью амбразуру? — деловито осведомился Ян Хань. Он петушился, и, видно, ему очень нравился собственный воинственный тон.
— Как Александр Матросов? — спросил я.
— Да.
— К чему ты это спросил?
— Ты знаешь, почему он закрыл собой пулемет? Ты раздумывал над этим? — спросил Ян Хань.
Кажется, мы опять далеко отклонились от темы занятий (их я теперь проводил персонально с Ян Ханем). Ну что ж...
— Думал много раз, — сказал я. — По-моему, Матросов спасал товарищей. Ему хотелось сохранить человеческие жизни. И когда у него все возможности заставить замолчать фашистский пулемет были исчерпаны, единственным оружием осталась его собственная жизнь. И он выстрелил из этого оружия.
— Нет, — сказал Ян. — Ты не разбираешься в революционной теории.
— Как не разбираюсь?
Ян задумался, положил ногу на ногу, засучил брючину и стал почесывать ногу. У него была такая привычка — во время серьезного разговора чесать ногу.
— Сколько требуется снарядов, чтоб уничтожить дот? — спросил он деловито.
— Снарядов?.. Не знаю.
— Сто штук. А если в обороне «бумажных тигров» будет пять дотов? — вслух подсчитывал Ян Хань.
— Пятьсот, по твоим расчетам.
— Одним таким снарядом можно сжечь целый танк заморских чертей. Да?
— Ты видел когда-нибудь танки? — спросил я.
— Видел. Японский. Он на окраине деревни свалился в канаву и не мог выбраться.
— Современные видел?
— Видел на картинках, но это не имеет никакого значения. Наша сила в храбрости и несгибаемой воле. Так что же выгоднее — пять или пятьсот? Пятьсот танков или пять героев, которые закроют собой доты? И сохранят снаряды для уничтожения вражеских танков? Пять человек или пятьсот снарядов? У империалистов не хватит огня на всех нас, — гордо заявил Ян Хань.
Вообще он последнее время стал говорить со мной свысока, и у меня было такое ощущение, будто Ян Хань убежден в своем превосходстве и считает меня трусом.
А может быть, он шутит? Хотя... какие могут быть шутки!
В первые годы после провозглашения КНР чанкайшисты беспрепятственно бомбили мирный Шанхай. Гибли дети, женщины, рушились дома. По просьбе правительства народного Китая группа китайских летчиков срочно проходила переподготовку на МиГах, чтобы встать на защиту многомиллионного города Шанхая, отогнать от него американские Б-29.
В самом начале учебы наши ребята заметили, что китайских летчиков кормят очень скудно. К тому же была зима, и по указанию интендантства солдат кормили не три раза, как летом, а два, потому что зимний день короче. Наши инструкторы попросили, чтобы летчикам выдавали иную норму питания. Пекин ответил, что китайские товарищи выносливее советских, что они не любят есть помногу, ибо обжорство расслабляет волю...
А вскоре стали разбиваться машины. Как врежется МиГ в землю с высоты, так воронка словно от 500-килограммовой бомбы, потому что у современных самолетов и скорость современная, осколков от машины не остается...
Погробили много машин. Без единого выстрела со стороны чанкайшистов. А причина — голодное головокружение китайских летчиков.
Зазвонил телефон. Вася снял трубку, послушал, протянул мне:
— Веня, тебя.
Говорил старший группы Гаврилов. Вернее, он не говорил, а кричал:
— Остаченко! Ты? Что это за кавардак на аэродроме? Кто там у тебя приводным прожектором балуется? Посмотри в окно! Что за безобразие! Марш туда немедленно! Черт знает, шкуру спущу!
На улице уже было темно. В конце аэродрома, где стоял приводной прожектор, бил в звездное небо луч. Он делал какие-то непонятные восьмерки, останавливался, потом скользил дальше по Млечному Пути.
Я схватил шапку и побежал во двор.
У работающего прожектора стоял Сюй Бо, Боря. Потрескивали дуги, голубоватый столб бил вверх, в луче вихрил набухший весенний воздух, точно теплая женская рука нежно гладила притихшие звезды.
От быстрого бега я задыхался.
— В чем дело? — с трудом выдавил я.
Боря, Сюй Бо, подошел ко мне, и в отблеске света я увидел его лицо. Оно было такое, какое бывает у ребенка, когда ему читают сказку «О спящей царевне и семи богатырях».
Боря положил мне на плечо руку, заглянул в глаза и спросил тихо, точно боясь спугнуть весну:
— Вэй, как ты думаешь, вот прожектор светит... Как ты думаешь, с какой-нибудь звезды можно увидеть нас? Вот если в это время смотрят с какой-нибудь звезды на нашу Землю в сильный, самый сильный телескоп и вдруг видят на темной стороне Земли — тоненькая блестящая ниточка. Ниточка движется. Значит, на Земле есть люди... Они сигнал дают. Как думаешь: увидят нас или нет?
И в его словах было столько веры, что луч увидят с других планет, что у меня не хватило мужества ругаться, тем более разочаровывать моего друга в его надежде.
Мы сели с Сюй Бо на станину прожектора. Я обнял его.
— Будет время, — сказал я, глядя на звезды, — мы полетим туда. Это обязательно будет. Иначе не может быть. Для этого мы с тобой и родились. Чтобы человек смог пройти по всей Земле, потом сесть в корабль и... полететь к другим звездам. «Здравствуйте! Привет вам от свободных людей!» А там, куда мы прилетим, там, может быть, еще капитализм или рабство... Понял? Во обрадуются те люди, когда мы поможем им тоже стать свободными! Может быть, нам с тобой лично не удастся дожить до этого, а может, и доживем. Но без того, что мы с тобой делаем сейчас, невозможно будущее. Мы делаем Землю счастливой. Ты и я. Понял? Вот мы с тобой какие великие человеки! Более великие, чем Наполеон или Александр Македонский... Ты думаешь, что ты простой китайский парень, винтик, нолик, что, если вдруг тебя не станет, ничего на свете не изменится? Неправда, изменится! Земля на одного человека обеднеет. Траур на земле будет, что на одного человека стало меньше.
— Неужели не видно? — твердил свое Сюй, Боря. Очень его беспокоила межзвездная проблема.
— Как тебе сказать, — ответил я. — Если по правде, то не видят они там ни черта. И ни черта не знают, как мы тут с тобой живем, что думаем, о чем беседы ведем...
— Оя, как жалко!
— Чего ж хорошего? Живешь на Земле, на звезды смотришь, а тебя звезды-то и не видят и не подозревают, что ты на свете существуешь... Я вот сейчас поднимаю руку, а там, — я показал на небо, — увидят, что я поднял руку, лишь через тысячу лет...
— Ну? — совсем обалдел Бо. — Не может быть!
— Может. Ведь скорость света, Боря, хотя она...
Мы совсем забыли, что прожектор неплохо было бы выключить, что мой начальник Гаврилов наверняка смотрит из своего окна на луч и ломает голову, что мы такое затеяли. А мы мечтали... Мечтали напропалую! Даже не слышали, как за спинами натужно гудели дуги. Наверное, наши рассуждения со стороны казались глупыми, но... Это откуда смотреть: со звезды — да, с Земли, по-моему, нет.
Мэр города давал «чифан» — банкет.
Набилось нас целая машина. Сидели плотно и послушно. Местность, куда нас доставил автобус, напоминала окрестности нашего Нового Афона: такая же аллея, на горке монастырь, пахло чем-то экзотическим. Робко пересвистывались птицы. Им было еще рано свистеть вовсю. Они, видно, прикидывали свои возможности, как спортсмены перед соревнованием. Мы не мешали птицам.
Вошли в дом, в гостиной поговорили вежливо, как всегда, о погоде. Затем началась официальная часть, мужчины направились в большой зал, уселись. Наша Маша, конечно, с нами. Одна женщина на весь зал.
Первым поднял тост мэр. Выпили. Потом другой кто-то что-то сказал, и опять по рюмочке. Китайские товарищи себе лимонада наливают, нам вина. Ну, стараешься по возможности в знак дружбы поменяться с ними бокалами и прочее. Они в таких случаях не возражают и охотно меняются. На столе закусок гора. Китайский стол обладает одним свойством: сколько ни ешь, никогда не почувствуешь пресыщения. Понемножку подносят горячее. В общей сложности сорок одно блюдо — от маньтоу (пампушек) до трепангов. Через часок все оживились, у китайских товарищей лица сделались красными от вина, все встали, прошли в другой зал.
Там горели неоновые лампы, вдоль стены столики с фруктами, за столами женское общество.
Заиграл оркестр, начались танцы.
Наша Маша устремилась ко мне. Она считала, что раз я самый молодой в группе, то обязан танцевать с ней, вроде бы как нести общественную нагрузку. Я переадресовал ее Жорке Карапетяну. Маша с великой радостью согласилась.
Я стоял у двери на балкон. И ждал чего-то...
Каждую весну я ждал, что со мной произойдет что-то необыкновенное.
Помню, на Урале таял снег, на проталинах пробивалась молодая трава, по городу ходили люди в резиновых сапогах и с охотничьими ружьями, а я все ждал, ждал и был уверен, что вот-вот произойдет какая-то таинственная штука, может быть, у меня вырастут крылья, и я взлечу на них, или начну понимать язык зверей, или произойдет что-то еще более фантастическое, что и придумать-то трудно. Мало ли что может произойти весною! По-моему, весной может случиться все что угодно!
И я увидел Хао Мэй-мэй, мою знакомую, с которой встретился на Новый год.
Увидел, и все. Вроде ничего особенного. Подумаешь, увидел девушку! Я ведь и не вспоминал ее. Ну, встретил ночью на тропинке, поболтал о всякой всячине, проводил до окраины города, пожал руку...
Я не удивился, что она оказалась на банкете. У меня даже не возникло мыслей, почему она здесь, как попала. Пригласили.
То, что я увидел здесь Мэй-мэй, я воспринял как должное, само собой разумеющееся.
Я обрадовался. Хотел было прямо пойти к ней и пригласить на танец.
Надо сказать, что в Китае танцуют несколько по-иному, чем, например, на выпускном вечере в Первом московском медицинском институте. В фокстроте и танго здесь ощущается влияние народного танца «янгу». «Янгу» танцуют под ритм барабанов, размахивая руками и подпрыгивая. Поэтому даже в классическом вальсе движения несколько вразвалочку, с ноги на ногу.
Девушки стояли группкой, некоторые сидели, чистили маленькими специальными ножами яблоки: здесь обязательно чистят кожуру у яблок, потому что она толстая и безвкусная, как картон.
Разносили обязательный зеленый чай...
И еще я увидел старую знакомую Цзянь Фу, она приезжала к нам с молодыми рабочими на Новый год. Теперь Цзянь Фу опекала девчонок. Она была одета в выцветшую солдатскую форму, на ногах тяжелые бутсы. Девчонки тоже были в ботинках; в туфельках на каблуках здесь никто не ходит, их даже нет в продаже; туфли слишком дороги и к тому же считаются признаком принадлежности к буржуазному классу, классу, связанному в той или иной степени с заморскими чертями.
Я пошел к Мэй-мэй. Но почему-то остановился. Что-то остановило меня.
Я не мог сообразить, что случилось... Я глядел на Мэй-мэй и пытался собраться с мыслями, обдумать, разобраться в происходящем...
Мэй-мэй поднялась на носки. Она высматривала кого-то среди танцующих. Ростом она была меньше своих подруг. Зато подвижнее, не умела минуты постоять на месте.
Ее сразу отличишь. Совершенно непохожая на других. Как же так получилось, что тогда, при встрече на пустыре, я не разглядел глаза? Они большие, хотя и удлиненные, черные, так и сверкают... Ой, какая смешная! Какая... хорошая!
Девушки из Шанхая вообще своеобразные. Бойкие, веселые. И еще у них есть, как говорят французы, шарм. Они это отлично знают. И брючки на них сидят по-особенному, и в стандартных солдатских прическах проглядывает у них женская индивидуальность...
Я стоял и смотрел на Мэй-мэй. А кругом танцевали.
И пока я так стоял, не зная, что делать, она вдруг обернулась и заметила меня. И глаза у нее стали еще больше.
Мне вдруг сделалось жарко и душно. Я повернулся и почти выбежал на балкон.
На улице было тихо и темно. Птицы угомонились. Воздух казался тяжелым, влажным, как перед грозой...
И вдруг я вздрогнул: я всем телом ощутил, как на дереве рядом с балконом лопнула почка.
Я не видел в темноте этой почки на дереве, но ощутил, как треснула нежная липкая кожура и выглянул сморщенный, стыдливый листочек.
У меня закружилась голова. Как будто я просидел много лет в затхлом подвале, потом меня вывели в лес, толкнули в спину и сказали: «Иди. Иди на все четыре стороны. Резвись!»
На балкон кто-то вошел. Это оказалась Цзянь Фу. Она вела с собой Хао Мэй-мэй, держа ее за руку. Она подвела Мэй ко мне.
— Здравствуй, товарищ, — сказала по-русски Цзянь и подтолкнула вперед Мэй. — Она тебя знает... Она мне говорила о тебе. Я ее позвала. — И добавила уже по-китайски: — Не буду мешать, я понимаю... Старая мать понимает своих детей.
Она улыбнулась и ушла.
Удивило, что Цзянь Фу за каких-то два месяца научилась так чисто говорить по-русски. В ее возрасте требуется много настойчивости и труда, чтоб овладеть хотя бы произношением одного звука «р». Дело в том, что в китайском языке нет такого звука, поэтому, например, город Харьков будет звучать, как Хальков.
Мы стояли и смотрели друг на друга... Не знаю, сколько времени.
— Ни хао?
— Хао!
Я сказал почему-то:
— Сейчас... там... на дереве... лопнула почка.
— Я слышала, — ответила она.
— Как?
— Не знаю.
— Я знаю.
— Почему?
— Потому что весна.
— Да, — кивнула она головой.
— У меня дома четыре волнистых попугая, — сказал я.
— Два синих и два зеленых?
— Два синих...
Один попугай был белым, но я забыл об этом.
— Я знала, что ты подойдешь.
— Да?
— Да.
— Почему?
— Не знаю.
— Я знаю.
— Почему?
— Так должно было быть.
— Наверное.
— Пошли танцевать?
— Пойдем.
Это был самый содержательный разговор, какой я когда-либо вел в жизни. Тут было все. Вся мудрость человеческая, все счастье, все радости, которые были разбросаны по миру, а теперь оказались собранными в одном слове «да».
«Да» — самое прекрасное, самое нужное слово на земле.
«Нет» тоже нужное, потому что без него не может быть «да»,
Потом мы молчали, но мы не молчали ни одной секунды. Мы рассказывали друг другу все, что прожили за свою жизнь. Мы торопились рассказать. Мы делились надеждами, мы рассказывали о своем детстве и были безумно рады, что понимаем один другого без слов, что мы знаем друг друга всю жизнь. Все, все знаем друг о друге... Это со стороны казалось, что мы молчали или говорили односложные слова. На самом деле мы произносили шекспировские монологи... Вот ведь как!
Ничего вы не понимаете, люди. Ничего! Разве вы знаете, что произошло с нами? Нет, не знаете. Спросите про это у Мэй-мэй. Она вам тоже скажет, что вы не знаете. И никто не знает...
Мы знаем!
Мэй-мэй.
И я.
И она.
Мы вдвоем.
И еще почка, которая лопнула на дереве...
Мы встречались с Мэй-мэй почти каждый день. Даже куст, где мы познакомились, был назван «нашим кустом».
Мэй-мэй приезжала на велорикше. Оставляла его на окраине города, затем шла к аэродрому пешком.
Я украдкой перелезал через глинобитный забор, который тянулся вокруг летного поля, и, пригнувшись, короткими перебежками, бежал к нашему кусту.
Она подходила ко мне и смотрела себе под ноги, не решаясь от смущения поднять голову. Вначале я думал, она побаивается меня, но оказалось, что так она выражала свою радость. Она стыдилась своих чувств. Почему-то в Китае это считается зазорным, так же как красивая грудь у женщины или стройные ноги.
— О чем ты думала сегодня в двенадцать часов дня? — спрашивал я.
— Ровно в двенадцать?
— Да.
— О тебе.
— И я тоже...
Я не знал, что говорить дальше. Мы молчали. Она была покорна, как виноватый ребенок. А я чувствовал себя мужчиной. Наверное, мужчиной больше всего себя чувствуешь, когда рядом кто-то слабый, доверчивый. Я мог бы броситься в драку со слоном, чтоб только Мэй-мэй продолжала считать меня самым храбрым. Я брал ее за руку и вел по рисовым полям к подъему на плато. Мэй-мэй смелела, говорила робко:
— Пришло письмо, мама пишет, что младший братишка сломал руку.
— Упал с велосипеда?
— Да. Он все время нарушает правила уличного движения. Раньше в Шанхае не было правил. Каждый ездил как ему вздумается, а теперь ввели: машин стало очень много, но правила не соблюдаются.
— Прицепился к грузовику?
— Мой братишка может...
— Надо написать братишке письмо, — советовал я.
Мы как-то очень быстро добирались до крутых лёссовых склонов. Лезть наверх не было смысла, потому что там наверняка еще холодно. Мы забивались в узкую щель, заросшую диким виноградом. Здесь было тепло. Все в зелени. Мы ложились на траву и смотрели в небо.
— Прочти какое-нибудь русское стихотворение, — просила Мэй-мэй. Она очень любила стихи.
И я читал ей стихи на русском или украинском языках. По-моему, она хорошо понимала их. Иногда лишь просила перевести. Это было очень занятно — переводить стихи.
Я любил одно стихотворение. Не помнил, кто его автор, но оно мне очень нравилось.
Выглядел мой перевод приблизительно так:
Если я еще сравнительно легко переводил подстрочно смысл первых четырех строк, то восьмую, «обленились в доску», переводил с большим трудом.
— Стали ленивые, как доска, — пытался я импровизировать. — Это значит... Люди сидят в поезде, никуда не ходят, сидят целыми днями и ничего не делают. Понимаешь, что получается в таких случаях? Они ленивые, как доска. Доску если не передвинешь, она сама не передвинется. И люди от лени становятся такими же, как доска. Их надо двигать.
Если мой перевод вообще и мог кому-нибудь доставить удовольствие, так это одной лишь Мэй-мэй.
Мэй-мэй улыбалась. Она как-то по-особенному улыбалась, глядя в сторону, точно отворачивалась. Брала ветку, писала на сухом податливом лёссе четыре строки стихов поэта Танской эпохи Ван Вэя. В свое время это был популярный поэт. Он занимался также живописью. Современники говорили, что Ван Вэй «в стихах видит живопись, а в живописи видит поэзию».
Я не знал значения написанных Мэй-мэй иероглифов и много от этого терял. Стих был написан на «вень-яне» (древнем литературном языке), а он не воспринимался на слух. В каждом иероглифе заключалась целая картинка, которую я не мог видеть. Но я видел Мэй-мэй, и ее глаза давали мне возможность прочитать то, чего не прочел бы в стихах ни один любитель древней поэзии. В глазах любимой я видел целый мир и самого себя.
Недавно в Ленинграде мне удалось найти поэтический перевод этих стихов Ван Вэя, сделанный покойным академиком М. Алексеевым:
Странно. Эти стихи написаны 1200 лет назад, но они были написаны про нас с Мэй-мэй. Такая поэзия бессмертна.
В нашем ущелье тоже не было видно людей, но сюда доносились шум города, гудки паровозов. От земли исходило тепло, радостно светило солнце, а его лучи, отражаясь в ручье, прыгали зайчиком по темной стороне ущелья. Ручей, зайчики и звуки были одно целое...
А мы, мы были стихами всех поэтов всех эпох и народов.
Ведь за всю историю человечества стихи писались только про нас: про меня и мою подругу Хао Мэй-мэй.
А разве не так?
Тот дождь я запомнил на всю жизнь. Облака наступали на лощину, в которой лежал город, сталкивались, клубились над самыми крышами домов.
Казалось, если бы поднять землю, перевернуть и потрясти, из нее бы потекла вода. Трава и деревья набухли влагой, река наполнилась дикой яростью, взбунтовалась. Она ревела и прыгала меж низких дамб, как акула на мелководье.
В здании клуба на сцене стоял стол. Над столом висел портрет Мао Цзэ-дуна.
К столу вышел ведущий собрание, вынул из кармана свисток. Свистнул пронзительно.
Все присутствующие поднялись со своих мест.
Ведущий повернулся к портрету председателя Мао, низко поклонился ему. Присутствующие в зале сделали то же самое. Портрету Мао кланялись не только на собраниях, но и на свадьбах, и на всех других торжествах.
Еще раз прозвучал свисток.
Все сели. Собрание началось.
В мире существует много разновидностей заседаний и собраний: производственные, хозяйственные, летучки, пятиминутки, конференции, симпозиумы, митинги, чествования, выборы, общие собрания и прочие и прочие.
Но такое я видел впервые.
Конечно, собрания нужны. Нужны деловые встречи людей, когда вместе обсуждают важные вопросы, принимают решения к действию.
В Китае, когда я там жил и работал, собрания превратились в своего рода производственный процесс. И это несмотря на то, что с бюрократизмом в стране боролись в гигантском масштабе. По три-четыре месяца никого нельзя было застать на рабочем месте: все поголовно сидели на собраниях по борьбе с бюрократизмом.
Советские специалисты за голову хватались, просили:
— Может, хватит бороться? Давайте немножко поработаем...
Но вернемся к собранию, о котором я повел речь. За окном хлестал дождь, работники службы ГСМ продолжали упорно заседать.
Ведущий огласил список фамилий. Названные встали, прошли к столу президиума. Ведение собраний было унифицировано. Движение по борьбе с бюрократизмом не прошло бесследно: из порядка ведения были изъяты такие «ненужные» проволочки, как выдвижение кандидатур, голосование и так далее. Поклонились, назначили, встали, сели, продолжили.
На повестке дня стоял вопрос о помпе.
Не в переносном смысле слова, в самом прямом. О насосе, который откачивает горючее, когда из пункта А в пункт Б прибывает железнодорожный состав с цистернами. Условия задачи оставались неизменными: один подъездной путь, один тупик для маневра, одна «кукушка» для передвижения цистерн и те же двадцать четыре часа в сутки, которые не растягиваются как резина.
Решение было найдено быстро. Ян Хань предложил не бояться трудностей, не пасовать перед ними, пустить помпу не на двух тысячах оборотов, а на трех, даже на трех с половиной.
Все это было бы, конечно, замечательно, если бы не существовало одно маленькое «но».
Пришлось встать, хотя моя фамилия и не упоминалась в списке выступающих, сказать с места:
— Извините, товарищи! Я обязан дать справку. Есть документ, который называется техническим паспортом. Так вот, по паспорту у помпы допускается норма — две тысячи оборотов. Это связано с напряжением тока, с режимом работы... Если, разумеется, мы не хотим, чтоб расплавились подшипники или перегорела обмотка электродвигателя.
Я сел.
Ян Ханя обидели слова, что у машины есть паспорт. Но я в этом не был виноват.
— Товарищ Веня, — сказал Ян Хань с вызовом. — Ты находишься в плену осторожности. Ты привык к технике, погряз в ней и поэтому не знаешь ее возможностей. Ты не хочешь дерзать, идешь на одной ноге, а Мао Цзэ-дун учит нас ходить на двух ногах... Ты прости меня, ты просто предельщик! Это потому, что ты не знаешь призывов Великого Кормчего, остановился в своем развитии.
Этого я, признаться, не ожидал. Предельщик?! Значит, не заинтересован в строительстве социализма в Китае. Вроде товарища-мистера Сюня? Выходит, я не хочу, чтоб китайцы лучше питались, лучше одевались, были здоровыми, счастливыми, грамотными?
— Нет уж, извините! — опять встал я. — Я нарушаю порядок ведения, но хочу спросить... Предположим, у тебя, Ян, есть лошадь. Сильная, выносливая. На ней можно десять лет возить грузы, и вот ты ее погнал аллюром. День гонишь, два гонишь. На третий она падет — и ребра наружу...
— Ты предлагаешь ползти черепахой, когда можно до цели доехать за один день! — с пафосом воскликнул Ян Хань. — Ну-ка пусть выскажется Сюй Бо. Пусть он скажет, как изменилась его идеология после вчерашнего изучения цитат великого Мао...
Поднимается техник Сюй Бо, мой друг-мечтатель. Стоит, мнется, смотрит под ноги. Вроде стыдится.
— Скажи, выскажи советскому технику, — приказывает Ян Хань, — свое мнение. Может ли помпа работать на трех тысячах оборотов? Ну?
— Может... Но...
— Может работать! И я говорю, что может, — подвел итог спора Ян Хань. — Как учит великий Мао.
— Но это будет работа на износ, — робко замечает Сюй Бо. — Это значит загнать машину...
— Не надо пугаться, — успокоил Ян Хань. — Если случится такое, то упрек будет в первую очередь тому советскому заводу, который поставляет нам устаревшее оборудование.
— Оборудование совершенно новое! — возмутился я.
— Это вчера оно было новым. Сегодня оно уже устарело, — твердо заявил товарищ Ян. — Техническая мысль не стоит на месте... Итак, кто за то, чтобы преодолеть предел, поднимайте руки!
И руки поднялись.
Происходило что-то непонятное, неуловимое и, может быть, поэтому тревожное. Когда это странное началось, затрудняюсь сказать. Я был счастлив. Я любил. Я многого не замечал или не обращал внимания. Влюбленные — самые черствые люди на земле, они токуют, как глухари, и ничего, кроме самих себя, не видят, их можно брать голыми руками. Это не значит, что я стал хуже относиться к работе, наоборот, у меня появилась невероятная энергия, я брал на себя все новые обязанности и с удивлением вдруг почувствовал, что кто-то или что-то встало на моем пути, точно невидимые заборы окружили меня, я натыкаюсь на них и отскакиваю, меня отбрасывает в сторону. Так бывает во сне, когда ты бежишь изо всех сил и чувствуешь, что стоишь на месте.
Я искал причины в себе...
Хорошо, рассуждал я, предположим, упрямство Яна и еще тысячи неувязок происходят оттого, что я недостаточно времени уделяю работе, общению с китайскими товарищами. Но ведь это не так. От моих встреч с Мэй никакого вреда общему делу нет, никто и не замечает моих отлучек к реке. Может быть, я «уронил свое лицо», совершил какой-нибудь недостойный поступок, обидел чем-нибудь не в меру самовлюбленного Яна? Нет! Последнее время Ян чего-то совсем раздулся от важности. Сын бывшего мелкого торговца металлоломом заправлял теперь огромным современным сложным аэродромным хозяйством. В собственных глазах он вырос до небес. Я видел однажды, как к нему в гости приехал из глухой деревни дядя. Они сидели за столом, им прислуживала жена Яна.
Кстати, еще одна деталь. Ян запретил жене учиться на курсах синоптиков, которые возглавляла наша Маша. Маша по своей душевной простоте возмутилась и ляпнула Яну в глаза:
— Феодал ты! Будь я твоя жена, я бы научила тебя уму-разуму!
Ян сухо ответил:
— Она плохо себя чувствует.
Маше влетело от Гаврилова по первое число, ибо существовала строгая инструкция: не вмешиваться во внутренние дела китайских товарищей, тем более в личные. Строгая инструкция, возможно, даже слишком строгая... Но мы обязаны были ее выполнять.
Дядя из деревни был намного старше Яна. Он сидел за столом в черном сюртуке, в коричневой войлочной шапочке. Почему-то он стеснялся снять ее. Он с почтением слушал племянника. Для китайцев подобное почтительное отношение, близкое к раболепию старшего перед младшим, значило невероятно много... Ян восседал маленьким богдыханом, угощал родственника пивом. Оба раскраснелись от одной бутылки. Говорил Ян медленно, важно, а дядя кивал головой, и на лице его было написано, что он потрясен величием племянника...
Может быть, Ян обижался на меня, что я не оказываю ему подобных почестей? Но чего ему передо мной задирать нос, когда всему, что он знает, научил его я... Ведь он еще к тому же и недоучился, нахватался верхов, зазнался. Элементарно зазнался, а за этим могло последовать множество ошибок, просчетов. Взять хотя бы случай с помпой.
Нет, дело не во мне...
Как-то случайно я с технарями пошел смотреть кинокартину на историческую тему. В гулкой казарме многие сидели прямо на полу. Я пристроился на скамейке рядом с Сюй Бо, Борей.
Перед началом демонстрации фильма выступил политработник, друг Яна:
— Товарищи, сейчас мы посмотрим фильм, как большеносые получили удар по носу еще сто лет назад. Как непобедимая армия Линь Цзэ-сюя громила большеносых. Заморские варвары хотели поставить на колени наш героический народ. И никогда бы они не победили Линь Цзэ-сюя, если бы они не были подлые и трусливые...
Я знаком с историей Китая не слишком хорошо, но знал, что Линь Цзэ-сюй был чиновником циньских императоров. Сто лет назад он приехал в Кантон губернатором и повел решительную борьбу с торговцами опиумом — сжег много ящиков с их товаром. Из-за этого и началась Первая опиумная война, которая закончилась для Китая поражением и подписанием первого неравноправного грабительского договора.
Линь Цзэ-сюй мог бы потопить несколько английских шхун. Но в любом случае не мог выиграть войну. У англичан была первоклассная армия, могучий флот, пушки, а у противника пики и ножи. В Англии шло полным ходом капиталистическое развитие, а Срединное государство пребывало в феодальном полусне. Феодализм не мог соперничать с капитализмом.
Артист, исполняющий в картине роль Линь Цзэ-сюя, ходил церемонно, как герой в пекинской опере, гладил бороду, делал угрожающие движения и посылал серьезные предупреждения заморским варварам. Империалисты дрожали.
И не было в фильме жестокого гнета феодалов, крестьянских восстаний. Точно в то время в Китае царил классовый мир.
Я сидел и думал. Я с детства воспитан в духе уважения к трудовому человеку — белому или черному, все равно. Я еще мальчишкой мечтал помочь всем рикшам на земном шаре. И если бы потребовалось, не задумываясь отдал бы свою жизнь за свободу народа любой страны, как за свободу своей Родины.
— Эй, ребята, — толкнул я соседей, китайских техников. — Посмотрите, разве мой нос больше, чем у Сюй Бо?
Трещал аппарат... Глаза уже привыкли к полутьме зрительного зала, так что можно было разглядеть лица. Техники посмотрели и ничего не ответили.
Я чувствовал, что происходящее на экране действует на них возбуждающе и что я почему-то вдруг стал для них чем-то похожим на «заморского черта».
Вспоминаю, как однажды в Мукдене я смотрел с китайскими ребятами наш фильм об Отечественной войне. Когда на экране русские солдаты пошли в атаку с криком «ура!», мои хлопцы закричали: «Ша! Ша!» Это вроде русского боевого клича.
А после киносеанса китайские парни сказали:
— Веня, представляешь, если бы в сорок первом Китай и Союз дружили, как сейчас, никакой бы Гитлер не осмелился напасть. Пусть только тронут теперь кого-нибудь из нас... Правда? Мы друг за друга жизни не пожалеем...
Что-то менялось в самой атмосфере отношений между китайскими ребятами, работающими на аэродроме, и нами, советскими людьми. Что именно, я не мог точно сказать. Нам лишь предписывалось быть, как всегда, сдержанными, вежливыми, работать четко, проявлять терпимость.
Иной раз было трудно сдержаться. Как-то я играл в пинг-понг «на высадку». Проиграл партию, занял очередь, сидел, ждал, судил. Подошла моя пора, я встал, намереваясь взять ракетку, но ее демонстративно схватил солдат из охраны, довольно разбитной малый, которого не раз критиковали на собраниях за разгильдяйство и нерадивость.
— Моя очередь, — сказал я.
Он ничего не ответил... Нужно знать, что значит здесь, когда не отвечают. Я видел лица моих «подсоветных». Они растерялись больше меня. Но некоторые были довольны: самые тупые технари, которых не отчислили с занятий только благодаря моему заступничеству.
Мне не удалось играть ни следующую партию, ни третью. Честно скажу, будь это в Союзе, я бы поставил нахала на место.
Неожиданно исчезла куда-то Цзянь Фу. Это уже насторожило нашу группу.
— Слушай, Остаченко, — зашел как-то ко мне Поддубный, — не понимаю, что происходит. Была революционерка. Сейчас кого ни спрошу о ней, молчат... Она же настоящий товарищ. В Советский Союз собиралась ехать, перенимать опыт партийной и государственной работы, русский изучала. Она была руководителем местного отделения Общества китайско-советской дружбы. Не знаешь ли, в чем дело?
Я не знал. На все мои вопросы следовало молчание. Даже Сюй Бо, который последнее время стал какой-то нервный и явно избегал оставаться со мной наедине, даже он ничего не ответил, а отвел глаза в сторону и покраснел до слез.
Лишь через месяц нам между прочим сказали:
— Цзянь Фу вышла замуж... И уехала к мужу.
Это было невероятно. Цзянь Фу была верной памяти своего мужа, с которым прошла гоминдановские застенки, и не помышляла о втором замужестве. К тому же ей было за сорок, для китайской женщины это весьма солидный возраст.
Объяснила происшедшее Хао Мэй-мэй.
 |
Погода была отвратительной, город лежал, как солдат в крытом окопе. С двух сторон лёссовые стены, вместо наката серые тучи, тучи-домоседы плотностью в десять баллов. Они висели низко, почти у самых крыш домов.
Мэй-мэй не приходила несколько дней. Последнее время у нее было особенно много работы. Она заметно похудела. Бесполезно было, конечно, говорить, чтоб она береглась, побольше отдыхала. Миллионы китайцев тянулись к грамоте, а она была одной из тех, кто нес людям знания, и отдавалась своему долгу самозабвенно. Меня угнетало, что я ничем не могу ей помочь. Если бы мы всегда были вместе, я готовил бы обед, провожал бы и встречал ее у школы, нес бы толстую сумку с учебниками...
Мы пошли к реке. Облака не отражались в воде, слишком мутной была она от лёсса, как пульпа.
На берегу было сыро. Я снял пиджак, набросил на плечи Мэй-мэй.
На противоположной от нас стороне реки ворочалось колесище наподобие водяной мельницы. Быстрое течение вращало его, колесо захватывало черпаками воду, поднимало на высоту второго этажа и опрокидывало в желоба, откуда вода бежала на рисовые поля.
Мы стояли у реки. У Мэй-мэй горели щеки.
— Поезжай домой, — сказал я. — У тебя температура. Полежи.
— Мне не холодно, — ответила она.
— Ноги промочила. Еще заболеешь...
— Мама тоже всегда боялась, что я заболею.
— Ты очень хрупкая.
— Я сильная.
— Знаешь, — сказал я, — скоро у меня отпуск. Я поеду домой. Что тебе привезти из Союза?
Мэй как-то странно поглядела на меня, глаза ее расширились.
— Как едешь домой? В отпуск?
— Я расскажу про тебя отцу.
— Ты женат?
— Нет, что ты... Нет, дорогая, положен отпуск.
— Как положен? Ты говоришь неправду.
Причину ее недоверия я понял позднее. Оказывается, многие китайские товарищи жили отдельно от своих семей, в семьях им разрешалось бывать лишь по праздникам. Это называлось отпуском. На такие отпуска, как у нас, китайские трудящиеся не имеют права. Холостых и по праздникам не отпускали к семьям. Объяснялось это тем, что семья отнимает много времени, гораздо полезнее затратить его на то, чтобы бить воробьев или изучать труды председателя Мао.
Чувствуя настороженность Мэй, я попытался перевести разговор на другое:
— Помнишь, на танцах у мэра с тобой была женщина, старая революционерка, председатель Общества китайско-советской дружбы, товарищ Цзянь Фу. Ее что-что не видно. Говорят, она вышла замуж...
Мэй замерла, оглянулась, я заметил, как у нее тряслись руки. Она стояла бледная, прикусила губу, в ее глазах взорвался испуг...
— Что с тобой?
— Вэй, зачем спросил?
— Разве нельзя?
— Ты сам знаешь...
— Что? Чего оглядываешься? Что знаю?
— Ее раскритиковали...
О, слово «пипин» — «критиковать» — я знал. Когда я приехал в Китай, не раз видел, как прямо на улице, у стола с красной скатертью, критиковали человека, обвиненного в контрреволюции, в бюрократизме, в коррупции и т. д. Если случалось возвращаться той же улицей, я видел порой, как раскритикованный валялся в пыли...
— Разве Цзянь Фу контрреволюционерка? — вырвалось у меня. — Она революцию делала, не выдала красное подполье в Тяньцзине, когда ее схватили гоминдановцы.
— Ее немножко критиковали, не совсем, — ответила Мэй, как бы успокаивая меня. — Сказали, что боялась трудностей, что у нее появились буржуазные желания — она хотела уехать в Советский Союз, вместо того чтоб переносить трудности.
— Что с ней сделали?
— Послали на перевоспитание в деревню. Чтоб она была ближе к народу, знала его нужды...
— Мэй, если уж она не знала народа, тогда кто же знает! Ты спутала, наверное. Она... Да товарищ Фу лучшие годы своей жизни отдала революции, народу. Помнишь, как жила, во что одевалась? Она все отдавала работе, людям, вам, девушкам. Она хотела поехать в Советский Союз, чтоб потом лучше, успешнее работать у себя дома.
— Ты прав, — сказала Мэй и опустила голову. — Фу незаслуженно критиковали. Но так приказали.
— Кто? Кто приказал?
— Я тоже боюсь...
— Чего боишься? Чего смотришь по сторонам? Мы любим друг друга. Разве от этого революция страдает? Разве дружба между нашими народами страдает? Хочешь, не поеду в отпуск? Ты бы пошла за меня замуж?
Она ничего не ответила, улыбнулась, откинула прядь волос со лба.
Мы вернулись к нашему кусту.
Когда любишь, каждая мелочь, которая соединила тебя с любимой, приобретает символическое значение. У каждой пары есть своя скамейка или своя лестница. Недаром празднуют серебряные и золотые свадьбы.
Из нашего куста выпорхнула пичуга, защебетала. Я осторожно раздвинул ветку — гнездо. В гнезде четыре яичка, каждое в крапинках, как веснушки на носу.
И вдруг Мэй-мэй привстала на носки. Она дотянулась до моего подбородка. Я видел ее губы... Они были влажные.
Она тянулась ко мне, глаза ее еще были испуганные и в то же время счастливые. Она верила мне, она вся была в моей власти, маленькая и послушная, преданная и моя... Моя Мэй!
Я поцеловал ее.
А потом посмотрел на небо. Облака сдвинулись с места и поплыли.
Трудно говорить о любви. У людей очень мало слов, чтобы высказать все, что они чувствуют, когда счастливы. Беду можно расписать так, что волосы встанут дыбом. Но попробуй передать, что тебе хорошо.
Скажешь: «Хорошо». И все... Счастливый человек зачастую говорит совсем не то, что нужно. Или просто молчит. И весь светится...
На счастливого нужно смотреть. На его лице больше написано, чем он может сказать.
Хао Мэй-мэй повернулась и побежала по тропинке к фанзам. Она все время оборачивалась и махала рукой. Я хотел броситься за ней, догнать... И не посмел.
Когда она ушла, я опять поднял голову и очень удивился. Облака-то, оказывается, и не двигались с места. Никуда они не плыли... Полился дождь.
Беда всегда приходит неожиданно. Но эта была долгожданной в том смысле, что она могла обрушиться со дня на день. Дамбы были старыми, содержались в плохом состоянии, а тут дожди... Ливень смывал лёсс со склонов, река взбухла, взъярилась. Первым человеком, почувствовавшим опасность, оказалась наша Маша.
Гаврилов объявил аврал. Он вызвал меня по телефону. Когда я прибежал на командный пункт аэродрома, наши были в сборе. Гаврилов метался по комнате, на нем были высокие резиновые охотничьи сапоги, штормовка валялась на столе.
— Товарищи, — сказал он. — Думайте, шевелите мозгами. Надо что-то срочно предпринять. Я пытался связаться по телефону с Урумчи, хоть доложить обстановку.
— Надо съездить к местным властям, — предложил кто-то.
— Был, черт его знает... — Гаврилов сдерживался. — Я им про то, что прорвет дамбы, они спокойны, угостили чаем, говорят: «Не волнуйтесь. Вас это не касается. Ирригационные сооружения нам достались в отвратительном состоянии от проклятого прошлого. У нас всегда были наводнения и будут. Мол, однажды Хуанхэ переменила русло, погибло несколько миллионов человек за ночь, четыре года назад на северо-востоке, под Сыпингаем, наводнение произошло ночью, тоже десятки тысяч человек утонули... И нечего волноваться. Нам не страшны удары природы, раз мы не боимся даже империалистов...»
— Если зальет аэродром, — сказала Маша, — миллионные убытки. Столько труда вложили...
— Что бы ни случилось, — сказал Гаврилов, — мы останемся на своих местах. Останемся, пусть даже земля разверзнется, не только хляби небесные.
Потом мы разошлись каждый к себе.
Ян Ханя я не нашел. Не знаю, может быть, это было нарушение инструкции, но я взял всю ответственность на себя. Как назло, подогнали эшелон с горючим. С трудом настоял, чтоб его оттащили за станцию, на более высокое место. Заваруха была полная.
Прибежали Гаврилов с Поддубным, и мы втроем кинулись к ближайшей дамбе, чтоб выяснить обстановку.
Народу на берегу тьма-тьмущая. Казалось, земля двигалась, копошилась, чавкала, дышала. Люди бежали друг за другом цепочкой. На плечах коромысла с корзинами. В корзинах комки размокшей глины. Она липла к рукам, когда ее выгребали, к ногам, когда на нее наступали.
Комок, еще комок. Миллионы комков.
Один за другим, один за другим бежали худые, отупевшие от усталости люди. Как капли в дожде. Им надо было опережать дождь, чтобы река не успевала унести землю, не размыла, не прорвала дамбу.
Шлеп, шлеп. Ноги, ноги.
Шлеп, шлеп. Комок, комок.
Бегут носильщики цепочкой. Согбенные, прозрачные от голода, мокрые, босые, в соломенных дырявых шляпах, в рваных накидках из травы. Население города без приказа, без понукания вышло на работу.
Один за другим, один за другим бежали люди с корзинками.
Сюда бы пару экскаваторов! Да что пару, хотя бы один. С ковшом и на гусеничном ходу.
В свое время Гаврилов настойчиво требовал прислать экскаватор для ремонта грунтовой полосы аэродрома. Составил заявку, отослал в Пекин. Ответа долго не было. Потом пришла телеграмма — отказали: мол, здесь нерентабельно использовать землеройные машины, это не Европа. Куда дешевле и целесообразнее работу выполнить корзиночками: во-первых, это дает трудовую занятость, во-вторых, сплачивает массы, прививает навыки коллективизма.
Мы поднялись по откосу на дамбу. Глина ползла под ногами. Хотелось двигаться на четвереньках — надежнее. Нас обгоняла вереница носильщиков. Они не глядели ни на нас, ни по сторонам. Там, где возникала непосредственная опасность прорыва, учащался бег людей. Без команды, без какого-нибудь сигнала. Так в живом организме к ране бросаются белые кровяные шарики, чтобы блокировать ее. Дамба была живым организмом — с тысячью рук, тысячью ног, тысячью сердец.
— Надо помочь, — сказал Гаврилов. — Но как? Чем практически мы можем помочь? Хоть ногти кусай!
Рядом три китайца трамбовали глину деревянной болванкой.
— Иге... Лянге... Да! — тянули они сипло китайскую «Дубинушку». — Иге... Лянге... Да!
Наша Маша не умела рассуждать, она была человеком действия. Непонятным образом она тоже оказалась здесь.
— Дай-ка, друг, — сказала девушка одному. — Отдохни... Посторонись! Ух!
Болванка вбила в дамбу комки глины. Но и Маша не могла заменить экскаватор.
— Братцы! Глядите! Что это? — раздался голос Поддубного. — Что он там делает?
Река несла человека. Он показывался над пепельными волнами, исчезал. Вода играла им. Человек не кричал, не махал руками, не звал на помощь. Он погибал. Знал, что погибает, и не сопротивлялся.
А дамба надстраивалась. Жила. Из нее выпало лишь маленькое звено — один человек, как комок глины, слизанный волной. Вереницы носильщиков бежали на штурм реки, точно солдаты в атаку по пешеходным мосткам через трясину... Упал в воду один. Один китаец из шестисот миллионов. Что ж, погиб так погиб.
Один, но ведь это человек!
В чью-то семью сегодня придет горе. Этот один мог быть моим братом, другом, он мог быть мною, тобой, им...
Я сбросил штормовку, свитер и прыгнул в воду. Холод сковывал движения, холод подбирался к легким, сжимал дыхание. Отвратительная, грязная, отдающая непроточной канавой вода захлестывала. Я выплевывал ее. Потом забыл про вкус и запах. Не следовало снимать свитер, может быть, не так холодно было бы плыть. Быстрее! Быстрее! Чтобы успеть, тогда и разогреешься.
Волна ударила сбоку, накрыла, потянула вниз.
Нет, шутишь, ведьма!
Еще несколько взмахов. Китаец где-то рядом. Вот показался... И опять не видно. Я набрал воздуха, нырнул. Глубже. В ушах запищал комар. Смотреть в такой воде бесполезно. Пульпа. Еще раз нырнул. Еще... Шарил в ледяной тьме руками. Коснулся... Одежда, пола куртки. Ухватил, рванул вверх.
Человек не помогал мне и не мешал. Он был покорен реке и стал покорен мне.
— Плыви, плыви! — кричал я. — Еще, еще...
Он вяло повел руками, задел случайно мое лицо и опять перестал двигаться. Может быть, захлебнулся?
Я приподнял его голову над водой, он глотал воздух жадно, как голодный старец манную кашу. Живой! Обессилел. Я тоже. Совсем. Не хватает дыхания...
Огромными саженками плыл Гаврилов.
— Держись! — гремел он на всю реку. — Держитесь, братки!
Быстрее, Гаврилыч, милый, быстрее!
Труднее всего оказалось взобраться на дамбу. Не за что уцепиться, глина продавливалась под пальцами бороздками, крутило и несло вниз... Маша кинула нам веревку, мы обвязали ею спасенного, а затем, не помню уж точно как, выбрались сами.
Дождь кончился ночью.
А днем палило солнце, лужи высыхали на глазах, и через сутки земля начала трескаться.
Четыре дня я провалялся в постели, что-то случилось с желудком, видно, вода с лёссом оказалась для него неподходящей. Он ведь не рисовое поле. На пятый день я выбрался с аэродрома и побежал к «нашему кусту». Меня одолевало предчувствие, что с Мэй-мэй что-то случилось. Тревожили ее слова, сказанные в нашу последнюю встречу: «Я боюсь...»
Чего она могла опасаться? Что ей могло грозить?
Я обошел куст... И понял, что она не приходила сюда. Мы договорились, что если один по каким-нибудь причинам не сможет прийти в условленное время, то другой обязательно оставит о себе весточку — записку под камнем.
Наверняка она работала на дамбе, подумал я. Она такая, Мэй, за чужими спинами не прячется, лезет в пекло... А вдруг она тоже сорвалась в реку?
И мне так захотелось ее увидеть, что я побежал к городу. И впервые без сопровождающего охранника вышел на улицу.
Город казался безлюдным.
Редкие прохожие не обращали на меня внимания. Лишь торговец овощами под навесом из камыша долго и сонно глядел вслед.
Меня мутило. Кололо под лопаткой, ныл каждый мускул, а в животе лежал кирпич, даже два кирпича, они терлись друг о друга. Я задыхался от усталости. Выступил пот. За час, от силы за два надо успеть в оба конца, пока не хватилась охрана аэродрома.
Попался велорикша.
— Вэй! Иди сюда, — позвал я его.
Он увидел, что я русский, заулыбался, подкатил на третьей скорости.
— Знаешь, где улица Пяти источников? — сказал я.
— Да!.. Ты можешь говорить по-китайски? Откуда знаешь? Очень хорошо говоришь... Как тебя зовут, а?
— Я очень спешу. Зовут Вэй. А тебя как?
— Ван... Ван-шутник. Я очень люблю пошутить.
— Хорошо, я тоже люблю шутки. Слушай внимательно. Сейчас сядешь на место пассажира. А я на твое место. И ты будешь говорить мне, куда поворачивать, чтобы доехать до улицы Пяти источников.
— Эй-я! — оторопел Ван-шутник. — Странные у тебя шутки.
У меня не было с собой денег. Я снял часы и протянул ему.
— Не! — двумя руками оттолкнул подарок Ван-шутник. — Не надо. Я так довезу, бесплатно...
Разводить споры было некогда. Я затолкал Вана в коляску, сам вскочил на его место, нажал на педали. Везти человека оказалось легче, чем я думал. Если бы только меня не мутило, как при морской болезни.
Вот улица Пяти источников. Нужный дом. Я вошел в него. Узкий двор. Слева и справа вдоль стен деревянные переходы. Я поднялся по скользкой лестнице на второй этаж, постучал в первую же дверь.
В комнате оказалась женщина. Почему-то запомнилось, что на ней была кофточка без рукавов, сшитая из блестящей материи наподобие клеенки. Женщина сушила над жаровней пестрое ватное одеяло. Пахло дымом и несвежей постелью. В комнате, кроме настила, служившего кроватью, стоял лишь столик.
— Где живет учительница Хао Мэй-мэй? — спросил я с порога.
Женщина некоторое время с любопытством рассматривала меня. Свернула одеяло, ничего не ответила.
— Мне нужно увидеть учительницу Хао Мэй-мэй.
— Ты тот советский человек, который работает на аэродроме? — спросила женщина. Она присела на корточки, подложила угля в жаровню.
— Да, тот самый человек... Мэй здорова?
— Она променяла своего на чужого, на тебя? Китайская девушка полюбила иностранца.
— Покажите, где она живет.
— Не торопись. Ты хорошо говоришь по-китайски. Мэй-мэй научила? Хорошая была учительница, моих детей учила. — Женщина накинула на плечи одеяло, вышла на площадку, повела по лестницам в глубину двора.
— У нас было собрание, — сказала она, не оборачиваясь. — Критиковали Мэй-мэй. За то, что она променяла своих на чужого, захотела легкой жизни.
— Как... критиковали?
— На собрании. Собрали всех с улицы. Потребовали, чтобы она признала свои ошибки, чтобы призналась перед всеми, что разложилась, обуржуазилась. А ты признал свои ошибки? — Женщина покосилась на меня через плечо, кутаясь в одеяло.
— Но мы ничего плохого не сделали...
— Да, видно, ты не знаешь нашей жизни. Не понимаешь... Нельзя китайской девушке встречаться с иностранцем. Иностранец уедет, девушке отвечать придется. Ты ведь большеносый.
Мы подошли к двери, оклеенной синей бумагой. В комнате находились пять девчонок. Они встали, вытянулись, посмотрели на меня широко раскрытыми глазами. Не хихикали, не подмигивали друг дружке. Они были как испуганные птицы.
— Вот ее комната... это ее подруги. Тут она жила, — ворчливо сказала женщина. — У меня таких подруг нет, и я не хочу иметь... Они ее критиковали.
— Где Мэй? — Я вошел в комнату. — Где она? Что с ней?
— Ее нет, она уехала, — ответила девчонка с косичками и покраснела до слез.
— Куда?
Девчонка отвернулась и заревела. Плечики вздрагивают, и косички подпрыгивают на спине.
— А-а-а! — заворчала хрипло женщина, еще плотнее кутаясь в одеяло. — Теперь ревут. Что же на собрании молчали, не защищали подругу? Нет ее, Хао Мэй-мэй, нашей маленькой учительницы. Ее послали на трудовую закалку. За то, что она не дорожила родиной, променяла своих на чужого. Ей захотелось личного счастья, вкусно кушать и красиво одеваться, как иностранные черти. Я тоже хочу вкусно кушать. У меня пятеро детей, и они тоже хотят. Я ничего не говорила на собрании Я ее понимаю. Да! Можете меня следующий раз тоже критиковать. Слышите! Не активистки вы, а дуры. Не могли защитить подругу. Она вам рассказала об этом парне, а вы... Дуры! Каждая из вас захочет иметь ребенка, захочет, чтобы он был сытым. И это контрреволюция?
Откуда-то появился Лю-переводчик. С ним охранники. Как они оказались в доме Хао Мэй-мэй? Позднее я узнал, что меня увидели военные, как я вез рикшу. Они позвонили в свою часть, те на аэродром.
По дороге домой я твердил как заведенный: «Моя машинка бьет!.. Моя машинка бьет!»
Только эту фразу.
Из Пекина пришла бумага, в которой китайское правительство благодарило меня за помощь в развитии народного хозяйства КНР. К бумаге была приложена медаль «Дружба», к медали розовое удостоверение за подписью председателя Мао.
Лю зачитал послание от местного руководства: «Теперь мы сможем самостоятельно идти дальше... Догоняя и перегоняя... Теперь у нас новый этап — этап взаимного обмена опытом и взаимной учебы...»
Мне было не до тонкостей формулировок. Я чувствовал себя слишком усталым.
Самое страшное, я не мог никак выяснить, где же находится Мэй-мэй, какой у нее адрес и что с ней...
Я писал, звонил. Все без толку. На мои запросы не отвечали.
Меня отправляли в Союз первым же рейсовым самолетом.
Была надежда, что транзитный самолет окажется набитым до отказа, и я еще выгадаю день-два, найду хоть какой-нибудь след Мэй. Меня втиснули сверхкомплектным пассажиром, багаж пообещали доставить в Урумчи следующим рейсом.
Простился с друзьями. Не со всеми, правда. Гаврилов лежал в госпитале тоже из-за купания в реке. Поддубный пообещал навести справки о Мэй-мэй. Как? Ведь языка он не знает, связан официальным положением по рукам и ногам.
— Попробуй в Москве, через посольство, — посоветовала Маша, сама не веря в сказанное.
— Попытаюсь...
Маша расплакалась. Потом сказала бодро:
— Не падай духом, падай брюхом!
Чудный парень наша Маша!
Ян Хань не пришел провожать: занят. Он теперь стал большим начальником.
Прибежал повар Ван, сунул на память гравюру с видом Вань-шоу-шаня. По сей день гравюра висит у меня над столом как память о дружбе. А я завещал ему волнистых попугаев. Маше нельзя было поручить такого тонкого дела, как попугаи.
Под плоскостью стоял бензовоз. Я с грустью поглядел на машину...
Вижу, выходит в комбинезоне Сюй, Боря. Подошел.
— Веня, не обижайся. Я насчет собрания... Сам понимаешь... — Он оглянулся. — Помнишь про Цзянь Фу?
— Сюй, я не в обиде. Выше голову! Перемелется, мука будет. Как насос-то, гоните? Работает на трех тысячах оборотов?
— Нет... Перегорел. Вручную качаем... До свидания, Вэй! Не забывай.
Я вошел в самолет. Убрали сходни. Загудел мотор.
Я не смотрел, как отрывались. Уже темнело. Вдоль полосы горели светофоры. Знакомая картина.
Только вдруг кабину самолета залило светом. Мы поднялись выше, здесь еще царствовало заходящее солнце. Сразу сделалось легче — без солнца человеку становится скучно.
И до крика резанула мысль, что улетаю навсегда, что там, внизу, осталась моя Мэй и, может быть, никогда я ее не увижу. Никогда!
Я приподнялся в кресле. Захотелось посмотреть вниз, в темноту, туда, где осталась моя любовь...
Неожиданно увидел на лацкане пиджака соседа точно такую же медаль, как у меня, китайскую медаль «Дружба».
— Посмотри, посмотри... — вдруг заволновался сосед. — Горит земля. Силы народные и деньги летят на ветер. Ни один из героев Салтыкова-Щедрина не додумался бы до такого головотяпства...
Я прильнул к иллюминатору.
В этой части Китая населенные пункты сравнительно редки. Вот проплыло внизу что-то вроде городских огней. Но ведь деревни не электрифицированы.
— Костры, что ли? — спросил я.
— Садись, не расстраивайся, — по-своему истолковал сосед мой вопрос. — Большой скачок! Черт знает что... Доменные печи деревенские. Лечу с Ань-шаня, там производство сворачивают. Я металлург. — Он нервно расстегнул внутренний карман пиджака, стал показывать какие-то дипломы, документы. — Металлург! Посмотрел бы под Тайюанем. Огромный завод мы выстроили, помогли. Вон впереди сидят ребята с Тайюаня. А кругом эти печурки. Тьфу! Ничего не понимаю! Как во сне...
Он положил документы в карман.
— Бесполезная трата сил и денег. Авантюризм чистой воды.
Я решил заглянуть в кабину летчиков. Дойдя до двери, обернулся.
У всех пассажиров на груди поблескивали медали...
Вот уже прошло много-много лет, а перед глазами у меня этот салон самолета... Медали. И если говорить по-честному, мы их заслужили. Дружба — это сложные отношения, и они проверяются временем и обстоятельствами. Я остался другом Китая, несмотря ни на что... Я верю, что настанет время, я вновь надену медаль и полечу в Китай помогать исправлять то, что наломали маоисты. Я найду тебя, Хао Мэй-мэй, моя любовь, моя боль, моя мечта!
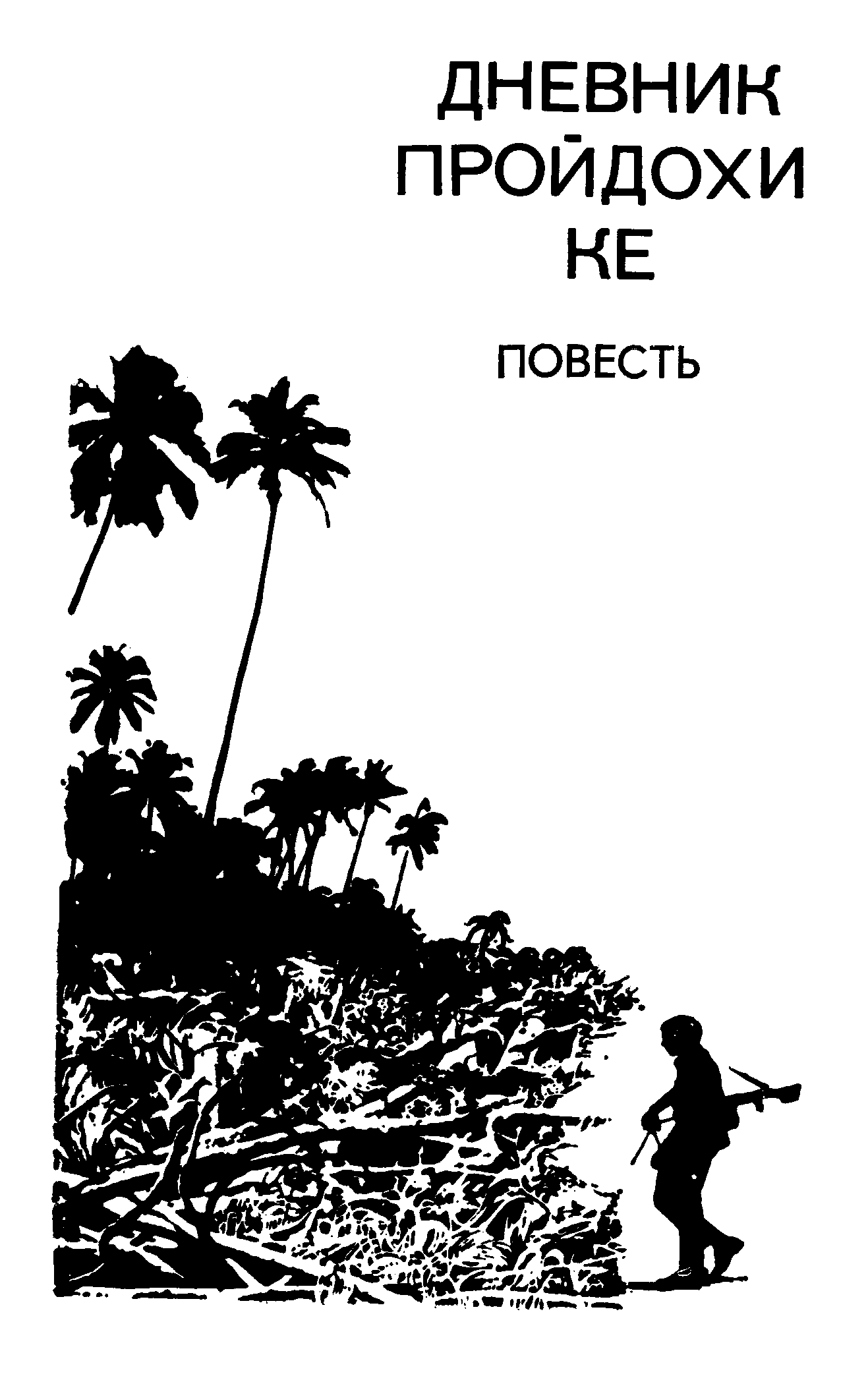 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |