"Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов" - читать интересную книгу автора (Автор неизвестен)
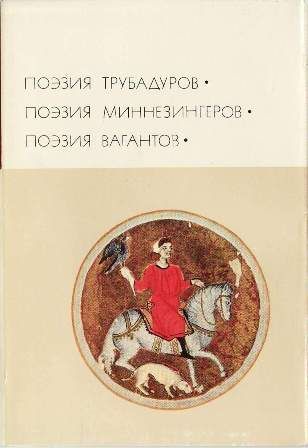 |
Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов
Лирическая поэзия средних веков
Когда вспоминают о средних веках, то обычно представляют себе закованного в латы рыцаря, тяжелым мечом поражающего врага, каменные громады феодального замка, изнурительный труд крепостного крестьянина, унылый колокольный звон, раздающийся за монастырской стеной, и монаха, отрекшегося от мирских соблазнов. Железо. Камень. Молитвы и кровь.
Да, все это, конечно, так и было. Немало в средние века нагромождалось тяжелого, темного, бесчеловечного. Но люди всегда оставались людьми. Они не могли, как этого требовали от них хмурые благочестивцы, думать только о смерти и загробном царстве. Земля их кормила и поила. С землей прежде всего были связаны их горести, радости, надежды и разочарования. Они любили, трудились, воевали, веселились и оплакивали умерших. Разумеется, они также молились, но ведь и в молитвах просили они бога даровать им хлеб насущный и избавить от лукавого в этой земной юдоли.
Впрочем, страшила их не только нечистая сила, но и внезапные набеги врагов, самоуправство власть имущих, моровая язва, а также, как многим казалось, близость светопреставления. Однако, вопреки мрачным пророчествам неистовых прорицателей, конец мира не наступал и река средневековой жизни продолжала катить свои медленные и широкие волны. Земля оставалась землей. И люди, как и в другие исторические эпохи, тянулись к свету и красоте. При этом им хотелось, чтобы красота обитала нe только в тесных храмах, но и на просторах их повседневной жизни. И чтобы выражалась она не только в холодном неподвижном камне, но и в теплом человеческом слове, гибком и музыкальном. Именно в средние века поэзия стала королевой европейской словесности. Время прозы еще не пришло. Даже летописи облекались в стихотворную форму. Священное писание обретало стихотворные ритмы. Понятно, что при отсутствии книгопечатания стиху суждено было играть особую подсобную роль, ведь стихотворные тексты лучше запоминались. Но дело, конечно, не сводилось к удобству запоминания. Звучные стихотворные формы придавали поэтичность даже самому сухому дидактическому тексту, как бы приобщая его к царству красоты. А люди, жившие в суровую и в чем-то даже мрачную эпоху, нуждались в красоте, как нуждались они в солнечном свете.
Поэтическое слово звучало в то время повсюду — и в храме, и в рыцарском замке, и на городском торжище, и в кругу хлебопашцев. Искусные певцы вспоминали о славных богатырях, совершавших удивительные подвиги. Люди разного звания и положения, женщины и мужчины пели о любви, о весне, о веселых и грустных событиях в человеческой жизни. Так, видимо, обстояло дело уже в начале средних веков. Недаром церковные власти и каролингские короли не уставали клеймить «бесстыдные любовные песни», «дьявольские постыдные песни, распеваемые в деревнях женщинами», «нечестивые женские хоровые песни», имевшие, можно предполагать, широкое распространение в народной среде. Но все эти песни, противоречащие постной церковной морали, до нас не дошли. Никому не приходило в голову их записывать, тратить на них драгоценный пергамент. Грамотеями в то время являлись обычно клирики, а для них произведения, вызывавшие нарекания церкви, не могли представлять интерес. К тому же народная лирика вряд ли вообще тогда воспринималась как что-то ценное, и не только потому, что она была «простонародной»: ведь человек в те «эпические» столетия неизменно выступал как представитель рода, племени или сословия. От него ожидали подвига, способности сокрушить супостата. В героизме видели его главное достоинство. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Карл Великий, твердой рукой насаждавший христианство, живо интересовался древнейшими «варварскими» песнями, посвященными деяниям былых королей. Что же касается лирических несен, не укладывавшихся в эпическую концепцию мира, то их в лучшем случае просто не замечали либо решительно отвергали, занося в рубрику греховных. Этим и объясняется то прискорбное обстоятельство, что народная лирика раннего средневековья бесследно исчезла.
Но вот подошел XII век, и любовная лирика, правда не народная, но рыцарская, как-то сразу заняла одно из самых видных мест в литературе средних веков. Этот расцвет светской лирической поэзии, начавшийся на юге Франции, в Провансе, а затем охвативший ряд европейских стран, знаменовал наступление нового этапа в культурном истории средневековой Европы. В XII и XIII веках в западноевропейской жизни многое изменилось. Правда, феодальные порядки еще продолжали оставаться незыблемыми и католическая церковь сохраняла власть над умами верующих. Но уже быстро начали расти города, стремившиеся освободиться от власти феодальных сеньоров и зачастую превращавшиеся в очаги религиозной и социальной крамолы. Там в начале XII века возникли первые частные школы, не связанные непосредственно с церковными организациями и поэтому более свободные в своих начинаниях. Именно в стенах этих школ протекала деятельность одного из наиболее выдающихся философов-вольнодумцев средних веков — Пьера (Петра) Абеляра (1079—1142), воззрения которого дважды осуждались господствующей церковью как еретические. Ставя человеческий разум выше предания и мертвой догмы, французский мыслитель с огромным уважением отзывался об античных философах, которые для него олицетворяли истинную мудрость и по своему нравственному благородству превосходили представителей современного католического клира. Стирая грани между античностью и средними веками, он даже осмеливался утверждать, что христианское учение о троице было предвосхищено «величайшим из философов» — Платоном и его учениками. О том, насколько к этому времени возросло самосознание личности, свидетельствует «История моих бедствий», принадлежащая перу того же Абеляра. Автор уверен, что его жизнь представляет несомненный интерес для любознательного читателя. И он обстоятельно рассказывает о том, как он достиг громкой славы ученого, как его преследовали облаченные в сутану завистники и как горячая любовь соединила его с умной и красивой Элоизой. Он даже считает нужным сообщить, что сочинял любовные стихи, которые «нередко разучивались и распевались во многих областях»[1]*. Перед читателем возникает образ человека, примечательного не тем, что он имеет отношение к церкви или сеньору, но тем, что он, при всем его несомненном благочестии, выступает, так сказать, сам по себе, являя миру неповторимое богатство ума и пылких человеческих чувств. В чем-то автобиография Абеляра уже предвосхищает «Письмо к потомкам» Франческо Петрарки, первого великого итальянского гуманиста, пожелавшего рассказать людям о себе и своей жизни.
Однако не только города, но и феодальные замки были в XII и XIII веках охвачены новыми веяниями. В это время пышно расцветает придворная рыцарская культура, блестящая, изысканная и нарядная, весьма отличная от примитивной и суровой культуры господствующего сословия раннего средневековья. Рыцарь продолжает оставаться воином. Но придворный этикет требует, чтобы наряду с традиционной доблестью он обладал светскими изящными манерами, соблюдал во всем «меру», был приобщен к искусству и почитал прекрасных дам, то есть являл собой образец придворного вежества, именуемого куртуазней. Совершенные куртуазные рыцари, преданные прекрасным дамам, заполняют страницы рыцарских ромапов, идущих на смену тяжелоступным героическим эпопеям. Куртуазия становится знаменем социальной элиты, претендовавшей на господство в социальной, нравственной и эстетической сфере. Конечно, в романах феодальный обиход до крайности идеализирован, но из этого вовсе не следует, что куртуазный рыцарь являлся лишь поэтической фикцией. Он действительно блистал при дворах могущественных феодалов. Крестовые походы заметно расширили его кругозор. Быстрое развитие товарно-денежных отношений, разрушая былую замкнутость феодального поместья, пробуждало в нем желание не уступать городскому патрициату в блеске и великолепии. Враждуя нередко с горожанами, он в то же время готов был усваивать материальные и духовные ценности, создававшиеся в городской среде. У Абеляра были друзья и единомышленники среди дворян. Между куртуазных поэтов нередко встречались выходцы из городских кругов. Характерной тенденцией куртуазной поэзии можно считать заметно возросший интерес к миру и человеку, который способен но только молиться и воевать, но и нежно любить, восхищаться красотой природы, а также искусными изделиями человеческих рук. Хотя аскетическая доктрина продолжала громко заявлять о себе, многочисленные поэты воспевают земпую чувственную любовь как великое благо. Поэт не так охотно прислушивается к звону мечей, как к биению пылкого человеческого сердца. Всеми признанной владычицей поэзии становится Любовь, а ее верной спутницей — Прекрасная Дама.
С культа прекрасной дамы, собственно, и началась куртуазная поэзия. Она возникла в конце XI века в Провансе, принадлежавшем к числу наиболее развитых стран тогдашней Европы. По словам Ф. Энгельса, «южнофранцузская — vulgo провансальская — нация не только проделала во времена средневековья «цепное развитие», но даже стояла во главе европейского развития. Она первая из всех наций нового времени выработала литературный язык. Ее поэзия служила тогда недостижимым образцом для всех романских народов, да и для немцев и англичан. В создании феодального рыцарства она соперничала с кастильцами, французами-северянами и английскими норманнами; в промышленности и торговле она нисколько не уступала итальянцам. Она не только «блестящим образом» развила «одну фазу средневековой жизни», но вызвала даже отблеск древнего эллинства среди глубочайшего средневековья»[3]*.
Говоря об «отблеске древнего эллинства», Ф. Энгельс имеет в виду поэзию многочисленных старопровансалъских трубадуров, бросивших вызов угрюмому аскетизму средних веков. Встречались среди них и зватпые феодалы, и люди скромного происхождения, но преобладали рыцари-министериалы, то есть служилые рыцари, тесно связанные с аристократическими дворами, являвшимися признанными центрами новой куртуазной культуры. Здесь звучали песни трубадуров, здесь охотно рассуждали о любви и ее природе, здесь складывались правила любовного служения, ставшего своего рода светской религией высшего круга. При этом к поэтическому творчеству причастны были не только мужчины, по и женщины. В феодальных кругах Южной Франции женщины вообще пользовались относительно большой свободой. Согласно древним римским законам, сохранившимся в Провансе, они могли наследовать феодальные владения и выступать в роли феодальных сеньоров, окруженных толпой придворных. Понятно, что знатные дамы весьма благосклонно относились к куртуазной поэзии, которая подымала их на высокий пьедестал.
В поэзии трубадуров прекрасная дама заняла примерно такое же место, какое в религиозной поэзии средних веков отводилось мадонне. Только мадонна царила на недосягаемых небесах, в то время как прекрасная дама являлась лучшим украшением земли и царила в сердце влюбленного поэта. Трубадуры дружно воспевали ее красоту и благородство. Как ювелир, любующийся редким собранием драгоценных камней, возьмет то один самоцвет, то другой, так и поэт в стихотворении перебирает драгоценные черты своей повелительницы. У нее сверкающие золотом волосы, лучистые глаза, лоб — «белизной превосходящий лилеи», румяные щеки, красиво очерченный нос, маленький рот, пурпурные губы, руки с тонкими и длинными пальцами, изящные брови, «зубы жемчуга ясней» (Арнаут де Марейль и др.). Поэту, лицезреющему такое совершенство, даже кажется, что он пребывает в раю (Понс де Кандюэль). Правда, это рай особого рода, это рай куртуазный, весьма далекий от призрачной обители бесплотных духов, о которой тосковали средневековые анахореты. Куртуазному раю соответствует куртуазная теология, не раз смущавшая суровых ревнителей церкви. Сам бог создает прекрасную даму. И создает ее из собственной своей красоты (Гильем де Кабестань). Прославленному трубадуру Пейре Видалю даже кажется, что, глядя на даму, он видит бога. Улыбка четырехсот ангелов не может сравниться с улыбкой любимой (Рамбаут д'Ауренга). А один из поэтов, имя которого до нас не дошло, так пленен несравненной женской красотой, что не находит в сердце своем места для бога. Зато крылатый бог любви, прославленный еще во времена классической древности, легко проникает в сердце поэта. Именно он побуждал каноника Дауде де Прадас (кансона «Сама Любовь приказ дает...») и других стихотворцев петь о любви и ее великой власти. Любовь собирает под своими священными знаменами старопровапсальских поэтов. Она одушевляет их и умножает их творческие силы. Недаром один из самых талантливых трубадуров — Бернарт де Вентадорн — заявлял:
Но что же представляла собой эта «совершенная», или куртуазная, любовь (fin amor) трубадуров, вызывавшая и продолжающая вызывать споры среди историков европейской средневековой культуры?[3] Немецкий ученый Э. Векслер в начале XX века даже утверждал, что любовь в лирике трубадуров — это чистейшая фикция и что любовные песни старопровансальских поэтов на самом деле имели только одну практическую цель: «прославление госпожи в расчете на награду», которую сеньор дарует своему вассалу. Векслеру весьма основательно возражал выдающийся русский исследователь В. Ф. Шишмарев («Несколько замечаний к вопросу о средневековой лирике», 1912). Не отрицая в поэзии трубадуров приемов идеализации и известной условности стиля и отдельных ситуаций, он выражал уверенность, что «любовная лирика провансальцев в ее целом» — это «поэтическое изображение вполне реальных переживаний» и что «любовная поэзия провансальцев реальна не менее всякой другой», а «психологические корни» ее надо, между прочим, искать «в отрицательной оценке современного брака, строившегося обыкновенно на расчете или необходимости». В культе дамы, по словам В. Ф. Шишмарева, «впервые был поставлен вопрос о самоценности чувства и найдена поэтическая формула любви»[5]*.
Дело в том, что прекрасная дама, воспеваемая трубадурами,— как правило, замужняя женщина, обычно супруга феодала. На это в свое время обратил внимание Ф. Энгельс, заметивший, что «рыцарская любовь средних веков отнюдь не была супружеской любовью. Наоборот. В своем классическом виде, у провансальцев, рыцарская любовь устремляется на всех парусах к нарушен ню супружеской верности, и ее поэты воспевают это»[5].
Можно в связи с этим сказать, что любовь трубадуров явилась своего рода бунтом человеческих чувств, потребовавших своей доли в безличном сословном мире. Ведь в средние века брак заключался по соображениям чисто деловым. Сословие поглощало человека. Голос чувства не мог звучать там, где звучал голос холодного расчета, основанного на кастовых прерогативах. В любовной лирике провансальцев человеческое чувство стремится обрести свои права. И в этом ее первостепенное историческое значение. И хотя вся атмосфера куртуазного служения связана с феодальными дворами, собственно кастовый элемент подчас отступает здесь под натиском освобожденного чувства.
Любовь расшатывала сословные преграды. Ведь в царство куртуазной поэзии доступ открыт не только для знатных, но и для незнатных. Сыном замкового пекаря был Бернарт де Вентадорн, из семьи скорняка происходил Пейре Видаль, резчиком был Эльяс Кайрель, нотариусом — Арнаут де Марейль и т. д. В поэзии трубадуров любовь даже выступает в роли великой уравннтельницы. Перед ней, как перед богом, теряют свое значение сословные преимущества. Совершенной любви достоин не тот, кто знатен и богат, а тот, у кого благородное сердце, будь он при этом беден и незнатен (Дальфин). Поэты охотно твердят о том, что любовь несовместима с корыстью и тщеславием, что совершенная любовь облагораживает человека. По словам Монтаньятоля, «любовь не грех, а добродетель, в силу которой дурные люди становятся хорошими, а хорошие — совершенными». Ведь всякий, кто хочет обладать внутренней ценностью, «должен обратить свое сердце и свои надежды к любви, ибо любовь научает благородным и приятным поступкам; она внушает человеку, как жить надлежащим образом, она приносит радость и устраняет скорбь» (он же).
Но у куртуазной любви свои особенности. Прежде всего это «тайная» любовь. Поэт избегает называть свою даму по имени. Такая откровенность могла бы ей повредить. В произведениях трубадуров то и дело упоминаются злоязычные соглядатаи и ревнивые мужья, которые доходят до того, что бьют своих законных жен. Поэтому влюбленный поэт в стихах называет прекрасную даму условным прозвищем (так называемый сеньяль). Хранить тайну любви — его первейшая обязанность. «Я так преданно и верно люблю вас, что ни одному другу не доверю тайну моей любви к вам»,— заявляет Пейре Видаль.
Затем куртуазная любовь — это любовь «тонкая», изысканная, в отличие от грубо-чувственной, примитивной, «глупой» любви (fol amor), свойственной неотесанным вилланам. Ото вовсе не означает, что куртуазная любовь несовместима с чувственным влечением. Нередко поэты прямо признаются в том, что охвачены неодолимым желанием, что умрут, если не удостоятся «высшей награды», что страстно жаждут «обладать» прекрасной (Пейре Раймон). Но при этом куртуазная любовь чуждается дерзости, шумного озорного напора. Она выступает преимущественно как трепетное обожание. Ей сопутствует робость, подчас лишающая поэта дара речи. Только вздохи намекают на чувства влюбленного. Но вот льется песня поэта, прославляющего прекрасную даму, достойную преклонения, преданности и высокой любви. Любовь эта не ходит быстрым, резвым шагом. Она движется медленно, почти торжественно. Иногда она даже как будто становится совсем призрачной. Поэты заявляют, что, не ища взаимности, в самом обожании обретают они драгоценную награду, что страдания любви сладостны, а трубадур Арнаут де Марейль даже утверждал: «Я не думаю, что любовь может быть разделенной, ибо, если она будет разделена, должно быть изменено ее имя».
Конечно, куртуазная любовь не была лишена известной условности. Она не только подчинялась придворному этикету, но и подчас сливалась с великосветской модой. Вероятно, многие стихотворения были прямо продиктованы этой модой. Прославляя красоту и добродетели жены своего сюзерена, рыцари-министериалы оставались почтительными царедворцами.
Их звонкие песни, льстя самолюбию дамы, одновременно окружали сиянием исключительности феодальный двор, среди которого она царила. Однако не следует думать, что куртуазная любовь — всего лишь изысканная великосветская игра. Ведь самый факт, что любовь могла стать модой и даже, пожалуй, наиболее ярким проявлением куртуазии, свидетельствует о том, что в сознании средневекового человека произошли глубокие сдвиги. Поэтому «высокий» тон провансальских любовных несен не может быть всецело сведен к придворному этикету.
Любовпой лирике трубадуров действительно присуща ясно выраженная идеализирующая тенденция. Но доктрина куртуазной любви не только поднимала на высокий пьедестал прекрасную даму, но и от влюбленного требовала непрерывного совершенствования. В связи с этим апофеоз прекрасной дамы превращался в апофеоз земной любви, которая вырастала в могучую нравственную силу, призванную преобразить человека, приобщенного к ней. Для прославления этой «совершенной» любви поэт, естественно, использовал те понятия и речения, которые предлагали ему средине века. Религиозная и феодальная фразеология была вполне уместна там, где возникала атмосфера любовного служения. Поэт охотно признавал себя вассалом дамы. Своей «госпоже» оп клялся в нерушимой «верности» либо, подчиняясь приказу амура, становился ее «пленником». Люди на земле и ангелы на небесах ликуют при виде совершенств прекрасной дамы. Как и мадонну, поэты называют ее путеводной звездой, майской розой, утешительницей скорбящих и т. п. Само собой понятно, что после смерти прекрасная дама возносится в горние сферы рая. Так, приближая прекрасную даму к сопму ангелов, провансальские поэты освящали куртуазную любовь, ставили ее по ту сторону греха и утверждали в качестве великого блага.
Впрочем, независимо от куртуазной концепции, средние века в сиянии земной красоты готовы были видеть отблеск великой красоты небесной. Недаром надпись на фасаде церкви в Сен-Дени, сделанная по распоряжению ученого аббата Сугерия (начало XII в.), гласила: «Чувственною красотою душа возвышается к истинной красоте и от земли возносится к небесам». Подобное утверждение, обращенное в данном случае к искусству церковному, в то же время далеко выходило за пределы монашеского ригоризма, поскольку земную красоту рассматривало как прочное звено в цепи мудрого божественного миропорядка. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поэты, воспевавшие чувственную красоту куртуазной дамы, вспоминают об ангелах и небесах. На языке средневековой поэзии это означало, что достоинства куртуазной дамы, и прежде всего ее красота, поистине безмерны. Такая красота вполне достойна «высокой» любви, а высокая любовь достойна апофеоза.
И любовь прочно утвердилась в творениях трубадуров. Она преобразила суровую средневековую поэзию, заставив поэтов по-новому взглянуть на окружающий мир. Она обостряла чувство прекрасного. Никогда еще средневековые поэты не восторгались столь самозабвенно земной красотой.
И пленяла их не только красота молодой куртуазной дамы, но и красота вечно живой природы, в которой они улавливали соответствие своему душевному состоянию. Мир цвел и благоухал в песнях трубадуров. Особенно охотно вспоминали они о весне, когда луга начинали пестреть цветами, нежной листвой одевались сады и пернатый хор немолчно славил пробуждающуюся любовь. С подобным «весенним запевом», восходящим к традициям народной, а также поздней античной поэзии, нередко встречаемся мы в песнях Бернарта де Вентадорна (около 1140—1195), Гираута де Борнейля (расцвет творчества — 1175—1220 гг.), Джауфре Рюделя (около 1140—1170) и других трубадуров. Весна — прекрасный символ любви в поэзии провансальцев. Она радует глаза и сердце, возвышает душу. Песни соловьев и жаворонков звучат в ее честь. Повсюду разлита светлая радость. И поэта побуждает она слагать звонкие, вдохновенные песни.
В то же время к «весеннему запеву» поэт подчас обращается лишь затем, чтобы оттенить грусть, овладевшую его сердцем. Ликует весенняя природа, а прекрасная дама холодна к влюбленному поэту. Томление по цели, едва достижимой, составляет один из характерных мотивов любовной лирики трубадуров. На разные лады у разных поэтов звучал этот мотив. Как часто жалуются поэты на суровость донны, на то, что она холодна как лед, что им не дана радость разделенной любви, что тоска щемит их сердце, что жизнь отринутого донной превращается в тяжкий сон, что благой бог любви склонен к жестокости и т. п.
Правда, порой поэт утешает себя мыслью, что совершенная любовь может быть только «высокой» любовью, а «высокая» любовь не ищет «бренной награды», что любить следует не ради чувственных, услад, а самозабвенно. Так утверждал замечательный певец «высокой» любви Бернарт де Вентадорн («Коль не от сердца песнь идет...»). По мнению Аймерика де Пегильяна, любовь сама по себе является великой наградой, мучения, приносимые ею, сладки, а тоска, порожденная ею, светла и чиста («Зря — воевать против власти любви...»). В свой черед Джауфре Рюдель, прославленный певец «любви издалека», именно в этой призрачной любви находил высшую меру радости («Мне в пору долгих майских дней...»). Чувственную любовь от любви куртуазной решительно отделял жизнелюбивый каноник Дауде де Прадас. По его мнению, тот нарушает закон любви, кто стремится овладеть прекрасной дамой и тем самым свести ее с куртуазных высот. Самое большее, на что следует надеяться поклоннику,— это поцелуй, а такие ее скромные подарки, как перстень или шнур, стоят величайших сокровищ. Другое дело — девица, с ней уже можно вести себя более свободно, а с разбитной простолюдинкой и вообще дозволено играть в любые любовные игры («Сама Любовь приказ дает...»).
Но не следует все-таки преувеличивать платонизм куртуазной любви. В лучших песнях трубадуров горячее человеческое чувство одерживает верх над жесткой схемой. Тот же Бернарт де Вентадорн привлекает удивительной искренностью и силой переживаний. Его любовным излияниям веришь. Нет в них ничего мишурного, показного. Этот простолюдин, склоненный перед знатной дамой, обладал пылким сердцем. Не будучи, видимо, взыскан особыми милостями донны, оп в то же время упрямо мечтал о взаимности. В мечтах он уже видел ее обнаженной на ложе сна, в мечтах покрывал се тело жадными поцелуями. Надежда сопутствовала у него любовной тоске.
Следует заметить, что мечты, грезы, сны, видения играют немалую роль в поэзии трубадуров. Они как бы образуют второй мир, существующий наряду с миром повседневным, наполненным жалобами влюбленных. В этом «поэтическом» мире умолкают жалобы и пени и осуществляются самые заветные чаяния. Здесь даже Джауфре Рюдель, расставшись с «любовью издалека», ясно слышит нежный призыв прекрасной донны, близкой и ласковой. Характерно, что грезы и сны трубадуров обычно лишены серафических устремлений. В отличие от средневековых «Видений», герои которых блуждали по загробпым царствам, видения и сны трубадуров не покидали земных пределов. В них «высокая» любовь обретала свои земные права. Так, знойной страстью напоен сон Арнаута де Марейля. Словами: «Длись без конца, мой сон,— исправь // Неутоленной страсти явь!» — заканчивает он свое любовное «Послание».
Но не только в сновидениях и в грезах возникала у трубадуров тема разделенной любви. Ликованием и радостью наполнена, например, кансона «Полна я любви молодой...» талантливой поэтессы Беатрисы де Диа. Когда же любимый рыцарь покинул Беатрису, она, не страшась злой молвы, с удивительной откровенностью в песне напоминает ему о былых любовных восторгах («Я горестной тоски полна...»). Земной, разделенной любви всецело посвящен жанр альбы, широко распространенной в старопровансальской поэзии. Влюбленные расстаются на заре, после тайного свидания. О приближении дня их предупреждает друг или слуга рыцаря, стоящий на страже. Влюбленный обычно сетует на то, что так быстро прошла ночь и приблизилось расставание. В известной альбе Гираут де Борнейль, предвосхищая Петрарку, даже мечтает о том, чтобы ночь любви продолжалась вечно.
Любовь нередко служила в провансальской поэзии предметом споров и рассуждений. Трубадурам вообще присуща склонность к размышлениям, дебатам, обмену мнений, поискам дефиниций. Мастера средневековой схоластической культуры могли им в этом подавать, а подчас, видимо, и подавали надежный пример. Понятно, что в кругу дебатируемых вопросов любви отводилось одно из первых мест. Вопрос этот рассматривался в разных аспектах. Но особенно занимала поэтов его, так сказать, «практическая сторона». Поэты, например, спорили о том, какую женщину следует предпочесть — доступную, но неверную или же верную, но суровую (Фолькет де Марселья: «Надежный друг, вот вы знаток...»). Можно ли считать счастливым в любви того, кто не делил ложа с дамой сердца? (Пейре Гильем и Сордель: «— Сеньор Сордель! Так вы опять...»). Или обсуждался весьма щекотливый вопрос о поведении кавалера на ложе любви (Аймерик де Пегильян и Эльяс д'Юссель: «—Эльяс, ну как себя держать...»). Участники диалогов охотно давали «полезные» советы,— например, совет не быть чрезмерно робким в любви, не упускать благоприятного момента и т. д.
В идеальный мир куртуазии проникали таким образом бытовые, прозаические интонации. Иногда они как бы завуалированы шаловливой наивностью (Арнаут Каталан: «Я в Ломбардии, бывало...»), а иногда лишены всяких прикрас. Случалось даже так, что галантный поклонник утрачивал необходимую любезность, становился груб с прекрасной донной. По мнению Рамбаута д'Ауренга, поклонник, отвергнутый донной, вправе ей угрожать, злословить, вообще не слишком церемониться с ней («В советах мудрых изощрен...»). А кое-кто из поэтов начинал подсмеиваться над самим куртуазным каноном. Так, ученик Маркабрю, считавшего любовное служение делом безнравственным и греховным, Пейре Карденаль в одном из своих произведении радовался тому, что расстался наконец с любовным рабством, освященным канонами куртуазного служения. Приветствуя обретенную свободу, он с облегчением заявляет, что не должен больше среди слащавых стонов и вздохов нагромождать лживые слова и твердить, что свет не производил таких красавиц и что цепи рабства легки и желанны. Подобные тирады но могли не расшатывать куртуазных устоев, том более что и самый мир куртуазного идеала опирался на довольно зыбкую почву. В начале XIII века Гираут де Борнейль уже мог с глубокой грустью констатировать: «Многие крупные феодалы отвернулись от поэзии и от радостей жизни, поддавшись своим грубым инстинктам. Они проводят свое время в войнах и грабежах. Настоящая куртуазность уже не существует».
Конечно, любовная лирика трубадуров не была такой одноцветной, как это может показаться с первого взгляда. В ней много оттенков, нюансов, переливов красок. Огромная историческая заслуга ее в том, что она открыла для европейской поэзии трепетный мир человеческих чувств. Учениками трубадуров в той или иной мере были Данте, Петрарка и другие поэты эпохи Возрождения. Вместе с тем кругозор провансальских певцов любви весьма узок. Они видят только Любовь и слышат только ее голос. Сравнительно редко реальный, внешний мир проникает в эту зачарованную обитель, где воображение поэта способно творить чудеса, преображая снежную равнину в цветущий луг (Бернарт де Вентадорн). Такая поэзия, на протяжении многих десятилетий торжественно прославлявшая любовь, стала своего рода ритуалом, в котором личный элемент зачастую исчезал в устойчивых формулах и общих местах.
В этих условиях очень большое значение приобрела поэтическая форма, дававшая поэту возможность проявить свою творческую силу и оригинальность. Трубадуры высоко ценили литературное мастерство. Они соревновались друг с другом в создании новых стихотворных форм. Они хотели быть виртуозами в поэзии. Само слово «трубадур» происходило от провансальского «trobar», что означает «сочинять, находить, изобретать».
«Совершенная» любовь требовала совершенной формы, и поэты стремились к филигранной отделке поэтических произведений, они их тщательно шлифовали, заботились об их красоте и мелодичности. Ведь творения трубадуров были предназначены для пения, и автор текста нередко являлся автором мелодии, а также исполнителем песни (впрочем, иногда в роли исполнителя выступал жонглер). Эта забота о звуковом строе поэзии проявлялась отчасти в обращении к рифме. Именно трубадуры ввели ее в широкий литературный обиход. Об этом хорошо сказал А. С. Пушкин: «Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значащее, имело важное влияние на словесность новейших народов. Ухо обрадовалось удвоенным ударениям звуков... Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы...» («О поэзии классической и романтической», 1825). Действительно, если вначале провансальская поэзия была сравнительно простой, то со временем она приобретала характер все более изысканный и сложный. Особенно эта тяга к сложности проявлялась у сторонников так называемого темного, или «замкнутого», стиля (trobar clus), обращавшихся к узкому кругу знатоков, в то время как их противники — мастера «светлого» стиля (trobar clar) — стремились быть понятными многим. В приводимой на странице 88 тенсоне Гираута де Борнейля и Линьяуре (Рамбаута д'Ауренга) обе стороны излагают свои взгляды по данному вопросу.
Но, стремясь всемерно расширять метрические и строфические возможности поэзии, трубадуры вместе с тем тяготели к «твердым» каноническим формам, в которые, как в рыцарские доспехи, плотно облекались их творения. Наиболее распространенными формами были: кансона («песня»), состоящая из ряда строф и посвященная чаще всего любовной теме; уже упоминавшаяся альба (буквально: утренняя заря, рассвет, денница), каждая строфа которой заканчивалась словом «альба»; тенсона («спор», или жокпартит—«разделенная игра», или партимен—«раздел»)—стихотворный диспут, в котором обычно принимают участие два поэта; пасторела — стихотворение, изображающее встречу рыцаря и пастушки; баллада — плясовая песня; сирвентес — строфическая песня, посвященная политическим, общественным темам, нередко содержащая выпады против врагов поэта; плач — песня, приближающаяся к сирвентесу, в которой поэт оплакивает смерть сеньора или близкого ему человека.
Наличие в провансальской поэзии таких форм, как сирвентес, плач и тенсона, свидетельствует о том, что, хотя любовная тема и занимала в ней господствующее положение, она вовсе не являлась единственной. Трубадуры при случае охотно откликались на злобу дня, касались вопросов политических и социальных. Даже в любовную поэзию изредка проникали вопросы, имевшие социальную подоплеку,— например, вопрос: кто больше достоин любви — учтивый простолюдин или бесславный барон (тенсона Дальфина и Пердигона, около 1200 г.)? Следует помнить, что социальный состав трубадуров был довольно пестрым, что наряду с крупными феодалами и рыцарями заявляли о себе люди незнатные, лишенные сословных привилегий. В связи с этим в провансальской поэзии заметны разнородные социальные тенденции. Выходец из народа Маркабрю (около 1140—1185) неприязненно относился к рыцарству и его элитарной культуре, в то время как выдающийся поэт, представитель феодально-рыцарских кругов Бертран де Бори (около 1140—1215), принимавший деятельное участие в феодальных распрях, пел о стычках и битвах, прославляя войну и рыцарскую отвагу. С ненавистью говорил он о горожанах и крестьянах, полагая, что в интересах господствующего сословия их следует держать в черном теле. В то же время Бертрана де Борна тревожило, что феодалы перестают заботиться о славе дедовских гербов, что феодальная щедрость вытесняется жалким скопидомством, что пустым звуком становится рыцарская честь, а обнаглевшие богатеи лезут в дворянство и уже щеголяют приобретенными замками.
Вопрос о рыцарских добродетелях тревожил умы многих трубадуров. Придерживаясь подчас разных взглядов, они сходились на том, что без щедрости не может быть настоящего рыцаря. «Никоим образом не говорю я худо о доблести и уме,— заявлял Гираут Рикьер,— но щедрость все превосходит». По словам же одной анонимной песни, «щедрость — это главная добродетель», в то время как «скупость — смертный грех». При этом, толкуя о щедрости, поэты, подобно Бертрану де Борну, прежде всего имели в виду владетельных сеньоров, от которых зависело благосостояние мелких рыцарей-министериалов, составлявших основную массу стихотворцев.
С годами в провансальской поэзии усиливались нападки на власть имущих, заметно расширился ее публицистический диапазон. Этому в значительной мере содействовали трагические события, обрушившиеся в начале XIII века на Прованс. По призыву папы северофранцузские феодалы начали «крестовый поход» против южнофранцузских областей, в которых широко распространилась так называемая альбигойская ересь, отрицавшая многие кардинальные догматы католической церкви. В течение двадцати лет с перерывами (1209—1229 гг.) продолжались «альбигойские войны», приведшие к страшному опустошению Прованса. Богатая, цветущая страна лежала в развалинах. Инквизиция свирепствовала там, где еще совсем недавно поэты прославляли светлую земную радость. Впрочем, еще Маркабрю, сетуя на возрастающую испорченность мира, грозил ему великими испытаниями. А темпераментный Пейре Карденаль (около 1210 — конец XIII в.), юность которого совпала с потрясениями альбигойских войн, в своих сатирических сирвентесах не щадил ни феодалов, ни городских толстосумов, ни католического клира. Обличая разбой больших господ, он с сочувствием относился к беднякам, на долю которых выпало так много страданий. Клириков называл он волками в овечьей шкуре и исчадиями ада. И даже самого господа бога обвинял в несправедливости и жестокости. Разве справедливо ввергать в ад несчастных, которые уже на земле испытали столько мук? Гневными упреками осыпал римскую курию современник Карденаля Гильем Фигейра. Папский Рим ненавистен ему и как вместилище самых низких пороков, и как злая сила, раздувшая на юге Франции пламя опустошительной войны. В этой войне погибли культурные центры Прованса, многим трубадурам и жонглерам пришлось бежать из разоренной страны в Италию и Испанию. В новых трагических условиях заметно оживилась религиозная поэзия.
Но каким образом сложилась поэзия трубадуров, сыгравшая такую выдающуюся роль в культурной истории Европы? У нас есть основания полагать, что она многим обязана поэзии народной. Ведь не раз к этому животворному источнику обращалась литература разных народов и разных эпох. К фольклорной традиции восходит, видимо, «весенний запев», встречающийся в провансальских кансонах. Со свадебными, хороводными песнями и обрядами связан жанр альбы. К жанрам народного происхождения можно отнести пасторелу и балладу, в которой нередко встречается рефрен, распространенный в народной хоровой лирике. Только, конечно, в изысканных творениях трубадуров фольклорные элементы подчинялись требованиям куртуазной эстетики. Не могли пройти трубадуры мимо латинской средневековой поэзии, как светской, так и духовной. Иногда в их песнях слышится лукавая интонация вагантов (монах из Монтаудона, Дауде де Прадас, Карбонель).
Вероятно, и древнеримская поэзия привлекала их внимание. Ведь античная литература никогда полностью не исчезала из культурного обихода средневековой Европы, а в XII—XIII веках интерес к ней заметно возрос. В Провансе в то время следы античной цивилизации встречались на каждом шагу. Еще и сейчас там можно увидеть античные мосты, акведуки, триумфальные арки, амфитеатры и храмы. Фасады ряда церквей, воздвигавшихся в XI—XII веках, напоминают сооружения классической древности. Например, римскую триумфальную арку напоминает фасад монастырской церкви Сен-Жиль. Зодчие охотно украшали стены церквей колоннами с коринфскими капителями, античными орнаментами. Встречаются классические черты и в поэзии Прованса, вобравшей в себя разнородные элементы, но достигшей в то же время замечательной художественной цельности.
Цельность эта, однако, не стала единообразием. И, хотя обилие общих мест и поэтических формул несомненно умаляло роль личного начала, поэзия трубадуров все-таки не была безличной. Как всегда, здесь многое зависело от таланта и творческой смелости. Наряду с поэтами достаточно бесцветными, появлялись яркие, запоминающиеся фигуры, наделенные им одним присущими чертами. Как различны, например, суровый Маркабрю и трепетный Бернарт де Вентадорн или воинственный Бертран де Борн и мечтательный Джауфре Рюдель! «Лица не общим выраженьем» наделены были и пылкий Пейре Видаль, и «обличитель монархов» Сордель, обративший на себя внимание Данте («Чистилище», VI и VII). Ведь и современники видели в знаменитых трубадурах не только искусных поэтов, но и людей с примечательными судьбами. В середине XIII века даже появились прозаические биографии наиболее известных трубадуров, малодостоверные с фактической стороны, но интересные тем, что именно поэты, а не только государи, отцы церкви или святые стали героями средневековых жизнеописаний.
Трубадуры были первыми куртуазными лириками Европы. За ними последовали поэты других европейских стран. Среди них видное место заняли немецкие миннезингеры («певцы любви»), выступившие в последней трети XII века. К этому времени в феодальной Германии сложились условия, благоприятствовавшие развитию придворной рыцарской культуры. К началу XIII века немецкая куртуазная поэзия, как лирическая, так и эпическая (рыцарский роман), уже достигла замечательного расцвета.
Понятно, что миннезингеры широко использовали опыт провансальских трубадуров, впервые разработавших концепцию куртуазного служения, и их северофранцузских последователей — труверов. У миннезингеров, в частности, встречаем мы поэтическую форму, восходящую к романским образцам. Например, распространенная у миннезингеров «песня рассвета» (тагелид) совпадает с провансальской альбой, а строфическая любовная «песня» приближается к кансоне. Вместе с тем миннезанг (так начиная с XVIII в. называют немецкую средневековую рыцарскую лирику) обладает рядом своеобразных черт. В нем меньшую роль, чем в поэзии романской, играет чувственный элемент. Немецкие поэты более склонны к рефлексии, морализации, к перенесению житейских проблем в сферу умозрительных спекуляций. Их гедонизм носит обычно более сдержанный характер. Нередко их произведения окрашены в религиозные тона. Однако, как и поэзия трубадуров, поэзия миннезингеров была в основном светской. Наряду с провансальской поэзией, она явилась заметной вехой на пути «обмирщения» европейской литературы средних веков. Встречаются среди миннезингеров поэты талантливые, тонкие, искусные версификаторы и в то же время, несмотря на известную схоластическую скованность, задушевные и простые, способные радостно воспеть природу и любовь или ополчиться на всемогущую кривду. Еще и сейчас охотно прислушиваешься к их звонким голосам и вполне понимаешь Рихарда Вагнера, воздвигшего им величественный памятник в своей опере «Тангейзер».
Следует заметить, что не сразу миннезанг подчинился требованиям куртуазии. Поначалу, наряду с направлением собственно куртуазным, связанным с традициями трубадуров, заметную роль играло другое направление, обращенное к традициям отечественной старины, близкое к народным любовным песням и даже к героическому эпосу. Поэты этого направления, возникшего на юго-востоке Германской империи, не стремились к сложным, изысканным формам, их строфика проста, стихи обычно связаны парными рифмами. На снизь с героическим эпосом указывает «нибелунгова» строфа, встречающаяся у поэта Кюренберга, творившего между 1150 и 1170 годами. Сам поэт называет ее «строфой Кюренберга», что дало повод некоторым ученым считать его автором одной из ранних редакций «Песни о Нибелунгах». Охотно обращаются старшие миннезингеры, и в их число Кюренберг, к «женским песням», восходящим к древней фольклорной традиции. В этих песнях женщина обычно сетует на одиночество, на то, что ее покинул возлюбленный. В песни Кюренберга «Этот сокол ясный был мною приручен...» женщина сравнивает возлюбленного с соколом, взлетевшим под облака. Вообще концепция любви у поэтов-архаистов подчас заметно отходит от куртуазных представлений. У них в роли лирического героя нередко выступает женщина, а то и девушка. Именно ей суждено вздыхать и молить о любви, в то время как надменный и суровый мужчина с легкостью се оставляет.
Однако уже у поэтов этого направления проступали куртуазные черты. Они стали определяющими в куртуазной лирике, зародившейся на Рейне, в непосредственной близости от рыцарской Франции, и в дальнейшем распространившейся по всей стране. Одним из ее создателей был автор первого немецкого (на нижнефранконском наречии) куртуазного романа «Энеида» — Генрих фоп Фельдеке (род. в середине XII в.— умер до 1210 г.). Впрочем, в его лирических песнях, писавшихся по образцу куртуазных песен трубадуров, еще слышатся отзвуки поэзии немецких шпильманов с ее лукавыми народными интонациями.
В меланхолические тона окрашены любовные песни Фридриха фон Хаузена (около 1150—1190), участника крестового похода, поэта, сыгравшего видную роль в развитии куртуазного миннезанга. Сравнивая себя с Энеем, много испытавшим на своем веку, поэт уверен, что прекрасная дама, которой оп отдал свое сердце, никогда не согласится стать его Дидоной («О, как она была горда...»). К тому же душевный разлад снедает поэта. Одержимый любовью, он бежит от нее, отправляясь в крестовый поход. В служении богу надеется найти он избавление от мирских треволнений («С моим упрямым сердцем в ссоре тело...»).
Тем временем приближался расцвет миннезанга. За Генрихом фон Фельдеке и Фридрихом фон Хаузеном потянулся длинный ряд поэтов, весьма изысканно воспевавших «высокую любовь». Попав в любовный плен, они почти не замечают окружающего мира, все существо их соткано из любовного томления, из тончайших переливов чувства. Особенно характерно это для поэзии Рейнмара фон Хагенау, названного Старым (около 1160 — около 1205), виднейшего предшественника Вальтера фон дер Фогельвейде. Поэт как бы бродит по заколдованному кругу наедине со своей любовной тоской. Песни его — обычпо скорбные монологи, наполненные жалобами и пенями. Рейнмар не устает сетовать на жестокосердие прекрасной дамы, которая хотя и принимает его служение, но лишает его даже самых незначительных своих милостей. Мелькают годы, а единственное приобретение верного миннезингера — это печальная седина («Ею жил я столько лет...»). Как и всякий влюбленный, поэт втайне мечтает о близости, о том, что счастье ему когда-нибудь улыбнется. Но он подавлен тем, что госпожа не пожелала оценить его преданности, верности и пылкого сердца. А ведь в мире вряд ли найдется любовь, которая была бы сильнее его любви («Госпожу я заклинаю столько лет!..»). И напрасно клеветники подвергают сомнению искренность его любовных излияний. В любви — его жизнь, по также и его горе. Горе исторгает из сердца влюбленного поэта скорбные песни. Иногда поэту даже начинает казаться, что любовная тоска превратила жар его сердца в леденящий холод. Даже весна не может совладать с его тоской. Для него перестали цвести цветы, умолкли певчие птицы. Вечная зима воцарилась в его сердце («От этих бед печаль жива...»).
При всем том поэт не отрекается нп от жизни, ни от любви. Даже истерзанный отчаянием, не смеет он клясть и порочить прекрасных дам («Что влюбленному страдальцу мой совет...»). Разве награда заключена не в самой любви? Разве не должен он радоваться тому, что госпожа не отвергает его песен? Да и следует ли вообще посягать на безупречную чистоту прекрасной дамы? Пусть уж лучше, не снисходя к земной суете, озаряет она мир своим дивным небесным сиянием («Поют не от хорошей жизни...»).
Встречаются у Рейнмара «женские песни» и стихотворные диалоги с участием женщин. В них порой раскрывается важная тайна. Оказывается, внешняя холодность дамы далеко не всегда означает ее бессердечие. Подчас это лишь маска, под которой таится трепетное сердце. Охотно внимая нежным песням рыцаря, испытывая к нему глубокое влечение и вместе с тем страшась падения, благородная дама в суровости находит выход из затруднительного положения («Все печали достаются мне одной...»).
Впрочем, не всегда поэты-рыцари блуждали в густом тумане любовной меланхолии. К ярким краскам питал, например, склонность выдающийся миннезингер Генрих фон Морунген (около 1150—1222). Его изящным, искусно скомпонованным песням присуща пластическая выразительность и общий светлый, жизнелюбивый тон. Даже в песнях о неразделенной любви земной мир не утрачивал для поэта своей привлекательности и многоцветности. Венцом земной красоты была, разумеется, прекрасная дама, пленившая миннезингера. На ее лице он видел «белые лилии и алые розы». Магия любви превращает красавицу в солнце, дарующее тепло и жизнь очарованному поэту. Малейшая благосклонность прекрасной дамы наполняет его беспредельной радостью и ликованием, и вся природа радуется и ликует вместе с ним («Сердце в небо воспарило...»). Та же природа подсказывает поэту сравнения и поэтические образы. Подобно молниям, зажигающим деревья, глаза красавицы воспламеняют его сердце. Ласточка не ждет так солнечных лучей, как поэт ждет нежных ласк своей избранницы («Очень многих этот мучает недуг...»). Себя поэт охотно сравнивает с певчей птицей, услаждающей слух госпожи. Есть основания полагать, что Генрих фон Морунген был знаком с латинской поэзией — средневековой и античной. Так, сравнение с Нарциссом поэта, заглядевшегося на возлюбленную («Чаянья, мечты, предноложенья!..»), заимствовано пз «Метаморфоз» Овидия.
Младшими современниками Генриха фон Морунгена были Гартман фон Ауэ (около 1170 —около 1210) и Вольфрам фон Эшенбах (около 1170— около 1220). Они прежде всего эпики, авторы замечательных рыцарских романов, но и куртуазная лирика их привлекала. Правда, лирическое наследие Гартмана не очень значительно. Среди многочисленных песен «высокой» любви, наводнявших в то время Германию (Генрих фон Ругге, Альбрехт фон Йохансдорф, Рудольф фон Фенис, император Генрих VI и др.), песни Гартмана не выделялись особенно заметно. Несравненно ярче его песня «Я теперь не слишком рад...», в которой поэт отрекался от служения знатным дамам и прямо заявлял, что «низкую» любовь предпочитает бесплодной и оскорбительной для мужчины куртуазной любви. Следует в связи с этим напомнить, что в романе «Бедный Генрих» Гартман с явным сочувствием повествовал о том, как самоотверженная крестьянская девушка стала законной супругой высокородного рыцаря, осмелившегося бросить вызов сословным предрассудкам средних веков.
Печатью сильного и самобытного таланта отмечены «песни рассвета» Вольфрама фон Эшенбаха, столь восхитившие Ф. Энгельса[7]*. В одной из них автор «Парцифаля» смело сравнивает рассвет, разлучающий влюбленных, со страшным чудовищем, неуклонно взбирающимся на небосвод и раздирающим тучи своими огненными когтями («Вот сквозь облака сверкнули на востоке...»).
Но, конечно, самую высокую вершину немецкой средневековой лирики образует многообразное творчество Вальтера фон дер Фогельвейде (около 1170—около 1230). Начав как ученик Рейнмара, он вскоре широко раздвинул границы миннезанга, обогатив его новыми темами и формами и той глубиной чувства, той задушевностью, которых не найти у других немецких поэтов средних веков. Бедный рыцарь, ведший беспокойную жизнь шпильмана и лишь на склоне лет получивший от императора Фридриха II небольшую усадьбу, избавлявшую его от нужды, Вальтер ближе стоял к окружающему миру, чем его знатные сотоварищи по искусству. Он много странствовал, многое видел, близко к сердцу принимал судьбы отчизны. Ему не было свойственно сословное высокомерие, обуревавшее, например, Бертрана де Борна. Напротив того, Вальтер в пору своего творческого расцвета демократизировал поэзию миннезанга, черпая из народных поэтических источников и прославляя наряду с «высокой» любовью любовь «низкую», бесконечно далекую от чопорного аристократического этикета. В чем-то он иногда перекликается с жизнерадостной поэзией вагантов. Для Вальтера подлинная, а следовательно, радостная любовь — это всегда «блаженство двух сердец», ибо одно сердце не может ее вместить («Любовь — что значит это слово?»). При этом простое, теплое слово «женщина» (wip) поэт предпочитает заносчивому, холодному слову «госпожа» (frouwe) и даже позволяет себе подшучивать над госпожами, лишенными женской привлекательности («Прямо скажу вам, что обществу только во вред...»). И героиней его песен подчас выступает не знатная, надменная дама, заставляющая страдать влюбленного, но простая девушка, сердечно отвечающая на чувства поэта. За ее стеклянное колечко поэт готов отдать «все золото придворных дам» («Любимая, пусть бог...»). Широко известна чудесная песенка Вальтера «В роще под липкой...» с веселым припевом «тандарадай», написанная в духе народной «женской» песни, такая милая и наивная, поднимающая «низкую» любовь на огромную высоту подлинного человеческого чувства.
При всем том Вальтер был и оставался поэтом куртуазным. Только для него куртуазия являлась не модой, не развлечением высшего света, но выражением нравственного и эстетического совершенства. Он был требователен к людям, ему ненавистна пошлость, лицемерие, своекорыстие, непостоянство. Он хочет, чтобы не по внешности судили о человеке, а по его душевным, нравственным свойствам («За красоту хвалите женщин...»). Тем острее воспринимал Вальтер начавшийся упадок куртуазной культуры, связанный с деградацией рыцарства, все более утрачивавшего свое историческое значение. Ему представлялось, что мир сбился с пути, без крова остались Верность и Правда, забыты Честь и Щедрость («Плох ты, мир!..»). Обычаи и нравы доброй старины ныне многим кажутся глупыми и смешными («День за днем страдать...»). Скудеют рыцари, перестают служить прекрасным дамам. При дворе грубостью вытесняется вежество. Благородному духу соответствовала благородная, благозвучная, высокая поэзия. Ныне хриплое кваканье жаб заглушает при дворе пенье соловьев («Горе песням благородным...») .
Для своих медитаций, наставлений и обличений Вальтер широко использовал жанр дидактического шпруха, распространенного к тому времени в немецкой поэзии демократического склада. Еще в 60—70-х годах XII века под именем поэта Сперфогеля увидело свет собрание однострофных шпрухов, связапных парными рифмами и содержащих моральные поучения и назидательные басни. Гибкая форма шпруха как нельзя лучше подходила для целей, которые ставил перед собой Вальтер. Ведь был он не только певцом любви, но и поэтом-публицистом, откликавшимся на события, волновавшие страну. В то время в Германии шла борьба за императорский престол и папа римский стремился извлечь наибольшую выгоду из немецкой неурядицы. Осуждая феодальные междоусобицы, раздиравшие империю после смерти в 1197 году Генриха VI, единственного сына Фридриха Барбароссы, Вальтер в императорской короне видел символ единой и могущественной Германии («В ручье среди лужайки...», «Я подсмотрел секреты...» и др.). В ряде язвительных шпрухов бичевал он преступную алчность папы и католического клира, беззастенчиво обиравших немцев и сеявших смуту в государстве. Антиклерикальные шпрухи Вальтера имели огромный успех в самых широких кругах. Вызывая ярость сторонников папской партии, они свидетельствовали о росте антиклерикальных настроений в стране, со временем пришедшей к Реформации.
К концу жизни Вальтер утратил былую жизнерадостность. Им овладели религиозные настроения. Он твердит, что мир наряден и привлекателен только снаружи, внутри же он черен и страшен, как смерть. Да и вообще все меняется к худшему, куда ни посмотришь. Настали тяжелые времена («Увы, промчались годы, сгорели все дотла...»).
Когда Вальтер с негодованием писал о мерзких жабах, заглушавших при дворе стройное пение соловьев,— он имел в виду прежде всего «деревенский миннезанг», шедший на смену «высокой» куртуазной поэзип (Нейдхарт фон Рейенталь, около 1180—1237, и др.). В рыцарскую поэзию вторгались бытовые сценки из крестьянской жизни, с перебранками, потасовками и прочими натуралистическими деталями. Подошла пора бюргерской поэзии, тяготевшей к изображению «низкой» прозы повседневной жизни. Угасал лирический порыв, уступавший место сухому дидактизму, столь ценимому в бюргерских кругах. Пожалуй, порыв этот еще продолжал сохраняться в религиозной поэзии, окрашенной в мистические тона (сестра Мехтхильд из Магдебурга (умерла около 1280 г.), анонимные песни), но то была поэзия отречения, расставшаяся с землей и обращенная к миру потустороннему. Впрочем, миннезанг угас не сразу, он еще довольно долго заявлял о себе, приобретя, однако, эпигонский характер. Но и среди эпигонов попадались поэты несомненно одаренные. К числу таких поэтов принадлежали, например, последний выдающийся куртуазный эпик Германии горожанин Конрад Вюрцбургский (около 1220—1287), не пренебрегавший лирической поэзией, и несомненно интересный поэт Марнер (годы творчества приблизительно— 1230—1270), последователь Вальтера фон дер Фогельвейде, написавший немало шпрухов, весьма разнообразных по своему содержанию.
Среди поэтов, связанных с традицией Нейдхарта, обращает на себя внимание Тангейзер (время творчества — около 1228—1265), ставший со временем героем популярной легенды. Тяготея к мотивам «низкой» любви, к формам народной плясовой несни, он подсмеивался над несообразностями куртуазного служения. Из автобиографических признаний поэта мы узнаем, что, подобно вагантам, он не сидел долго на одном месте, подвергался опасностям на суше и на море, в драной одежде, с пустым карманом, растратив все, что у него было, на женщин и вино. В легенде, впервые засвидетельствованной в народной песне 1515 года, Тангейзер становится возлюбленным г-жи Венеры и живет вместе с ней в сказочной «Венериной горе». Папа Урбан проклинает раскаявшегося грешника, заявляя, что как не может зазеленеть посох в его руке, так не может Тангейзер обрести прощение на земле. Удрученный Тангейзер возвращается в Венерину гору, а посох папы тем временем покрывается молодой зеленью, обличая недостойное жестокосердие верховного первосвященника.
Все чаще в XIII—XIV веках появляются поэты бюргерского происхождения, то перепевавшие мотивы высокого, или «деревенского», миннезанга (Иоганнес Хадлауб, Фрауенлоб), то с несомненным успехом трудившиеся на нние дидактической поэзии. Подъем городов укреплял их силы, питал их вольнодумство и обличительный пафос (Фрейданк). Но с литературной арены но сошли еще и рыцари, стремившиеся поддержать угасавший авторитет куртуазной поэзии. Одним из таких ревнителей куртуазии являлся Ульрих фон Лихтенштейн (1200—1275), проявлявший себя в различных экстравагантных выходках, которые вместо того, чтобы прославлять любовное служение, превращали его в нелепый фарс.
В XIV и XV веках наступил закат миннезанга. Все реже рыцари обращаются к поэзии. К тому же в новых исторических условиях само куртуазное служенпе становится явным апахронизмом. Новые веяния проникают в придворную поэзию. Собственно куртуазный элемент отходит на второй план, уступая место бытовым зарисовкам и размышлениям о состоянии современного общества. Графу Гуго фон Монтфорту (1357—1423) любовное служение даже начинает казаться греховным. Он твердит о быстротечности всего земного и предостерегает сильных мира сего от несправедливых поступков. Его удручает трагическое неустройство окружающей жпзни. По его словам, «мир сбился с пути», превратился в «дурацкий балаган». О торжествующей кривде и деградации рыцарства с тревогой и негодованием писал последний талантливый миннезингер — Освальд фон Волькенштейн (1377— 1445), проживший бурную, наполненную приключениями жизнь. Подобно Тапгейзеру, оп склоноп рассказывать о пережитом. Призрачпому миру куртуазного идеала предпочитает оп конкретные проявления жизненной правды. Даже весна наделена у него местным, тирольским колоритом. Наряду с пылкими любовными песнями, создавал он песни кабацкие, наполненные хмельным разгулом.
На этом заканчивался миннезанг, уступавший место бюргерскому мейстерзангу.
Наше представление о лирической поэзии средних веков было бы, йшюшо, весьма неполным, если бы мы прошли мимо латинской поэзии вагантов (vagantes — «бродячие люди»), озорных школяров, неунывающих клириков, поклонников Бахуса и Венеры. В средние века латинский язык был не только языком католической церкви, по также языком науки и образованности. В университетах, монастырских и городских школах занятия велись на латинском языке. Это давало возможность школярам, склонным к перемене мест, перебираться из одного университета в другой, из одной страны в другую, повсюду встречая привычную обстановку латинского велеречия. Встречались среди вагантов также клирики без определенных занятий, появлявшиеся то здесь, то там, представители низшего духовенства, не взысканные щедротами фортуны, разбитные клерки,— пестрая и шумная толпа латиноязычных поэтов из разных стран. Поднимая вагантов над массой «профанов», латинский язык приобщал их к духовной элите средних веков, вместе с тем на иерархической лестнице того времени они занимали достаточно скромное место. Большие господа посматривали на них свысока. Ваганты знали, что такое бедность и что такое унижение. Это сближало их с демократическими слоями, да, вероятно, многие из них вышли из этих слоев.
Во всяком случае, в поэзии вагантов проступали демократические черты. Ученые почитатели Овидия и Горация, искусные версификаторы, при случае блиставшие школьной эрудицией, охотно обращались к фольклору, используя мотивы и формы народных песен. По-латыни зазвучали и женские песни, и песни рассвета, и «весенние запевы» и т. п. Ваганты не стремились приукрашивать жизнь. Им совершенно чужда куртуазная манерность. В их жилах буйно колобродила молодая кровь. Они всегда готовы прославить щедрые дары природы, без всякого жеманства воспеть плотскую любовь, радости вииопнтия и азартные игры. Один из самых талантливых вагантов, называвший себя Архипиитом, то есть «поэтом поэтов» (середина XII в.), даже признавался, что кабацкий разгул укрепляет его вдохновение («Исповедь»), С уважением относясь к науке, гордясь тем, что со временем и они станут ее оплотом, ваганты в то же время шумно ликуют, когда приходит «день освобождения от цепей учения», песнями, плясками, любовными забавами отмечают они этот знаменательный день.
Радость и свобода — вот к чему устремлена душа вагантов. Устремлена в то время, когда вся жизнь средневекового человека была всецело подчинена строгой сословной и корпоративной регламентации. Этому чопорному миру ваганты противопоставляли свое вольное братство, в которое доступ открыт всем добрым и веселым людям, всем, кто готов поделиться последним грошом с нуждающимся, кто лишен высокомерия и ханжества,— без различия пола и возраста, общественного и имущественного положения, национальной принадлежности и вероисповедания. Зато лицемерным святошам, наглым щеголям и хищным стяжателям в вольное братство доступ заказан («Орден вагантов»). Манифест вагантов уже намечал путь, со временем приведший к «Телемскому аббатству» великого гуманиста эпохи Возрождения Франсуа Рабле.
Однако, мечтая о свободе и человеческой доброте, ваганты но собственному опыту знали, что мир, окружавший каждого из них, был скорее злым, чем добрым. Бедность следовала за ними но пятам, прерывала их учение, заставляла их мерзнуть и голодать. И хотя молодые весельчаки готовы были подчас и себе и другим внушать утешительную мысль, что бедность даже добродетель, им все же было трудно продираться сквозь жизнь с пустым карманом в дырявом рубище. Не раз и не два в песнях вагантов звучали жалобы на унизительную бедность, которая делала их игралищем бездушной фортуны. Об этом писал Архипиит Кельнский, сравнивавший себя с листом, гонимым по полю неутомимым ветром. Об этом писал и другой замечательный вагант — Гугон, по прозвищу Примас Орлеанский (около 1093—около 1160), немало испытавший на своем веку. Он, как и Архипиит, бойко выставлял на всеобщее обозрение свои неудачи и гораздо реже — удачи. Впрочем, ведь и куртуазные лирики в духе времени позволяли окружающим заглядывать в свою интимную жизнь, но то была жизнь, граничившая с легендой, подчиненная изысканной куртуазной моде. Ваганты не отрывались от грешной земли. Они гораздо конкретнее, откровеннее, хотя, вероятно, и им свойственно стремление подчинять поэтический мир определенной схеме, в которой уже не «высокая» любовь, а кабацкий разгул занимал одно из главных мест. В этом разгуле ваганты обретали желанную свободу, в то же время из-за него они часто превращались в голодранцев, тщетно взывавших о помощи к сильным мира сего.
Жестокосердие, обличаемое в песнях вагантов, чаще всего сопряжено с алчностью, с сребролюбием, стяжательством. Особенно широко эта тема развита в поэзии Вальтера Шатильонского (около 1135—1200), одного из самых образованных латинских поэтов XII века, автора обширной эпической поэмы «Александреида», посвященной деяниям Александра Македонского. Вальтер и ваганты, его последователи, гневно сетуют на то, что мошна стала подлинной владычицей мира. Ей служат надменные графы и дворяне, гоняющиеся за роскошью, и что особенно худо — ей служит духовенство, возглавляемое папской курией. Обличая клир и прежде всего разросшуюся симонию, поэты не стесняются в выборе крепких словечек. Церковников они называют волками в овечьей шкуре, церковь сравнивают с продажной блудницей, а папский Рим — с грязным рынком, преисполненным скверны. Эти резкие выпады против князей церкви и их подручных, если и не делали вагантов воинствующими еретиками, наподобие Арнольда Брешианского, казненного папой в 1155 году, все же свидетельствовали о их вольномыслии. Ваганты не были раболепными чадами церкви. Они не желали кривить душой и прославлять то, что считали дурным и вредным. Дух вольномыслия царил в их лирической поэзии, от которой; говоря словами Рабле, «скорее пахнет вином, чем елеем». Архипиит Кельнский мог, например, вполне благочестивую стихотворную «проповедь» неожиданно закончить обращением к богу, которого он убедительно просит снабжать его деньгами. А в своей знаменитой «Исповеди», пронизанной горьким юмором, прославить беспутную жизнь ваганта, предпочитающего умереть не на ложе, а в кабаке. Серьезные жанры духовной словесности тем самым приобретали пародийное звучание. Обращаясь к распространенному в средние века жанру «прений» (диспутов), ваганты заставляют заурядное пиво спорить с виноградным вином («Спор между Вакхом и пивом») или же, касаясь традиционного вопроса: кому в делах любовных следует вручить пальму первенства, ставят молодого школяра-клирика выше высокородного рыцаря («Флора и Филида»),
Достигнув в XIII веке большого расцвета, поэзия вагантов имела свою предысторию. Еще в пору раннего средневековья встречались латинские стихотворения, близкие по своему духу к вагантам. Они обращают на себя внимание уже в Каролингский период («Каролингские ритмы», VIII— IX вв.). Светские стихотворения о весне, любви и забавных происшествиях встречаются в сборнике XI века «Кембриджские песни», названном но месту нахождения рукописи (в Кембридже). Что же касается до вагантов, то с ними мы знакомимся прежде всего по обширному сборнику «Carmina Вuгапа» («Буранские песни»), составленному в XIII веке в Баварии и найденному в начале XIX века в Бенедиктбейренском монастыре. На немецкое происхождение этого сборника указывает то, что в нем наряду с латинскими текстами иногда встречаются тексты на немецком языке.
Творчество трубадуров, миннезингеров и вагантов, хотя и не исчерпывает всего богатства европейской лирики средних веков, все же дает ясное представление о том расцвете, который наступил в лирической поэзии Европы в XII—XIII веках. Если оставить в стороне классическую древность, это был первый великий расцвет европейской лирики, за которым в свое время последовал еще более могучий расцвет, порожденный эпохой Возрождения. Но ведь ренессансная поэзия множеством нитей была связана с прогрессивными литературными исканиями предшествующих столетий. Об этом не следует забывать.
(support [a t] reallib.org)