"Приключения-1988" - читать интересную книгу автора (Нилин Павел, Герман Юрий, Вайнеры Аркадий и...)
ЮРИЙ ГЕРМАН НАШ ДРУГ ИВАН БОДУНОВ Повесть
Мне было двадцать три. В этом возрасте многие молодые люди убеждены в том, что накопили изрядный житейский опыт. Не составлял исключения и я. За плечами работа в газетах, две книги, пьеса — разве не умудренный жизнью человек входил сейчас в Управление ленинградской милиции?
Пропуск мне выписали мгновенно — у меня было удостоверение, подписанное редактором газеты «Известия». И предстояло мне написать очерк под названием «Сутки в уголовном розыске». Ничего особенного, я же знал вперед: и то, что у плохого человека «бегающий взгляд» и «звериный оскал», а хороший, положительный персонаж смотрит тебе прямо в глаза, что преступные подонки в показаниях путаются и изворачиваются, в то время как честные люди смотрят «открыто», цвет радужки у них по преимуществу голубой, зубы у них, разумеется, белые, и на вопросы отвечают они четко и ясно.
Все изложенное, конечно, не было плодом моей выдумки. Так был я воспитан тем, что читал, и это вовсе неудивительно по тем временам. Удивительно, но и печально другое, а именно то, что и по сей день печатаются разные статейки, и очерки, и даже книги, в которых «положительные» и «отрицательные» разделяются по вышеуказанным признакам.
И вот к начальнику уголовного розыска я явился с багажом сведений и взглядов, легко умещающимся в понятия: «оскал», «звериный лик», «бегающие», «изворачивается», «низкий лоб», «дегенеративная челюсть», «преступный мир».
Отрекомендовавшись и, разумеется, предъявив свое шикарное удостоверение, которое начальник внимательно прочитал, я огляделся, предполагая увидеть тут незамедлительно либо «зверски расчлененный труп», либо «окровавленный нож», либо, на худой конец, хоть представителя преступного мира с низким лбом, татуировкой и зверским выражением искаженного ненавистью лица. Надо учесть, что в те годы обо всяких происшествиях писали преимущественно поднаторевшие в этом ремесле еще при царе старые, дошлые газетчики.
Но никаких ужасов в кабинете начальника, разумеется, я не обнаружил.
Начальник покуривал, мирно пил жидкий чай с черствой булочкой, раздумывал. Потом он неторопливо сказал:
— Направлю-ка я вас к товарищу Бодунову. Иван Васильевич управится.
Слова «управится» я не понял, и оно мне не очень понравилось.
— Это в каком же смысле — управится?
— Вообще — управится, во всяком смысле, — уклонился от прямого ответа начальник. — Вы идите, товарищ корреспондент, вас туда проводят, а я позвоню...
При мне начальник звонить почему-то не хотел. Жевал свою булочку и ждал, покуда я уберусь в седьмую бригаду.
Длинными коридорами и извилистыми переходами секретарь — адъютант начальника — повел меня к таинственному Бодунову, который должен был со мной «управиться». Тут, в сумерках, насыщенных застарелым табачным дымом, запахом дезинфекции и сырости, бродили и дремали на деревянных скамьях какие-то подозрительные личности с поднятыми воротниками, женщины, преимущественно под вуалями, и, как я успел заметить, довольно много матерей с малолетними детишками...
— Хорошо ли здесь мамаш с ребятишками задерживать? — спросил я моего сопровождающего.
— А здешний контингент детей преимущественно напрокат берет, — сказал мой бодрый спутник. — Девяносто процентов на жалость работает. И даже больше. А если действительно мамаша, она постарается ребенка сюда не приносить.
Бодунов встретил меня в дверях своего небольшого кабинета — высокий, очень стройный, с широкими плечами, подтянутый, еще не успевший перестать смеяться, как я правильно догадался, после разговора с начальником.
— Ну так, — деловито и суховато сказал Бодунов, быстро пожав мне руку своей сильной, большой и горячей ладонью, — так. С чего начнем? Какие вам нужны кошмарные преступления? На сегодняшний день ничем выдающимся по вашей части похвалиться не можем, а в музее имеется кое-что. Направимся в музей? Или хотите побеседовать с героями будней уголовного розыска? Есть и такие, Рянгин имеется, Берг Эрих, Чирков Николай Иванович — мужик дошлый. У нас все есть...
Даже несмотря на отсутствие житейского опыта, я почувствовал в скороговорке Ивана Васильевича насмешку. Почувствовал остро, как чувствуют в молодости.
— Нет, — не без твердой злобы произнес я, — мне пока просто бы присмотреться. Я постараюсь никому не мешать.
— А вам к какому числу нужно ваш очерк закончить?
— То есть как это — к какому?
— Обычно когда к нам из газеты приходят, то торопятся. Говорят: «Материал намечен в полосу на завтра».
Смотрел он на меня остро, лукаво-насмешливо, но довольно доброжелательно. Должно быть, забавлялся моей обидчивой молодостью. Да и красен я был, наверное, от происходящей беседы.
— На когда ваш материал намечен?
Я ответил, что не тороплюсь, что моя газета серьезная, да и не только в газете дело. Тут я замялся. Говорить о себе как о писателе мне было неловко. Впрочем, тогда я и не думал писать о «сыщиках и ворах».
— А в чем же еще дело? — быстро осведомился Иван Васильевич.
Теперь он буквально сверлил меня своим живым, добродушно-лукавым взглядом.
— Хочу подетальнее ознакомиться, поближе все узнать, пояснее себе представить.
— Соскучитесь! — предупредил Иван Васильевич.
— Разве у вас можно соскучиться?
— Случалось со многими. Впрочем, дело ваше. В нашей бригаде товарищи предупреждены — присутствуйте, вам мешать никто не будет.
Он поднялся, такой ловкий и ладный человек, что невозможно было им не любоваться, взглянул на часы, поправил ремень на гимнастерке, повернул ключ в сейфе и, не оставив нигде ни одного клочка бумаги, уехал. А я начал «присутствовать»: подсел к Рянгину, который допрашивал некоего старика, похожего на Минина с памятника в Москве, про каких-то гусей.
— Битая птица, — диктовал юный Рянгин сам себе, — обнаруженная...
Старик не соглашался:
— Гуси, а не птица! Птицу не подпишу!
— А гусь не птица, что ли?
— Не подпишу, и все. Мой верх.
Про гусей было действительно очень скучно. Я подсел к Эриху Карловичу Бергу — высокому, красивому, бледному, в черной сатиновой косоворотке, в накинутом на плечи пиджаке. Перед ним курила папиросу сильно накрашенная блондинка, покачивала ногой в лаковой туфельке, плакала быстрыми слезами.
— Вы подвергаете меня клевете, — жалостно говорила она. — Не дай боженька попасть к такому куколке, как вы, гражданин начальничек. Какая могла быть стрельба, когда я в их общество и не входила. Больно мне нужны ихние преферансы...
— Не будем придуриваться, Наполеон, — со вздохом сказал Берг, — мы же не в первый раз встречаемся...
Я написал Бергу записку: «Почему Наполеон?» Он сказал женщине:
— Вот начальник интересуется, почему вы, гражданка Псюкина, — Наполеон?
— Прозвали! — пожала Псюкина плечами. — С другой стороны, мое фамилие — рвать охота! А на Наполеона, говорят, похожа не в анфас, а в профиль. Похожа, начальничек?
Она действительно была вылитым Наполеоном с известного барельефа, только без лаврового венка.
— Вот, Наполеон, опишет ваши похождения начальник, некрасиво получится, — посулил Берг. — Рассказали бы все лучше по-честному! Этот товарищ из газеты!
Псюкина-Наполеон вдруг вдохновилась.
— А и пусть опишет! — заговорила она громко. — Мы, как те чайки — белоснежные птицы, стонем и плачем, плачем и стонем. Что жизнь наша?
За ее спиной распахнулась дверь, вошел Бодунов, в кожаном реглане, веселый, румяный от мороза. Наполеон не слышала, ее охватило вдохновение лжи, она, что называется, «зашлась»:
— Не входят в психологию! Ломают жизни! А мы белоснежные птицы чайки...
Я ничего не понимал, но мне было жалко Псюкину-Наполеона. И бледный, усталый, иронически улыбающийся Берг внушал чувство раздражения. А за спиной птицы чайки Псюкиной веселился здоровый, сильный, рослый, уверенный в себе Бодунов.
— Здесь жестокие люди, — трагическим голосом, на нижнем регистре, патетически произносила Наполеон, — жестокие, нечуткие, бабашки железные, а не перевоспитатели...
Из глаз Наполеона вдруг хлынули слезы.
Обильным слезам трудно не верить. И по виду моему Бодунов, конечно, понял, что Псюкина-Наполеон тронула мое сердце.
— Ната, ведь не он в вас стрелял, а вы в него, — негромко сказал Иван Васильевич.
Наполеон вздрогнула.
— Уже раскопал, — сказала она, — вот только здесь был, а вот вернулся и раскопал. Прямо на три аршина под землю смотрит.
Слезы еще текли по ее густо напудренным щекам, но она уже улыбалась кокетливо и, по ее понятиям, обольстительно.
— Это я пошутила, гражданин начальник, — сказала она мне. — Они не слишком жестокие люди, они законность не нарушают. А что слезы у меня пошли, так это от глубокого раскаяния. Такая охота вырваться из преступного мира.
— Будем писать? — спросил Берг.
— Уже и протокол писать! Я еще и с гражданином Бодуновым не поздоровалась...
Все еще сидя спиной к Ивану Васильевичу, Наполеон напудрилась, накрасила губы, послюнила ресницы и наконец, обернувшись, сказала, сюсюкая, как ребенку:
— Ух какие нацальницки холосенькие! Ух какие класавцики! Так бы и скусала без маслица...
— А за что стреляла? — спросил Бодунов.
— За цасики, — все так же сладко пропела Наполеон. — Он все золотые цасики себе забрал, сеснадцать пар...
— А ювелирный магазин он ограбил?
— Это секрет, — подобравшись и блеснув на Бодунова еще недавно маслеными глазками, произнесла Наполеон. — Смотря по его поведению...
Бодунов и Берг встретились глазами. Они, конечно, знали много больше того, что могла предположить Наполеон. Но, наверное, было еще рано выкладывать карты на стол.
Или они играли с Наполеоном?
— Я подумаю, — попросила Псюкина. — Ямщик, не гони лошадей, нам некуда больше спешить.
— Спешить некуда, — согласился Иван Васильевич. — Фрумкин умер, он не упал со страху за прилавок, а умер. Пуля пробила сердце.
— А мне показалось, что плакала она совершенно искренне, — через час сказал я Бодунову. — И жалко ее было.
— Они «заводятся», — задумчиво ответил Иван Васильевич. — Бывает, что и сами себе верят. В нашей работе нужны факты. Точные факты. Хорошие, проверенные, серьезные, деловые. Наполеон опасная преступница. Крайне опасная. Вообще, советую, всматривайтесь внимательнее. Здесь очень легко ошибиться, а расхлебывать ошибку будете не вы, допустим, совершивший ошибку здесь, а совершенно ни в чем не повинный человек, как старик Фрумкин, которого они убили. А это не первая кровь на Наполеоне.
— Ее уже судили?
— И поверили чистосердечному признанию вины. Она так «завелась» на суде, что...
Он махнул рукой и сказал то, что я не раз потом слышал от Ивана Васильевича в минуты горькой досады:
— Добрые за чужой счет!
В соседней комнате Берг все еще допрашивал Наполеона. Вид у Эриха был совершенно измученный.
— Вдается в вопросы любви, — пожаловался он Бодунову. — Теперь у нее вариант, что она мстила Жоре за измену.
— Он жутко страстный ко всем женщинам, — пояснила Наполеон. — Если моложе семидесяти лет — он пропадает. Разве я не могу внести этот мотив?
Потом мы вчетвером — Бодунов, Берг, Рянгин и я — пошли обедать: «щи флотские, биточки по-казацки». Берг, сидя за столом, засыпал.
— Шестнадцать суток мотался, — сказал Иван Васильевич про своего оперуполномоченного. — И повязал Чижа. Теперь, естественно, носом клюет. Нет, конечно, он спал, но спал не по-настоящему, спал сидя, полулежа, зная, что должен услышать то, что понадобится. А еще, наверное, попадет от жены, она уже мне звонила, сказала: «Все вы, мужчины, друг друга покрываете — у него вторая семья». Написали бы про нас, чтобы жены не сердились, а то у них теория — «позвонить-то можешь!».
Не раз впоследствии я замечал, что Бодунов любуется на своих «ребят», как называл он работников бригады: на совсем молоденьких помощников оперативных уполномоченных, на тех, кто чуть постарше, — на «оперов», и на стариков — старших оперов. Старикам было лет по тридцать, не более; солидностью и они не выделялись, иногда по соседству с кабинетом Ивана Васильевича раздавались тяжелые, грохочущие звуки, напоминавшие—топот копыт в деннике — это бригада упражнялась в различных видах борьбы...
— Разминка! — улыбался Бодунов. — Застоялись! Ох, народец!
И в этом «народец» слышалась мне ни чем не прикрытая гордость — прекрасное качество любого начальника — гордость подчиненными.
Однажды Берг и Коля Бируля притащили в кабинет Бодунова потертый, с кожаными швами, страшной тяжести портплед. Расстегнув ремни, оба сыщика со скучающими лицами, как и положено настоящим, всего повидавшим мужчинам, продемонстрировали начальнику бригады сотни часов, портсигаров, колец, браслетов, царских империалов и полуимпериалов, серебряных с золотом шкатулок и подстаканников, ложек, ножей, вилок и прочего ценного товара. Портплед, по словам Берга, «тянул на миллионы».
— Ну уж и на миллионы! — поддразнивающим голосом сказал Бодунов.
— А чего? Тут чистое золото есть, платина...
— Больно вы разбираетесь...
— Так это ж одному человеку не поднять! — тоже обиделся Коля Бируля. — Вы попробуйте!
Бодунов попробовал и поднял.
— Мало каши ели! — сказал он.
Выяснилось, что каши «оперы» ели действительно мало. Сидели в засаде, потом гонялись за бандой, потом выслеживали портплед, потом охотились за каким-то Устином. Теперь они страшно хотели есть, но вначале надо было сдать лицу, на это уполномоченному, ценности. Лицо же отсутствовало.
— Мы покушаем, — сказал Коля Бируля, — а мешок тут полежит. Можно, товарищ начальник?
Они вышли, не закрыв за собой дверь. И тотчас же из соседней комнаты донесся голос Берга:
— Коля, одолжи два рубля.
— Ты мне с прошлой получки еще пятерку не отдал, — сказал Бируля. — Живешь не по средствам.
— В среду сразу семь отдам. Тебе же выгоднее...
Бодунов слушал, счастливо улыбаясь.
— Не отдашь. Ты и Чиркову должен, и Рянгину. Положение твое, брат, безвыходное...
— Тогда я буду тебя щекотать! — страшным голосом сказал Берг, и Бируля тотчас же взвизгнул...
В бригаде все знали, что бесстрашный Коля отчаянно боится щекотки.
Бодунов тихонько прихлопнул дверь.
— Вот какие ребята, — сказал Бодунов. — Видали?
И, посмеиваясь, стал рассказывать подряд об всех: и о Пете Карасеве, и о Яше Лузине, и о Бургасе, и о Силантьеве, и о Жене Осипенко, и о Куликовском, и о Васе Сидорове...
— Тут года два назад большой шум был, — говорил Бодунов, прохаживаясь по своему кабинету. — Бо-оль-шой. Для вас эти процессы незаметно проходили, а здесь по нашим будням — круто пришлось, очень круто. Видите ли, нэпман как таковой вовсе не сдался. Он ушел в подполье и стал взаимозаменяться. «Торговля кожевенными товарами» в Ленинграде юркнула в Харьков и стала там жить да поживать с идеальными документами на имя, допустим, Удодова. А «Торговля строительными материалами» из Харькова обосновалась в Ленинграде тоже с новыми документами на имя, скажем, Худякова. Люди все свои, рука руку моет, эшелоны в Харьков из Ленинграда, встречные сюда, короче, частная лавочка во всесоюзном масштабе. Ну мы, естественно, крупных нэпманов знали и не по документам, а лично, потому что это все с уголовщиной перепутано. Конечно, нэпман ничего не жалел, на все шел — и материально, и морально. Главный рычаг — взятка. Ничего, сдюжили. Тогда нэпман пошел стеной на выдвиженца, — у нас в торговлю были направлены представители рабочего класса — выдвиженцы. Тут нэпманы обратились к двум братьям — братишечки Береговые. Чрезвычайно классные бандиты, сколько они народу побили в первые же дни — не пересказать. Вот тут мои ребята себя и проявили. Четыреста засад в магазинах выдержали. Четыреста, а ведь это не на час, на два, — неделями сидели. Береговые-то как действовали? С наганами в магазин: «Ложись, выдвиженцы! Считаю до трех! Раз, два, три...» А выдвиженец — рабочий товарищ. Он грудью на кассу. Сколько хороших людей поубивали. Мои ребята ну просто кипели. Каждый выстрел бандитов будто по ним лично, понимаете? Гук у нас, старший оперуполномоченный, так он и есть перестал вовсе. Только воду пил, пока Береговых не повязали. А повязали — двое суток спал. Еще Валевка был такой, охотников убивал — из-за ружей. Хорошее ружье дорого стоит. Ну а какой охотник в другом охотнике заподозрит убийцу? Любители природы, покурят, поврут друг другу, а Валевка с десяти шагов и влепит жакана. Тут же закопает труп в лесу — ищи потом свищи. Мои ребята и взялись. Охотниками пошли по лесам и полям. Долго мучились, долго искали...
— А вы сами сидели в кабинете? — спросил я.
— По-разному бывало, — ответил Бодунов. — Иногда и сам под охотника кривлялся. А с Береговым со старшим — тоже еще деталь: одна засада едва его не взяла — подстрелили, сильно ранили. А он нырнул в этом же доме к частному врачу и сказал ему, что ранен на любовной почве. У врача у этого и отлежался после извлечения пули. А доктор-то только наутро узнал, когда Береговой ушел, что приютил бандита-налетчика. Конечно, прибежал каяться, да что с покаяния? Долго еще ловили Берегового.
— Кто же его взял?
— Мы.
— Кто «мы»?
— Да наша же бригада.
Я спросил у Чиркова, кто «повязал» Береговых.
— Как кто? — удивился Николай Иванович. — Начальник. Едва братишки его не убили — по стволу нагана ударил, наган в воздух выстрелил.
Бодунов гордился своими «орлами-сыщиками», орлы гордились начальником бригады. Я слышал такой разговор:
— Гринь, а Гринь, верно, что тебя Бодунов к себе взял?
— Честное пионерское.
— Сам вызвал и забрал?
— Сам.
— С чего ж это?
— Наверное, с того, что в моем лице ты видишь выдающегося грозу жуликов и убийц!
— Повезло тебе, Гриня!
— Я и сам удивляюсь.
— Ты намекни про меня.
— Не намекну.
— Почему?
— Бесполезно.
— Почему — бесполезно?
— Отзывался о тебе, что ты больно много болтаешь. «Звонит, — говорит, — и звонит. Не сыщик, а разговорщик».
— Так и сказал?
— Точно так. Так что ты пересмотри свое отношение к болтовне.
Любили Бодунова самозабвенно. Рассказывали о нем легенды. В рассказах молва перемешивалась с правдой, но сомневаться «орлы-сыщики» не дозволяли никому.
— Льва Романовича Шейнина знаете? — спросил меня Берг.
— Знаю.
— Все, что он пишет, — это про Бодунова.
Рянгин сказал:
— Иван Васильевич сам убил Леньку Пантелеева, взял Чугуна, в бою ликвидировал Котика, Барона, Вову-матроса...
Я спросил об этом Ивана Васильевича. Он весело отмахнулся:
— Врут! Но кое-что и на мою долю пришлось...
Что это «кое-что», я так и не узнал. Бодунов терпеть не мог рассказывать про себя. Но его «орлы» рассказывали подробности. От Берга я услышал:
— Пантелеев носил два пистолета в рукавах. И знал, что наш батя на его следу. А Иван не будь прост — из кармана реглана, не вынимая пистолета, засадил. Жалел потом пальто очень. Кожа хорошая была, а батя наш аккуратный старик!
Старику в ту пору шел тридцать пятый год.
— Наш Иван Васильевич уважает открытый бой, — не торопясь рассказывал степенный Рянгин. — Эти засады всякие — не по его характеру. Да и перевелись нынче крупные хищники. Чугуна не сыщешь. Вот старика бы бросить на американских гангстеров — он бы им дал жизни.
Николай Иванович Чирков, заместитель Бодунова, говорил:
— Иван Васильевич любит «хитрые» дела. Чтобы подумать, поразмышлять. Чтобы разобраться во всех ходах, перекрыть пути отступления и идти на ликвидацию красиво. Бодуновские дела, как цветочки, изящные. Он, например, считает, что стрельба — лишний фактор, в некоторых случаях — безграмотность. Палят, бывает, от страха. Сам, конечно, как скажет «спокойненько, ручки кверху» — и действительно — спокойненько, никуда не денешься.
А Иван Васильевич только улыбался на мои расспросы.
И рассказывал про своих «орлов-сыщиков».
По его словам, лучшей бригады не было ни у кого. Даже знаменитый в те годы Колодей не имел таких «мальчиков», как Бодунов.
— Золото! — говорил он, радостно блестя глазами. — Вот Рянгина изучите. Явился ко мне в двадцать восьмом году: «Возьмите в сыщики». Я прогнал мальчонку — куда мне такой? Кончил экономический институт — пришел опять: возьмите, я бухгалтер-экономист.- Сейчас по бухгалтерским комбинациям — крупнее головы нет. Любого эксперта забьет. А оперативник какой? И это при том, что с его способностями он бы главным бухгалтером треста мог стать. Оклад — соответственно. Машина. Костюм — шевиот. Галстук-бабочка. Бефстроганов на ужин. А у меня что? Стихи товарища Маяковского — «Моя милиция меня бережет»?
Про Берга:
— Классный токарь, замечательные руки. Прапрадеда царь Петр привез токарем. Все — потомственные, пролетариат высшей закалки. Мог бы на уникальных станках заработки зарабатывать, однако по комсомольской мобилизации к нам пришел, и через год, через год всего вручили мы ему золотое оружие. Занимается, изучает что положено, а если где в городе преступление — бледнеет. Все ему кажется, что перед трудящимися, перед народом он лично виноват: упустил, проглядел, прохлопал.
Про Володю — совсем юного «орла-сыщика»:
— Грузчик он — возчик, на автокачке работал. Вез ночью сельди в бочонках и икру — банки голубые в ящиках. Напали двое — по-старинному, с инструментами, как в песне поется: «Не гулял с кистенем». Так эти как раз с кистенями гуляли. А Володя — сами знаете — с виду ничего особенного. Но богатырь душой. Изловчился, поднявши руки поначалу, обоих сгреб лапищами — да и ахнул лбами друг об друга, отбил помороки. Инструмент бандитский — кистени — подобрал, а голубчиков, братьев-разбойников, привязал своей снастью к селедкам и ящикам с икрой, покрыл сверху брезентом, чтобы вид был у автокачки культурный, и к нам сюда, на площадь Урицкого. В три часа ночи доставил. Наши, конечно, дежурившие и оперативники мне позвонили, чтобы увидел я своими глазами эту великолепную картину. Володя же попросился у нас работать — «хоть в ученики, хоть в сторожа для начала». Взял я его. Феноменальный товарищ — и мозгами богатый, и силой, и кротостью. С такими нигде не пропадешь.
Про Чиркова:
— Выдержанный товарищ. Можно положиться при любых обстоятельствах. А у нас это большое дело. Бывает, оказываешься вдвоем: два человека — и тыл, и фронт, и связь, и командование, и резерв главного командования, и штаб, и арсенал. Станем спина к спине и раздумываем. Впрочем, сейчас времена сравнительно тихие, а было... Было, что и вовсе захлебывались от бандитизма. И война, и интервенция, и голод, и холод, и эти твари шуруют. А Чирков вам пусть про свой бриллиант расскажет — хорошее было дело, красивое. Хлебнул тогда наш Николай Иванович. Сейчас смешно, а в ту пору не до смеха было...
Про всю свою бригаду:
— Один к одному народ подобрался.
Это смешно, этому даже тогда не очень верилось, но это факт: «крупная дичь» — квалифицированные мошенники, а они в ту пору еще водились, взломщики-профессионалы, старые воры-комбинаторы гордились, выставлялись друг перед другом, что «сидят за Бодуновым».
— Кто тебя брал?
— Папа Ваня.
— Сам лично?
— За ним сижу.
— А что ты такое сделал, что за ним сидишь? Из тебя же песок сыплется. Видали, люди, он за папой Ваней сидит.
Если допрашивал «сам» — это было предметом гордости. Берг мне как-то пожаловался:
— Вот — сидит и на меня печально глядит. Желает только самого Ивана Васильевича.
Ворюга-рецидивист по кличке Муля-офицер, портрет которого долго висел в музее уголовного розыска, вздохнул:
— Хорошему человеку приятно сделать хорошее настроение. Гражданин Бодунов будет мною доволен. А с этими...
Он показал рукою на Берга:
— С этими... Они даже не знают, какие у нас есть воспоминания с гражданином Бодуновым.
Бывшая княгиня Голицына, женщина вызывающе, грозно красивая даже тогда, в тюрьме, говорила мне:
— Бодунов — сильная, выдающаяся личность. Он верит в свое дело, в коммунизм. Разумеется, мы с ним не болтали на эти темы, но он — сама убежденность, которой трудно противостоять. Я рассказала ему все, и не знаю, как это случилось. И он не повысил на меня голос ни разу, он был безупречно вежлив, даже аристократичен, может быть, изысканно аристократичен. Раздавила меня его улыбка...
Я спросил у Ивана Васильевича, какая это его улыбка «раздавила» княгиню Голицыну. Он искренне удивился:
— Улыбка?
Потом вспомнил:
— Конечно, смешно. Она продала наш Мраморный дворец американскому гражданину Дугласу Уортону. За хорошие деньги. Купчая была оформлена по всем правилам, деньги княгиня получила изрядные. А одна фразочка там действительно меня насмешила: «Сия купчая вступает в законную силу не более чем через три дня после падения советской власти, но, однако же, не позднее, чем через десять лет после ноября 10 дня года 1930». Дуглас этот самый подождал в аккурат до одиннадцатого дня, а там и пошла чесать губерния. С этого вопроса я и стал, наверное, улыбаться.
Бодунов и сейчас, рассказывая мне о «проделках» княгини, улыбался. Потом сказал с насмешливой уважительностью:
— Способная тетя. Ей бы там, в капиталистическом мире, цены не было.
— Один Мраморный дворец продала или еще что-нибудь? — спросил я.
— Из недвижимости? Да нет, понемножку рассказывает и о других своих махинациях. Грозится даже валюту вернуть. Подождем — увидим. Женщина неглупая, свою выгоду понимает...
Жила бригада Бодунова дружно. Патетических слов там не произносили. И подолгу простаивали перед планом Ленинграда, как бы разгадывая и упреждая грядущие неприятности. Заседания были у Ивана Васильевича не в чести, разговаривали походя, коротко, густо, «звонить» считалось непристойным, обменяются адресами — кто куда поехал, и вся недолга. Но кропотливо и подолгу, не жалея времени, обсуждали свершенную по воле обстоятельств или по неопытности самую мельчайшую ошибку. Не бранились, но «исследовали». Назывались эти обсуждения в бригаде «судебно-медицинскими вскрытиями». Последним заключал Иван Васильевич. Это всегда делалось с истинным блеском. Мы слушали его, затаив дыхание. Будничное вдруг превращалось в героическое, героическое — по форме поступка очередного «орла-сыщика» — оборачивалось глупым фанфаронством, игрой со смертью, кокетством. Фамилия виновного не называлась — все знали и так. Про допустившего оплошность говорилось он. Или этот. Или — самое страшное — наш
Было еще страшное наказание, формулировалось оно так: «С оперативной работы временно снять».
Это никуда не записывалось. Здесь работали коммунисты. Ошибка в прямом смысле этого слова могла стоить жизни, Наказание определялось не капризом или прихотью начальника, а той его резолюцией, которая вытекала из результатов «вскрытия». Такое решение диктовалось коллективной волей сотоварищей-коммунистов, формулировал решение самый опытный, самый даровитый, истинно и искренне любимый всеми старший товарищ.
Такого «с оперативной работы временно снятого» я видел как-то в то мгновение, когда Иван Васильевич дернул его за нос и сказал:
— Ну, «горе-сыщик»? Выше голову, хвост трубой!
Жили дружно. Водку не пили, иногда пили за обедом пиво. Если кто появлялся в новом пиджаке или вдруг строилось пальто — начинались разговоры о том, что обладатель новой одежды, наверное, женится. Вечно друг друга поддразнивали, «розыгрыши» затевались по нескольку раз в день. Иногда в седьмой бодуновской бригаде стоял такой хохот, что буквально дрожали старые стены здания бывшего Главного штаба. «Орлы-сыщики» изображали друг друга — беззлобно, необыкновенно наблюдательно, весело, остроумно, с абсолютной точностью. Показывались целые спектакли, и Иван Васильевич, смешливый, как все добрые по натуре люди, буквально утирал слезы от смеха. Сюжеты представлений были такие:
«А. задержал на толкучке по ошибке не скупщицу грабленого, а знаменитую артистку Н. Он объясняет артистке, что она барыга. Артистка объясняет А., кто он такой. Прокурор по надзору беседует с А. о том, как он опозорился. А. идет к артистке домой с извинениями. Артистка выгоняет А. помелом. Горемыка А. докладывает начальнику, как его выгнали».
Другой сюжет нехитрого представления:
«Р. имеет сведения, что в обозе нечистот, вывозимых из поселка такого-то, будет спрятан бидон с золотом. Наивный Р. выспрашивает у золотовозов, где золото. Золотовозы объясняют, что они все везут «золото». И т. д.».
Третий сюжет:
«Н. рассказывает любимой девушке о риске, с которым сопряжена работа в розыске».
В четвертом показывалось, как Екатерина Ивановна Чиркова — супруга «замнача» Николая Ивановича бежит по перрону за уходящим поездом, дабы ее «Коленька» не уехал ловить бандитов в мерзлые, февральские болота без валенок. «Стойте, стойте! — будто бы кричит Екатерина Ивановна поезду и бросает в тамбур сначала один валенок, а в тамбур другого вагона второй. «Ничего, Коленька соберет!»
Чаще всего показывали, как Николай Иванович отправился раз в жизни с Катенькой в ресторан и как Катеньке пришлось вместе с Бодуновым и мужем ловить бандитов. С тех пор будто Екатерина Ивановна от приглашений в рестораны решительно отказывается.
В театр ходили почти всегда все вместе. Это не были официальные культпоходы, просто врозь этим побратимам-сыщикам было неинтересно. Они спорили уже в антрактах, они обсуждали увиденное сразу после спектакля: «дан тип» или «не дан тип», «жизненно это или не жизненно», «есть тут для ума и сердца» или одно только глупое развлечение. Очень любили, чтобы было для ума и сердца. И ходить с ними в театр — с высокими, статными, чисто выбритыми, умеющими думать и жадно смотреть — было приятно. Иван Васильевич свои мнения по поводу спектаклей или кинокартин высказывать не слишком любил. Посмотрев то, что было ему по душе, он задумывался, на решительные слова своей бригады посмеивался, иногда говорил:
— Здорово все всё понимать стали. С грамотой едва управился, а писателя судит. Ты попробуй сам напиши. Сдюжишь?
Помню, как поразил нас всех «Егор Булычев». И вдруг оказалось, что Бодунов таких видел, знал, разговаривал с ними «по долгу службы». Тогда, после спектакля, мы стояли над неподвижной Фонтанкой и долго слушали про булычевых в жизни.
Как-то раз Бодунов грустно сказал:
— Все-таки мало еще показывают замечательных людей. Таких, чтобы с их личностей брать пример. Ведь замечательных очень много, только они, как правило, незаметные. Сейчас советская власть правильно делает, что товарищей писателей нацеливает на хорошее. Подумайте сами, ведь раньше только про всякие преступления газеты, например, писали. И чем преступление гаже, подлее, отвратительнее, тем ему и места больше.
Поражало меня и радовало то, как много и страстно разговаривали в седьмой бригаде о природе подвига, о наших героях, о Щорсе, Тухачевском, Буденном, Чапаеве, о силе человеческого духа, о великих путешественниках и первооткрывателях, о докторах, ставивших опыты на себе, о летчиках, рискующих жизнью...
Люди, для которых риск жизнью стал будничной профессией, люди, раненные и контуженные в мирное время, люди, каждая ночь которых и даже каждый час мог стать их последним часом, говорили о подвиге как о чем-то совершенно непостижимом и недостижимом, словно были они счетоводами, или бухгалтерами, или фармацевтами, или садоводами. И горе было тому, кто хоть на одно мгновение изменял этой традиции. Про него тотчас же начинали говорить так:
— А это наш знаменитый Петя. Не слышали? Ну как же — Петя Котяшкин. Пинкертона слышали? Шерлока Холмса слышали? А Петю не слышали?
Читали в бригаде много, но бестолково. Из-за прочитанного ругались с криками, я же нес ответственность за все, даже за издания 1860 года. Отбиваться от атак бывало затруднительно:
— Почему считается зазорным писать интересно?
— Почему Порфирий у Достоевского умный, а современные следователи выводятся дураками?
— Почему в заграничной печати восхваляются их классовые сыщики, а у нас это называется «детектив на низком уровне»?
— За что обругали Жарова?
— Вот мы видели «Дни Турбиных», там правдиво показано белое офицерство, пьеса за советскую власть, а ее ругают. Как так?
— Почему в кино все хорошие люди — красавцы, а плохие — некрасивые. Это же примитив. Упрощение жизни.
Они все хотели знать, эти «орлы-сыщики». И про пролетарских писателей и про попутчиков. И про критический реализм и про романтизм. И про Маяковского, из-за которого тоже ссорились, и про Жарова с Уткиным, и про Алтаузена, и про Безыменского. Хотели, но не успевали. Под Петрозаводском появилась банда — ликвидация срочно, ответственный Бодунов. Выезд. В Павловске убит кассир — выезд, ответственный Бодунов. Во время пожара на Петроградской похищен сейф — ответственный Бодунов.
Иван Васильевич садился в машину рядом с шофером, протягивал руку к поводку завывающей сирены. В Павловск! Чириков садился в другую — рука на поводке — Петроградская сторона — Малый Геслеровский. Петрозаводская группа мчалась на вокзал «своим ходом» — до поезда считанные минуты. А дежурный принимал новые телефонограммы — ответственный Бодунов, Бодунов, Бодунов.
Иван Васильевич звонил из Павловска:
— Как, Сережа?
Сережа докладывал.
Впрочем, были дни и тихие. Случались!
Бодунов позвонил мне домой:
— Приходите сейчас, у меня в кабинете любопытный тип. Он вам расскажет о себе. Преимущественно правду.
Я явился тотчас же. В клеенчатом кресле против письменного стола сидел джентльмен за шестьдесят лет, солидной, привлекательной и располагающей к себе наружности. У него была бородка а-ля Немирович-Данченко, которую он иногда как бы ласкал тыльной стороной ладони с золотым перстнем на пальце, на ногах поблескивали лаковые туфли, костюм из серого твида был великолепно сшит. В кабинете непривычно пахло дорогим одеколоном. Я взглянул на него — «явно профессор» — и подался назад.
— Послушайте, — сказал я Бергу, перехватив его в коридоре. — Вы приволокли сюда какого-то профессора?
— Это — который в кабинете у папы Вани?
— Ну да. Мне неловко туда войти.
— Почему?
— Он выглядит знаменитостью...
— Так это же его специальность — выглядеть. А вообще не расстраивайтесь. Он «гонял майдан» еще при царе Горохе...
— Что значит — «гонял майдан»?
— Крал в поездах. А теперь согрешил похуже. В тюрьме его зовут дядя Гутя или профессор. А кличек у него штук семь: «студент», «акула», «Крежемецкий», «Тихоня», «Добратский»... Больше я не помню...
Берг убежал. Я ничего не понял и довольно робко вернулся в кабинет, где полировал ногти профессор-джентльмен-студент-акула.
— Присаживайтесь! — пригласил меня дядя Гутя.
Из-под очков он быстро и оценивающе оглядел меня. «Беспокойная ласковость взгляда», — почему-то вспомнил я, но тут же накрепко забыл, опять угнетенный мыслью, что все это ошибка.
Но ошибки не было.
— Я бывший поездной вор, мой дорогой друг, — сказал «профессор» церемонно. — Бывший. В нашу славную эпоху индустриализации вспоминаю свою старую специальность с омерзением! Б-р-р! Низость и гадость. Вы любите Цвейга?
Я промямлил, что конечно, почему бы и нет.
— Он удивительно тонко, я бы выразился, трепетно и терпко понимает нюансы души, — продолжал «профессор», — понимает «тайное тайных» трепета сердец...
«Жулик!» — твердо решил я.
— Моя биография проста, — услышал я. — Но в простоте сложна. Вот этот тайный зов, зов, мастерски схваченный пером Цвейга, зов к приключениям, к туманностям, к странствиям...
«При чем тут Цвейг?» — подумал я. А «профессор» вдруг быстро и деловито осведомился:
— Вы не знаете, почему я понадобился гражданину Бодунову? Что вдруг стряслось?
Я, разумеется, ничего не знал, а «профессор» заговорил опять:
— Короче: я учился в институте инженеров путей сообщения. Учился, молодой человек, плохо. Кутил. Донон, Медведь, Палкин, литературные вечера, скетинг-ринг, головокружение от поэзии Бальмонта, вот это певуче-шелестящее:
И вдова Клико.
— Вы влюбились во вдову? — показал я свою темноту и полную необразованность.
— Вдова Клико — марка шампанского, — раздельно произнес «профессор». — В мое время это знали даже воры, не то что писатели. Но не суть важно. Короче, мой молодой друг, меня выгнали из института за громкое поведение и тихие успехи. У папахена было именьице в Курской губернии. Эдакий «Вишневый сад». Уходящее дворянство. На последние деньги я купил первый класс до станции Льгов Первый. Купе на двоих, на мне полупогончики, я несчастен: что ждет меня от папахена? Великий бог — упреки! От муттер? Господи, мигрени! И жениться на приданом? Какая мука, какое страдание! Мой визави в купе помещик — помню даже фамилию, — несчастный, порядочный человек, получивший десять тысяч в банке для уплаты за рощу. Березовую рощу! Мы пили с ним за молодость, за идеалы, за идеалистов, за студенчество, конечно, он тоже студент в прошлом. И пели «Гаудеамус игитур», потом «Во поле березонька», потом «Быстры, как волны»... Вино — водки — коньяки. Коньяк сразил бедняжечку. А я вышел на станции Клин с чемоданчиком крокодиловой кожи, в котором было десять тысяч рублей империалами, крахмальные сорочки, бритвенные принадлежности и две пары исподнего. Это было первого марта десятого года. Так скончался Боря Добрынин и родился новый человек...
«Профессор» замолчал и задумался в картинной позе, приложив ладонь к высокому, красивому, с залысинами, профессорскому лбу.
— Но когда же вы стали «профессором»? — осведомился я.
— Еще не скоро. Труды и дни, дни и труды.
— Вы продолжали... вашу деятельность... в этом роде? — спросил я. — Так сказать, в смысле... «майдана»?
Слово «вор» я не мог выговорить.
— Продолжал и развивал. Мне сделали заграничный паспорт. Ривьера, в поезде «люкс» семьдесят часов от Петербурга. Стоимость проезда в рублях — до Ментоны — сто сорок девять. Развинченной походкой усталого денди я входил в международный вагон и еще до границы брал не менее чем на десять тысяч. Драгоценности-то эти обломки разбитого вдребезги всегда возили в чемоданах.
— Но вас... задерживали?
— Четвертной в лапу, и все в порядке. Царская Россия насквозь была прожжена язвой взятки.
— А потом?
— Империалистическая бойня. Я штабс-капитан. Правая рука на черной перевязи. На груди полный бант ордена Святого Георгия. Золотое оружие. Генералы вставали, когда я появлялся...
Глаза «профессора» ярко загорелись.
— А одному рамолику я приказал освободить место. И он повиновался. Таков уж я был, да, молодой человек, со мной — шутки в сторону. Пардон! Господин генерал! Попрошу! Мерси! Еще миль пардон!
Я оробел: передо мной действительно был блестящий и наглый, уверенный в своей безнаказанности старый офицерюга.
— Генералы же всегда ездили и на фронт и с фронта не без барахлишка. Да и монету держали в чемоданах. Конечно, работать было нелегко. Нервы, нервы и еще раз нервы. Но семья — ничего не попишешь, в ту пору я уже женился на очаровательной женщине, правда не совсем комильфо, но и я ведь не был тем, за кого себя выдавал. Она полюбила мечту, туманность, призрак, героя с полным бантом Георгия, а не афериста. Но потом, позже, я сознался.
— А после революции? — спросил я. — Ведь штабс-капитан не действовал?
«Профессор» кивнул:
— Вы поразительно догадливы, молодой человек. Мне пришлось совершенно перевооружиться, паровой флот пришел на смену парусному, согласитесь, не падать же до того, чтобы воровать в третьем классе то, что плохо лежит. Я засел за книги. Идея элементарная и блестящая: знать в каждой науке один раздел, но так, чтобы чертям тошно стало. И быть для геолога педиатром, для педиатра — астрономом, для астронома — знатоком Эллады, для энергетика — историком литературы. В литературе я был, например, эрудитом по части «Энеиды». Основное — не напороться в купе на человека, который может тебя разоблачить, то есть узнать профессию попутчика. А дальше все просто — до скуки. Особенно крупные удачи у меня связаны с волжскими пароходами. Там однажды мне удалось сложить в свой чемодан вещички двух крупных нэпманов и профессора, геолога, а потом их троих благородно ссудить тремя червонцами на дорогу из их же денег.
— И вас не поймали?
— Гражданин Бодунов догадался. Вещи я возвратил, все, кроме денег. Я сказал трогательную речь о родимых пятнах капитализма, обе заседательницы плакали. Мне удалось даже ввернуть что-то насчет моих приреволюционных заслуг. Шесть месяцев.
— А Бодунов?
— Он в суде не присутствовал. Гражданин Бодунов лично мне сказал, что не переносит, когда я кривляюсь. Он выразился, что ему стыдно за человечество. Но уже семь лет, как я навсегда порвал со своим прошлым...
«Профессор» замолчал.
— Как же... вы порвали? Как это случилось?
«Беспокойная ласковость взгляда» опять мелькнула и погасла за стеклами очков.
— Вам, мой друг, только правду! Меня потряс один... Артист П. Вот кто переплавил меня в горне своей души.
Артист П. действительно был прекрасным человеком, и я сразу же поверил, что дядя Гутя «переплавлен».
— Нелегко об этом говорить, — прикладывая платок к внезапно пролившимся из-под очков слезам, сказал «профессор». — Нелегко!
«Заводится?» — усомнился я и тут же обругал себя за цинизм. Дядя Гутя был явно взволнован.
— На вокзале я пошел за П. Конечно, не за ним лично, а за его чемоданом. П. в то время для меня не существовал. Существовал чемодан тяжеленный. Погубил меня именно этот чемодан. Я попытался его вытащить из купе, когда мой визави обедал в вагоне-ресторане. Не осилил, вывихнул ногу. А в чемодане было не золотишко, а только книги. Артист ехал в санаторий и решил там как следует почитать, наверстать упущенное. Книги, пижама, туфли для пляжа и паршивый летний костюмчик.
Именующий себя «профессором» вновь замолчал.
— Ну? — спросил я.
— Перед артистом я чистосердечно раскаялся и принес ему мои извинения. Конечно, рассказал историю своей жизни весьма живописно. Он не высадил меня по дороге, не сдал милиции. Он довез меня до самого Симферополя. Там, в вокзале, мы с ним пообедали. И он сказал мне: «Вот что, старый негодяй. В нашу лучезарную эпоху вы не имеете права на существование. Ваша грязная биография кончена. Кто не трудится — тот не ест. Я устрою вас в театр, вы будете трудовым человеком, вы будете участником великих свершений и созиданий. Скромная жизнь, вот что вам нужно в вашем возрасте». Так сказал мне этот замечательный человек, и он пошел к большому начальству. Дал за меня клятву. Конечно, я плакал как ребенок. В бутафорском цехе для меня нашлась должность...
«Профессор» хрустнул длинными, красивыми пальцами. Если бы этот человек не был вором, про него можно было бы сказать, что у него пальцы музыканта.
Досказав, он опять задумался. Его история меня тронула.
Вскоре приехал Иван Васильевич.
— Ну? — спросил он меня.
— Пожалуй, об этом имеет смысл написать, — сказал я. — Человек встал на ноги.
— Вы думаете? — спросил Бодунов.
— А что?
— Пойдем, вы увидите конец истории.
Когда мы вошли в бодуновский кабинет, «профессор» вскочил с несвойственной его возрасту резвостью. Я заметил даже движение — он приготовился к тому, что Иван Васильевич поздоровается с ним за руку, но Бодунов руки не подал. Это не ускользнуло и от внимания «профессора». Крежемецкий как-то сразу увял.
— Зачем вы ездили в Вологду? — садясь за свой стол, спросил Бодунов.
— К супруге, — последовал быстрый ответ.
— Ваша супруга проживает в Архангельске. Вы вышли из поезда в Вологде? Так? Отвечайте сразу, Крежемецкий, быстро...
Я взглянул на «профессора». Он был белее бумаги. Ничего не осталось от снисходительного величия, с которым он недавно повествовал о своей жизни.
— Ну?
Крежемецкий прошептал нечто неслышное. Он разваливался на глазах. Голос больше не повиновался ему.
Что-то негромко стукнуло: это Бодунов положил на стекло письменного стола золотую запонку — скачущий конь с развевающейся гривой.
— Она была в шестом купе.
— Но я-то здесь при чем? — прошелестел «профессор».
— А вторая у вас дома в коробочке от монпансье. Так?
И тихим, брезгливым голосом Бодунов заговорил:
— Вы действительно отправились к супруге. Но не выдержали искушения и купили себе билет в мягком вагоне, что вам не по средствам. Купили, чтобы «подработать». Наверное, вы думали — в последний раз. Инженер Воловик, с которым вы ехали, «клюнул» на профессора. Вы узнали, что в чемодане он везет, кроме своих подъемных, изрядную сумму денег. Разумеется, вы его подпоили. Воловик — астматик, его тяжелое дыхание вы приняли за глубокий сон. И полезли в его чемодан. Он вскочил, вы ударили его пепельницей по голове, а потом потерявшего сознание Воловика вы задушили. Поезд уже подходил к Вологде. Так это было?
«Профессор» беззвучно шевелил губами. Пожалуй, он не понимал того, что говорил размеренно и неторопливо Бодунов. Но я понимал все.
— В Вологде вы попросили проводника запереть купе, дабы никто не разбудил вашего больного попутчика. Деньги задушенного вами человека были в ваших карманах. Свой пустой чемодан вы оставили на месте преступления. Но вы оставили и эту запонку — она вывалилась из манжета во время драки. Потерю вы заметили, потому что, вернувшись, все перевернули дома в поисках пропавшей запонки. А парную к ней вы не выбросили, потому что она золотая. Золото для вас дороже жизни. Вы не смогли ее выбросить... У вас не хватило на это сил. Так, Крежемецкий?
Крежемецкий кивнул, как марионетка.
— Расстрел? — едва слышно спросил он.
— Возможно, — безжалостно ответил Бодунов.
— Он сам... дрался...
— Да, конечно, — согласился Бодунов, — а вы действовали только в целях самообороны.
«Профессора» увели.
— Как вы могли узнать запонку? — спросил я. — Ведь все началось с запонки?
— Запомнились лошадки, — устало ответил Иван Васильевич.
Когда я выходил из кабинета, Бодунов стоял перед планом Ленинграда, хмурил темные брови, жевал мундштук погасшей папиросы. И я вдруг подумал: «Это его город. Он отвечает за этот город. Как это бесконечно трудно, наверное».
Всякие интересные истории про Бодунова я узнавал преимущественно в те дни, когда он отсутствовал. О себе Иван Васильевич говорить избегал, говорил обычно о своих «ребятах», но так как главной движущей силой в бригаде был именно он, то рассказы получались «куцые» — без главного действующего лица, «без героя», рассказы «вообще». Когда Бодунов уезжал, бригада рассказывала мне о его делах.
Старый коммунист, человек острого и насмешливого склада ума, наборщик в прошлом, носивший нынче два «ромба», Петр Прокофьевич Громов сказал как-то с грустью:
— Оно, конечно, так, работаем дружными коллективами, помогает общественность, широкие слои трудящихся, но и в нашем деле есть люди талантливые. Скрипач — еще не значит талант. Это еще только профессия. Специальность. Даже композитор — еще не значит талантливый. И композитор может сочинять музыку неталантливо. Так вот это я к тому, что Бодунов наш — талантливый человек. Конечно, законность, факты, точность и наука. Но и наука наша, криминалистика, в руках бездарного человека вовсе не наука, хоть любой криминалист в свою химию верит. Химия — химией, а человековедение — человековедением. Здесь особый талант нужен, большой талант. Вы когда-либо примечали, что Бодунову легко рассказывать? Он замечательный слушатель. Вот бывает, знаете, делишься с ним по-товарищески, он только выслушает, а тебе и легче. Обратите внимание, как обычно он с подследственным беседует. Конечно, положено по разным сторонам стола сидеть — начальник тут, подследственный тут, а еще есть такие, что стул с подследственным аж на середину кабинета выставят. Это, заметьте, редко случается с Бодуновым. Обычно он собеседует. На диванчике, бывает, посиживают да чаи попивают. Приезжал тут один — ножками в сапожках затопал. Иван дал ему от ворот поворот. Талант Ивана в том, что он умеет с людьми говорить, из преступника вытаскивает все то, что осталось в нем человеческого, и на этих-то человеческих струнах играет. Еще заметьте — он никогда никаких пустых обещаний не дает. Он всегда заявляет: «Судить тебя буду не я, а наш советский суд. Он и даст чего заслужил. А мы с тобой совместно выясняем правду».
— Разве он говорит на «ты» с подследственными? — осведомился я.
— Бывает, — сказал Громов. — В нарушение всех правил. Но это только тогда, когда перед ним человек в несчастье, в беде. Это «ты» — помощь. Поддержка. На такое «ты» не каждый способен. И никому столько люди сами не рассказывают, сколько Бодунову. Он слушает не по казенной надобности, он лицо всегда глубоко заинтересованное, не из тех, кто твердит, как попка, — «это к делу не относится». Ему главное, чтобы человек открыл душу полностью, тогда он разберется.
Я спросил Громова, открываются ли Бодунову подлинные бандиты, убийцы, такие, которые знают: ничем не поможешь, — от расстрела не уйти.
— Полностью, — с усмешкой ответил Петр Прокофьевич. — Абсолютно открываются. Про братцев Береговых, налетчиков, слышал?
— Слышал.
— Старший-то, который Бодунова чуть не убил, именно ему, а не кому другому рассказал, как нэпманы сыграли на его любви. Уговорили эту, допустим, Р. — так ее назовем, она и ныне здравствует и не знает, кто был ее возлюбленный, — уговорили и подкупили, дабы она «полюбила» старшего Берегового. С этого и началось. Вот в какие марионетки играли. А в этих венах, бывает-случается, кровь кипит, «страсти роковые». Не зная подробностей, не разберешься. Береговой «работал» на своих хозяев — Р. встречалась с ним, бастовал — Р. исчезала.
— В чем же секрет этого бодуновского таланта? — спросил я.
— Талант — сам по себе секрет, — ответил Громов. — Но если разобраться, то самое существенное в том, что Иван наш верит в свое дело, в его необходимость, партийность, честность. Он никогда душой не кривит. Если поступает, то поступает так, а не иначе, потому что абсолютно убежден: только так, и точка. Вы ведь и биографию Бодунова учтите: отца-бедняка в восемнадцатом убили, дом сожгли дотла, что при этом юноша в девятнадцать лет чувствует? А на деревне-то еще кулачье командует? Правду не отыскать. Вот и привел в свои девятнадцать в Петроград к Дзержинскому убийц. И остался в ВЧК работать. С юности понимал: бандитизм может захлестнуть революцию. Между прочим, были периоды в этом смысле грозные...
Николай Иванович рассказывал, что учился Бодунов в начале революции еще у старых полицейских сыщиков. Учился основам ремесла. И запоминал кое-какие фамилии. Так запомнил он фамилию крупнейшего в царской России медвежатника — взломщика сейфов Тихомирова. Этот старый преступник, откупившись в свое время от царского правосудия, построил себе в Петрограде заводик под названием «Завод художественного литья». Был у него, у Тихомирова, что называется, свой «почерк». Этот тихомировский почерк и опознал Бодунов в двадцать восьмом году, когда из Ювелирторга на Невском, неподалеку от Елисеевского магазина, был вынесен чемодан золотых вещей и иных ценностей. Вместе с нынешним оперуполномоченным бригады Васей Сидоровым Бодунов осмотрел стенку цветочного магазина, из которого был сделан пролом в ювелирный, и вспомнил Тихомирова. Все было в точности — только старик работал этим способом.
Поехали к Тихомирову, доживавшему на покое. Советская власть освободила старика от забот по собственному заводу.
— Ваша работа? — спросил Бодунов.
— Нет, — твердо ответил старик.
— Ваша. Стенка просверлена по-вашему, сейф вскрыт «киличницей» по-вашему.
Тихомиров был польщен.
— Видишь, старуха, — сказал он жене, — десять лет прошло, как я свое прошлое бросил, а еще помнят! И долго помнить будут мою руку.
И выяснилось, что Ювелирторг старик сам не брал, но беседу имел с неким бывшим казачьим есаулом из станицы Цимлянской. Кажется, фамилия его Валуйсков...
Фамилии посыпались из старика, когда Бодунов, кое-что сопоставив, назвал грабителем единственного сына Тихомирова, назвал вдруг, по наитию, нечаянно вспомнив сведения десятилетней давности, — тогда у фабриканта был двенадцатилетний парень.
Иван Васильевич угадал.
Старик учил сына своему ремеслу, но с ним и целую банду. Золото нашли на станции Кикерино. Николай Иванович Чирков с понятыми считал и делал опись, в это мгновение в избу ввалился поп с кадилом — по Кикерину ходил крестный ход. Глаза у попа полезли из орбит. Тихомиров-то был здесь церковным старостой.
— Так-то, батюшка, — сказал Бодунов. — Нехорошо!
— Да уж чего хорошего, — помахивая кадилом, ответил поп. — Ну, отправились дальше!
Иван Григорьевич Красношеев — начальник милиции — как-то рассказал:
— Иван Бодунов долгое время ловил одного жулика. Большой вор, классный, не мелочь. И по ювелирным магазинам баловался парень, даже скифское золото наметил из Эрмитажа забрать. Главное горе — одиночка. Ни с кем водку не хлещет, никогда по ресторанам не болтается, снимает комнатку у старушки в неизвестном районе, пьет какао, кушает домашние обеды, читает книги, ходит в кино и в театры, хорошо одевается, духи — высшая марка, папиросы — самые дорогие, — это все, конечно, потом выяснилось. Но только повяжи такого. А на дело идет раз в год. Ему хорошо, — он свое будущее дело «разрабатывает» двенадцать месяцев; сделает и — тихо. Крови, конечно, ничьей не проливает, но государственные ценности... и в каких масштабах! Иван Бодунов, наш друг, даже с лица спадать стал. Однажды имел место случай — гонял жулика Бодунов полночи по крышам Апраксина двора. Что делать-то, оттуда по телефону не позвонишь? Упустил. Назовем мы этого вора пока понарошку Жаров. Он и нынче жив. Почему понарошку — дальше будет ясно. Короче, взял его Иван Бодунов в одна тысяча девятьсот тридцатом году в январе. В Эрмитаже и взял, подробности не расскажу, многие выдающиеся ученые Эрмитажа показали себя величайшими шляпами нашей эпохи. Купил их Жаров своей начитанностью в вопросах искусства, а выдал себя за красного командира — краскома. Ну, известно, умилилась интеллигенция — какие у нас краскомы! Все было на мази, даже банка с хлороформом в кармане у Жарова для его покровителя — профессора и доктора наук. Однако же наш Иван и тут профилактировал преступление. Привел Жарова своим ходом через площадь к нам. Красивый парень, холеный, кроме как ругательств, ничего не говорит. А дело-то пахнет керосином, ничего другого, как расстрел, человека не ждет. Не знаю уж, какие ключи Иван Бодунов к этому Жарову подобрал, но только Жаров ему открылся. Все рассказал. И поехал Бодунов в Одессу выяснить факты биографии, невеселые, надо сказать, факты. Все подтвердилось. Году эдак в двадцатом умерли у Жарова в одночасье оба родителя. Жил мальчик один в коммунальной квартире, ходил в школу. Постепенно все проел, что было, вплоть до тахты. В школе успехами интересовались, а что кушает — не до того было. А мальчонка-то и вовсе оголодал. И, оголодав предельно, стянул на кухне две серебряные ложечки. Буквально тут же он был пойман, схвачен за руку; мальчонка не слишком старался украсть незаметно, он просто взял ложки и сунул в карман, ведомый голодом, который плохой советчик. И поднялись вопли:
— Вскормили вора!
— Мы к нему как к родному...
— Среди бела дня...
Ни один голос не раздался в защиту голодного ребенка, и в школе никто не подумал, на что и как жил мальчишка; его схватили и поволокли к «начальнику» в милицию. Ну а тому что? Факт есть факт! Протокол составлен. Парнишка ничего не отрицает. И ввергли его в узилище. Времена были крутые. Одесса-мама славилась разбойничками всех мастей и калибров. Жаров попал в камеру именно к таким бандитам — безжалостным и потерявшим всякий человеческий облик. Мальчишка ревел, когда за ним захлопнулась железная дверь. Ревел и мешал бандитам играть в карты. Их чуткий слух отвлекали его рыдания и вопли. И надзиратель мешал картежникам — он поглядывал в волчок на рыдающего мальчишку.
Ему велели замолчать. Он завопил еще пуще.
Тогда ему залепили затрещину. Мальчишка зубами впился обидчику в руку. И они все — бандиты народ дружный, особенно если это ничего не стоит, — все вместе, все четверо учинили над Жаровым такую расправу, что его унесли в больницу, избитого, как били когда-то конокрадов.
Из больницы же вышел не мальчик, а звереныш. Звереныш этот сначала нырнул в беспризорничество, где ему не понравилось. И тогда он стал «одиноким волком» — эти слова из его показаний. Не было для юноши ни бога, ни черта, ни правды — ничего решительно. Он желал жить сытно, в тепле и в довольстве. Сделал себе талантливо документы, не подкопаешься, сам про них выразился, что «лучше, чем настоящие, для себя же старался». Выше доложено, что готовился он к своим «операциям» по году — не менее. Украденное в Ленинграде продавал, например, в Ашхабаде, да и то не ранее, чем через полгода после «дела». Ненавидел все и всех. Читал книги по криминалистике, читал речи судебных ораторов, приключениями и сыщиками не интересовался нисколько.
Все, что Иван Бодунов узнал от Жарова в своем кабинете, оказалось правдой. И тут наш Иван Васильевич заявил, что поедет в Москву «отбивать» Жарова. Доводы свои он изложил так:
— Мы милиция. В Одессе был тоже милиционер. Но он — болван, он дискредитировал нашу милицию. Мое личное дело — честь этой милиции в глазах Жарова восстановить и преступника вернуть в наше советское общество.
И поехал Бодунов по большому начальству. Явился, говорят, и к Максиму Горькому. Рассказал суть дела. Алексей Максимович спросил:
— Но вы его ловили?
— Так точно, ловил, много лет.
— И поймали?
— Заключен под стражу.
— Не виноват?
— Виноваты мы. Милиция.
Отсидел Жаров в общей сложности два года и три месяца. Впоследствии побеседовал с Горьким. И направился от нас некто Жаров учеником токаря на завод имени Карла Маркса, где вскоре и влюбился в хорошую девушку Люсю. Комнатку Иван Бодунов тоже раздобыл молодоженам — бывшую «людскую» в четыре метра. Ну а Жаров не из тех, кто на малом мирится. Ему наверстать ведь надо многие годы потерянной жизни. Стал он не только токарному делу учиться, но и вообще — пошел шагать. А трудненько! Денег-то мало! Не привык жаться. Рассказывал Ивану Васильевичу:
— Люся ребенка носит, а я ей не могу модельные туфли купить. Был случай лет тому пять — отцепил я на станции Любань вагон обуви. А тут одна пара. Входите в положение?
Бодунов, конечно, входил, но что толку?
Сейчас, по прошествии времени, вдруг открылись в «одиноком волке» необыкновенные способности к наукам. Да, надо еще сказать, что и воля у него редкостная. Занимается, просвещает себя беспощадно, да еще с субботы на воскресенье с артелью грузит в порту, подрабатывает на семью. Родил сына, назвал Иваном не без намека на Бодунова. Вот так наш товарищ Бодунов вернул человека советской власти, а человек, как думается, время еще покажет, недюжинный. Сейчас почти что цехом командует, во всяком случае, там он неофициально, а первый, даже квартиру получил из двух комнат, и никто не знает, каков таков наш Жаров в недалеком прошлом...
Красношеев вздохнул и спросил у меня:
— А сколько таких Жаровых у наших Бодуновых? Не знаете?
Я, разумеется, не знал. Ответил сам Иван Григорьевич:
— Много. Очень много.
Дверь отворилась почему-то совершенно бесшумно, и я увидел странную картину: на кургузом клеенчатом диванчике сидел грязный оборвыш и плакал, хлюпая носом, а возле оборвыша стоял Иван Васильевич и большой, сильной рукой гладил сальные, спекшиеся волосы парня, приговаривая ласково и дружелюбно:
— Вот сейчас, Александр, напьемся мы с тобой чаю, покушаем бутербродов с колбасой, смотаешься ты в баню, а вечером займемся твоими делами как надо. Да не реви словно девочка. Ты же — рабочий класс, краса и гордость, мало ли чего в жизни случается...
— Обидно, — сквозь слезы, давясь и кашляя, сказал парень. — Из князи да в грязи...
— Будешь из грязи в князи. Мы же при советской власти, Саша, проживаем. А ты, припомни, дорогой товарищ: из последнего отребья, из ворья, в квалифицированного слесаря — это не рывок?
— Рывок! — кивнул Саша.
— От водки и марафета в чистое общежитие, за книгу — это как?
Чтобы не вышло, будто подслушиваю, я кашлянул.
— Обидели человека, сволочи, — сказал Бодунов. — Вы заходите, познакомьтесь, некто Саша Рыбников, в далеком прошлом классный вор по кличке Свисток. Так вот, товарищ Рыбников за руку поймал одного фрукта, который зарывал в шлак, чтобы потом вынести с завода, кусок приводного ремня. А там с больной головы на здоровую, вор — смекалистый, свалил все на Александра, покопались в биографии и вспомнили слово «рецидив». В отделение милиции, а тамошние пир... пин...
Бодунову всегда с трудом давалось слово «пинкертоны».
— В общем, тамошние сыщики Александра забрали к себе. Ну, конечно, к этому времени наш Сашенька уже напился водки, это же часто бывает, если несправедливость — напиться. Так, Саша?
И Иван Васильевич снова потрепал Сашку по голове.
— На врача хочу учиться, — угрюмо пробормотал Свисток. — Купил себе «Курс частной хирургии» — прорабатываю.
— Самоучкой?
— Ага, — ответил Александр. — Делов-то!
Из столовой принесли чай и огромную тарелку бутербродов с колбасой. Бодунов пил вприкуску. Свисток съел 12 (двенадцать) штук бутербродов. Чай Александр запил двумя стаканами воды из графина.
— На баню есть?
— Нету, — ответил Свисток. — Совсем мальчик пустой.
— Три рубля. Отдашь. Я не барон.
— А было — не отдавал? — обиженно буркнул Александр. — Или кто из нас вам не отдавал? Тогда напомните — бывает, мы, старые дружки, встречаемся.
— Для чего встречи?
— Поговорить: кого расстреляли, кто где сидит, кто на светлую дорогу жизни вышел.
— А разве выходят? — улыбаясь глазами, спросил Бодунов.
— Ваши — выходят.
— Кто да кто?
— А вы не знаете будто... Например Мишка Удавленник...
— По фамилии!
— Лабазников. Он вешаться хотел, вы его разубедили. Кочегаром на «Ветеране». Опять же Дзюба, украинец, — Тот женился, ребенка заимел. Но это еще что — оживился и заулыбался Свисток, — это мелкие семечки. А вот Зуб — это да!
— Какой Зуб? Зубков Юра?
— Ага. В цирке работает. Воздушный номер. Называется «Два — Франсуа — два». И еще «Франсуа и Франсуаза». Я, как узнал, так прямо помешался, честное-перечестное. Ходил беспрестанно в Шапито. Ну кто мог подумать? Мальчичек по форточкам лазил, нам дорогу делал, а теперь про него в газетах пишут — «блестящий фейерверк мастерства». Вы бы посмотрели, гражданин начальник, я скажу — он вам билеты пришлет. Даже расспрашивал про вас. Вообще, к вам у него отношение хорошее.
— Да что ты? — смешливо удивился Бодунов. — Простил, значит, меня за то, что мы его ловили...
— Все пошучиваете! — сказал Свисток.
Едва он ушел, Бодунов принялся звонить по телефонам. На душе у меня было светло, хотелось кому-нибудь пересказать то, что я только что видел и слышал, хотелось рассказать, какое лицо было у Бодунова, как славно он посмеивался, как блестели его глаза, когда Свисток хвастался ему своими товарищами, «вступившими на светлую дорогу жизни».
Я постучал к знаменитому Колодею — грозе бандитов, начальнику первой бригады. Тот отлеживался на диване после сердечного приступа, в кабинете пахло медикаментами.
— Закурить нету? — спросил он своим характерным, насмешливым тенором. — Тут санчасть у меня изъяла все курево.
Колодей посмеивался над всем, даже над собственным смертельным недугом. Я начал ему рассказывать то, что переполняло меня, и вдруг испугался, что он посмеется надо мной. Но он вдруг сказал с гордостью:
— У меня тоже есть такие. Двое даже в армии служат честь по чести. Послушайте, а вы знаете, за что у Ивана орден Красного Знамени?
— За Кронштадт?
— Это ясно. А как он его получал?
Откуда мне было знать, как получал орден Бодунов. Колодей жадно и аппетитно раскурил еще папиросу и велел:
— Только ему ни-ни!
— Конечно.
— Вот вручает Михаил Иванович нашему Ивану орден, а тот не берет. «Не могу, — говорит, — взять, я, — говорит, — писал об этом, но меня все-таки наградили. Я, — говорит, — Михаил Иванович, когда врывался в ворота крепости, был до того испуган, что хотел убежать. У меня сложилось намерение задать деру, но нечаянно я вбежал именно в ворота. И тогда я об этом нашему командиру заявил. И здесь повторяю». А Калинин ему: «Если бы, — говорит, — моя воля, я бы тебе за твою правду еще дал награду. Носи на здоровье и никогда не снимай; попадешься без ордена — накажем!»
— Это точно? — осведомился я.
— Проверьте у Калинина, — хихикнул Колодей.
Забрав у меня последние папиросы, Колодей спрятал их в сейф — от медиков-сыщиков — и лег вздремнуть. Иван Васильевич встретил меня невеселым взглядом, таким, что я даже спросил: что случилось?
— Доклад надо делать товарищам женщинам Восьмого марта.
— Ну и что?
— Не подниму. Для меня нет хуже — доклады делать.
— Подберите литературу...
— Зачем же рассказывать то, что всем известно?
Он все еще пытался соединиться с кем-то по телефону. Потом подумал и назвал в трубку номер.
— Сергей Миронович, — сказал он подтянутым военным голосом. — Докладывает Бодунов из уголовного розыска. Разрешите две минуты... Лично? Сейчас? Слушаюсь...
Положил трубку, усмехнулся и сказал:
— Он такой. Не на той неделе, а сейчас. Ждите!
Натянул реглан и уехал. В соседней комнате Берг спрашивал старуху, которая написала жалобы в несколько инстанций на ту тему, что у нее украли шесть говорящих попугаев и никто не обращает на ее горе внимания. В другом, затененном углу комнаты сидел здоровенный парень в ватнике и чем-то шелестел.
Я взял газету и сел за стол Рянгина.
— Вкусно-то! — сказал здоровяк. — Ах, хорошо, ах, люблю...
Я посмотрел на него: он отрывал от листа бумаги кусочки и жевал их.
— Мои попугаи записаны в книгу Мараджера, — трещала старуха. — Их употребляли на засъемки в кино. Моего Киви нарисовал художник Ясенский-Худилевич, его замечательные литографии...
— А я Бобик, — сказал здоровяк. — Меня засадили в тюрьму, а я — психованный.
Он вдруг подошел ко мне и велел:
— Почешите Бобику животик! Гражданин сурьезный чайничек-начальничек. Заблошел Бобик! Гр-р-р, вау-з-з... — непохоже зарычал он. — Укушу чайничка!
Мне стало жутковато.
— Берут несчастного инвалида психической травмы, — опять заныл здоровяк, и я увидел, что его лицо вовсе не толстое, а опухшее, что глаза у него больные, что заключен в тюрьму больной человек.
— Бумажечки хочешь пожевать?
Я выскочил в коридор. Навстречу шел веселый, всем довольный Бодунов.
— Там сумасшедший, — сказал я, — собакой лает. Ест бумагу. Разве можно держать в тюрьме сумасшедших?
Когда мы вошли, старуха изображала крик своего главного попугая, а сумасшедший, сев на пол, чесался как собака.
— Муля, — сказал ему Бодунов, — ну как же тебе не совестно?
Муля вскочил, вытянулся по стойке «смирно», сказал задушевным басом:
— Приветствую вас, гражданин начальник. Нет, я ничего такого... Развлекался помалости. Они молоденькие, — он кивнул на меня, — глядят — пугаются. Дай, думаю, поиграю. Ну как ваша-то жизнь проходит, как здоровьичко?
— Работаем, ловим вас, жуликов, помаленьку...
— Да, с нами нервы нужны и нервы...
В своем кабинете Бодунов сказал:
— Доложил про это отношение к таким ребятам, как Рыбников, товарищу Кирову, прямо скажу, не удержался, все выложил. Под стенограмму.
Густой румянец залил его крепко выбритые щеки, с веселым гневом он добавил:
— Звонят сейчас телефоны по нашему городу, ох, звонят. А это еще артподготовка. Не любит Сергей Миронович, чтобы человека обидели! Не переносит.
Зазвонил телефон, Бодунов взял трубку, сказал, подмигнув мне:
— Нашелся, товарищ Кузмиченко? А я тебе третий день названиваю — никак не соединиться. Дел у тебя, голубчика, много? Ну, конечно, сочувствую, директор завода. А ничего особенного. Ага. Рыбников Александр. Подмахнул не читая? Между прочим, ты не обижайся, но в восемнадцатом, когда я еще в бандотделе ВЧК работал, мы одного такого «не читающего» расстреляли. Вот именно...
Он вдруг вспыхнул и закричал:
— В шею из партии! В толчки! Вон! Мы годы тратим, чтобы человека вытащить, на путь поставить, мы за него рискуем, мучаемся, ночи не спим, а такие чинуши, не читая... Нет, я еще и на активе выступлю, у меня, Кузмиченко, хватка мертвая. Откуда? Я доложил лично.
Вскоре заявился Свисток — отмытый, томный, важный. Бодунов сказал ему спокойно и уверенно:
— Езжай, Саша, в свое общежитие.
— Пустят?
— Сказано — езжай. Завтра выйдешь на работу.
— А пропуск в завод...
— Пропуск будет.
— А...
— Ни пуха, ни пера, Саша...
— Но ведь, гражданин начальник...
— Я тебе не начальник. Я тебе Иван Васильевич. Завтра же и аванс получишь, не забудь три рубля... А директора увидишь — Кузмиченку Степана Данилыча, привет ему от меня, теплый привет, так и скажи. Теплый...
Рыбников ушел, опять зазвонил телефон.
— Сегодня же выеду, — сказал он в трубку. — На Мурманск в одиннадцать, по-моему.
Хитрая улыбка появилась на его лице,
— Будет сделано, — сказал он сияя. — Обязательно. Нет, зачем же, если это Ложечкин — я его живым привезу.
Все еще чему-то радуясь, он сказал:
— Недели на две, не меньше, бандитов ловить.
И не выдержал — проговорился:
— Доклад-то не я буду делать.
— Как так?
— Очень просто! Бандитов поеду ловить. А тут пей воду из графина, проси продлить регламент — нет, это не по моей части...
Раз в две, в три недели совершалось убийство. Преступник стрелял своей жертве в затылок, потом снимал шубу, костюм, забирал бумажник, часы; иногда тело закапывал сам же убийца.
По Ленинграду пошли зловещие слухи, количество убитых преувеличивалось в сотни раз, шепотом рассказывали сначала о банде, потом о бандах, наконец о целом «отряде» грабителей под командованием какого-то преступника по кличке Чума.
Уголовный розыск лихорадило, люди не спали, невыспавшихся, издерганных, не успевших даже попить чаю, их созывали на внеочередные совещания, где такое же замученное и издерганное начальство предлагало уже принятые меры к исполнению и исполненное к неукоснительному руководству.
В эти трудные времена приехал в Ленинград работать некто Т. Я не называю его фамилию, потому что погиб он смертью солдата в дни Великой Отечественной войны и, быть может, этим хоть отчасти смыл позор, который заклеймил имя Т., — заклеймил многими его предыдущими делами.
Рыжий, энергичный, размашистый, умеющий элегантно прихвастнуть и своими заслугами, и заслугами дальних, но известных родственников, Т. через несколько дней после своего первого появления в розыске «взял» таинственного убийцу и даже продемонстрировал его — маленького, дрожащего, низколобого, длиннорукого дегенерата, успевшего сознаться в своих страшных преступлениях. Да, он стрелял, раздевал, продавал, закапывал, конечно, он все подтверждает, так именно и было.
В эту пору ко мне уже «притерпелись» в уголовном розыске. Я был то ниспосланное богом или чертом наказание, бороться с которым было бессмысленно. Мне никто ничего не показывал, мне никогда ничего не демонстрировали. Если я присутствовал — меня не замечали. Мне это было, впрочем, удобно, хоть и несколько унизительно. Мне дозволялось «сосуществовать» с ними, но не на равных. Например, они обменивались мнениями, я же должен был помалкивать, потому что если я вдруг заговаривал, то на меня смотрели с изумлением.
Когда Т. показал мне убийцу, я пришел к Бодунову и с интонацией, которую и по сей день не могу вспомнить без острого чувства ненависти к себе, произнес:
— А Т. его посадил! Изобличил и посадил!
— Кого?
— Которого вы ищете.
— Разве?
— А вы не знаете? Он уже и сознался во всем. Я сам с ним говорил. Лоб — вот такой, сам вот эдакий, смотреть и то страшно.
— Скажите пожалуйста! — удивился Бодунов.
— Разве вы не верите?
— В нашем деле на «верите — не верите» далеко не уедешь...
— А Т. говорит — интуиция. Он еще говорит...
— Говорит Т. красиво! — сказал Бодунов. И нельзя было понять, что кроется за этим «красиво».
В этот день произошло еще одно убийство. Было ясно, что действовал тот же преступник, которого Т. «повязал» и который сейчас сидел «за ним» в камере 16 тюрьмы предварительного заключения. А это было по меньшей мере странно. Т. объяснил мне, что его подследственный, разумеется, действовал не один — это мстят за его арест.
— Скажите пожалуйста, — опять подивился Бодунов моему рассказу.
За эти дни Иван Васильевич осунулся, в бригаде почти не бывал. А если сидел у себя за столом, то вместе с Чирковым вычерчивал какие-то схемы. И вновь вся седьмая бригада разъезжалась по разным направлениям, по паркам и заиндевелым пригородам Ленинграда, по полустанкам и дачным местностям, по рынкам и толкучкам, по пивным, по чайным и буфетам.
— Бросьте, Иван Васильевич, — как-то сказал Бодунову Т. — Все же ясно. Убийство на Пороховых было слепой и последней местью.
Бодунов яростно взглянул в веселое, розовое, самодовольное лицо Т. своими измученными, ввалившимися глазами.
— Я не дам осудить невиновного! — сказал он ровным голосом. — Преступление не будет раскрыто и преступник останется на свободе, если позволить вершить дела по-вашему.
Они стояли друг против друга в кабинете Бодунова — оба статные, сильные, крупные, оба по виду бесстрашные.
— Палки! — с невыразимым презрением произнес Иван Васильевич.
Т. ушел, хлопнув дверью.
А «палками» оказались значки, которыми отмечались в сводках раскрытые преступления.
Вновь в парке в Удельном грянул выстрел.
А вечером в кабинете Бодунова сидел, вольно развалившись, белозубый красавец, нагло и весело рассматривал Ивана Васильевича ярко-синими, невинными глазами, поигрывал мускулами одной руки под тонким сукном пиджака, спрашивал со смешком:
— Значит, берете безрукого рабочего человека, любящего мужа, отца маленького ребенка, берете паропроводчика, имя которого не сходит с Доски почета, берете...
Я не верил сам себе: Бодунов допустил такую ужасную ошибку? Ведь видно же, что это отличный парень, добряк, ничего не боящийся...
Что-то глухо стукнуло: это был хромированный наган, который Иван Васильевич положил на стол. Через несколько минут привезли хорошенькую маленькую женщину — это была жена убийцы, которая заманивала жертвы в парки, назначая смертникам-донжуанам свидания. Муж появлялся в наиболее безлюдном месте и стрелял. Жена быстро толкала жертву вперед, чтобы кровью не залило шубу, костюм, пальто...
— Продала? — яростно спросил положительный герой.
— Спокойненько! — велел Бодунов.
Он уже давно и твердо знал, мой Иван Васильевич, что убийца стрелял левой рукой. Он знал, кто продавал вещи убитых. И еще он знал неколебимо: тот, кто сознался, — больной, неполноценный человек. Железная воля Т. заставила, принудила больного сознаться во всем том, о чем он даже понятия не имел. А месть — жалкая выдумка.
Лабуткин — так звали убийцу — методично и спокойно рассказал о всех своих преступлениях. Днем позже он показал, куда зарыл ненайденные тела. Синеглазое, белозубое чудовище, оборотень, и по сей день стоит перед моими глазами.
— Но ведь тот-то сознался, — сказал я тогда Бодунову.
— Если бы вам обещали жизнь за то, что вы сознаетесь в убийстве одиннадцати человек, да если бы за вами числились годы психиатрической клиники...
— Но он же знал, что его расстреляют за это?
— Этот человек не отвечал за свои действия. Есть заключение экспертизы. И он видел заключение.
— Но как же вы отыскали Лабуткина?
— Старались мои ребята, — устало сказал Бодунов, — очень старались.
И, словно вколачивая в меня фамилии работников своей бригады, Иван Васильевич стал называть их не торопясь, каждого, всех:
— Петя Карасев — тот совсем замучился. Рянгин Миша, Бируля наш, и так в чем душа держится. Яша Лузин, вы, кстати, мало с ним разговариваете, а человек он выдающийся. Бургас еще работал, Леня Соболев, Осипенко Женя — тоже очень интересный работник. А Гук сколько сделал? А Чирков Коля? Катерина Ивановна уже по два раза на день звонит: мой Коля еще живой? Сдержанная женщина...
Надо думать, что именно в эти дни красавец Т. с его сверкающей улыбкой, с его раскатистым смехом и картинностью поз и речей окончательно возненавидел полную свою противоположность — Ивана Васильевича.
В ту пору Т. часто зазывал меня в свой роскошный, не в пример бодуновскому, кабинет. В часы досуга Т., тоже не в пример всем прочим сыщикам, на работе переодевался и тогда являл собою крайне странное зрелище: в шелковой вышитой косоворотке, в шароварах из бархата с напуском, в остроносых сафьяновых туфлях, надушенный, он напевал обрывки арий, загадочно посмеивался, изрекал какие-то странные, двусмысленные истины. Друзья мои сыщики, посмеиваясь, рассказывали, что дома у Т. развешено «немыслимое» оружие, будто бы им самим отобранное у каких-то «небывалых» бандитов, рассказывали, что Т. врун и авантюрист, но больше молча пожимали плечами и посмеивались.
Позже я услышал фразу Колодея:
— Если это все правда — ему нужно при жизни поставить памятник. А если он врет — расстрелять сегодня, сейчас...
Через много лет я узнал, что Колодей тогда говорил о Т.
Наступила еще одна зима — и вдруг я обнаружил, что седьмая бригада, с ее длинными рабочими трудными буднями и редкими праздниками, как бы признала меня полноправным товарищем. Случилось это так: однажды, очень морозным вечером, часов в восемь я вошел к своим новым друзьям и сразу почувствовал, что готовится «операция». Люди разговаривали как перед боем — чуть возбужденно, чуть слишком бодро, чуть более остро, чем обычно.
— Едете? — спросил я Берга, чистившего маузер.
— Надо быть, едем, — неопределенно ответил Эрих.
Здесь определенно мог сказать только Бодунов. А в его отсутствие — Николай Иванович. Может быть, они собирались утаить от меня «операцию», я уже давно унылым голосом просился поехать с ними, а они почему-то не брали.
— Возьмите с собой! — попросился я у Рянгина, который обувался в бурки.
— Я же не начальник, — сказал Рянгин.
— Идите к папе Ване, — посоветовал Берг.
Бодунов и Чирков, выслушав меня, переглянулись.
— Убьют его, а потом с нас спрос, — сказал Бодунов.
— Обязательно спросят, — согласился Николай Иванович.
— Так уж непременно и убьют, — неуверенно произнес я.
Бодунов вздохнул:
— Бывает — убивают.
Чирков тоже вздохнул:
— Банда трудная, не шуточная...
— И замерзнет он, — сказал Бодунов. — Ишь приоделся — полуботиночки, пальтецо коротенькое, кепочка. А на улице градусов двадцать жмет.
— К тридцати! — сказал Чирков.
— Товарищи, — заныл я, — но ведь в конце-то концов должен журналист видеть своими глазами...
И я произнес речь. Интонации ее были преимущественно жалостные. И в некотором смысле — угрожающие. Я дал понять, что если так пойдет дальше, то у меня не будет иного выхода, нежели переметнуться к Колодею. Там у меня тоже есть друзья. И не перестраховщики. Свою речь я закончил категорическим требованием — взять меня не завтра, не когда-нибудь, а нынче.
— Не возьмем! — сказал Бодунов.
— Пожалуй, не надо брать! — подтвердил Чирков.
— Да почему же? — заорал я.
— Он уже не наш! Он колодеевский! — сказал Бодунов.
В общем, они меня разыгрывали. Я уже был свой — меня можно было разыгрывать.
Когда мы вышли на площадь Урицкого, под ложечкой у меня засосало: кроме «орлов-сыщиков», в двух оперативных машинах на операцию ехали еще две машины с курсантами из школы милиции. У них были пулеметы.
— Кого же это... будем... вы будете брать? — робко осведомился я в машине у Бодунова.
— Угол гуляет возле Красного кабачка на Петергофской дороге, — сказал Иван Васильевич. — И всех дружков созвал.
Насчет Угла я был наслышан: мурашки пробежали по моей спине. И, словно читая мои мысли, Иван Васильевич осведомился:
— Может, высадить? А то поздно будет...
— Я не мальчик! — отрезал я.
Завыла сирена — регулировщики давали проезд «орлам-сыщикам». Прохожие оглядывались — «милиция, оперативники, наши незаметные герои». Я волею судеб тоже был героем. Я мчался под вой сирены в черной оперативной машине, и, угревшись, слева и справа от меня уже дремали Берг и Рянгин. Маузер Эриха — его «золотое оружие» — врезался мне в бок.
«Батюшки, а у меня и пистолета не имеется, — канцелярскими словами подумал я. — Прихлопнут как мышонка!»
Но говорить про оружие было стыдно.
Когда выехали на Петергофское шоссе, огромная луна засияла во всем своем великолепии. Ветер пощелкивал в слюдяных окошках, морозная пыль холодила щеки, уши, губы. А Рянгин и Берг сладко спали в своих подбитых мехом казенных регланах, в бурках, в теплых шапках. Подремывал впереди и Бодунов.
Я же внезапно услышал мощные и печальные ритмы шопеновского траурного марша. Это меня хоронят. «Безвременно. От руки бандита... Встретил грудью... Удар ножа...» И, разумеется, «группа товарищей» или даже поименно.
Было сладко и грустно, возвышенно и страшно.
Старый, постройки еще XVIII века, помещичий дом, в котором гуляли бандиты, стоял в полусотне метров от дороги. Освещены были только несколько окон во втором этаже; первый казался нежилым.
Бодунов послал одну группу курсантов к заливу, чтобы бандиты Угла не ушли в Финляндию, другую — в снежный кустарник за домом. Мы же — восемь оперативников и в их числе «некто я» — гуськом, прячась в тени деревьев, отправились к зданию, из которого доносились звуки баяна и грохот, — наверное, там танцевали. Я казался себе в эти минуты посторонним. Это был не я. Это был —
— Берг — под это окно, — шепотом командовал Бодунов. — Рянгин — под это, к углу. Гук — за углом. А вы вот сюда — к этому окну...
Проваливаясь по колена, я подошел к дому и уставился на темные заиндевелые стекла. Берг был метрах в пяти от меня. Все стихло. На сияющем лунном свете я знаками спросил у Берга, что мне делать, если «оно» выпрыгнет из окна.
Эрих показал пистолет.
Я беспомощно развел руками, что должно было показать отсутствие у меня оружия.
Тогда Берг, скроив зверскую гримасу, показал мне, как я должен задушить бандита. На ярком лунном свете Эрих в своем реглане и шапке казался огромным, даже тень он отбрасывал титаническую. А моя тень напоминала удилище.
Внезапно звуки музыки наверху смолкли, их словно отрезало. И тотчас же раздался выстрел. Это Бодунов там, по своей манере, крикнул: «ручки, ручки вверх», или «ложись», или «спокойненько».
От страшного напряжения и, главное, неумения поступать в таких случаях, я слегка, для плотности, раскорячился, присел на корточки и вытаращился на «свое» окно, более готовясь доблестно погибнуть, нежели осилить бандита с ножом и пистолетом.
Но все было тихо.
В людей Бодунов стрелял, как мне рассказывали, только когда стреляли в него. Сейчас он, вероятно, выстрелил в потолок, для острастки, чтобы уложить бандитов на пол. Они и лежали как паиньки, а я торчал тут, стуча зубами от зверского мороза, а может быть, и не только от мороза.
— Ведут голубчиков! — сказал озябшим голосом Берг.
Это было как во сне, наверное, не меньше чем через час после выстрела. Я, как говорится, уже и себя не помнил от холода.
— Озябли? — сочувственно спросил Рянгин.
Бандиты шли медленно, держа руки высоко над головами. Их было девять человек — вся «девятка» Угла, «девятка», которую ловили в Харькове и Одессе, во Владивостоке и Баку, в Тбилиси и Перми. Сзади шел Иван Васильевич, сосал леденец.
— Пообедать даже не успел с этим детским садом, — сказал он мне сердито, — а у них на столе гуси жареные непочатые...
Женщин — бандитских подружек — вел Володя. Лицо у него было оскорбленное: тоже нашли дело для заслуженного товарища. Подружки кудахтали как курицы, по их словам, они ни в чем не были виноваты, просто «приглашенные на танцы».
По дороге — к тропочке задом — фырча подошли две тюремные машины. Прибежали курсанты — веселые, довольные, счастливые — как же, они «повязали» самого Угла! Растирая уши ладонями, выбивая дробь остроносыми туфлями, кряхтя от мороза, я втиснулся между Эрихом и Рянгиным в промороженную машину и бодрым голосом спросил у Бодунова, сколько времени продолжалась вся «операция».
— По хронометражу в десять минут уложились, вернее в одиннадцать. — И спросил, в свою очередь, повернувшись ко мне с переднего сиденья: — А как у вас? Все нормально было? Тихо обошлось?
Странное клохтанье послышалось мне со стороны Берга. И Рянгин издал какой-то звук, покашлял или чихнул, я не разобрал.
— Обошлось, — ответил я. — А разве...
— Все могло быть, — угощая меня леденцом из коробочки, сказал Иван Васильевич. — Бандиты... народ неожиданный...
«Хорошенькое дело! — горько подумал я. — Все могло быть, а он даже о пистолете не побеспокоился. Везли бы сейчас не меня, а то, что называется «тело». Тоже орлы-сыщики!»
Но именно после этой истории ко мне в бригаде резко и в мою пользу изменилось отношение. Тогда я это лишь почувствовал. А понял много позже. Понял уже в годы Великой Отечественной войны.
Летом сорок третьего года я на тяжелом бомбардировщике, пилотируемом Ильей Павловичем Мазуруком, прилетел с Северного флота в Москву. И, любуясь столицей, не повидав еще никого из друзей, на Петровке, неподалеку от Мосторга, встретил Ивана Васильевича, с которым мы не виделись лет пять. Я был флотский, капитан, если не хлебнувший войну полной мерой, то, во всяком случае, военный; Бодунов же был совершенно штатский человек, в штатском костюме, в рубашке без галстука, загорелый, спокойный, только сильно и круто поседевший с тех дней, когда мы виделись в последний раз.
Он мне обрадовался, я ему, разумеется, тоже. Мы обнялись, поцеловались. Он поинтересовался — откуда я, я спросил — откуда он.
— А из тыла, — посмеиваясь ответил Иван Васильевич. — Наше дело милицейское — порядочек чтобы был. Давайте рассказывайте, как в морях-океанах воюете...
С легким чувствам превосходства над тыловиком Бодуновым я воодушевленно принялся рассказывать.
— Живых фрицев видели? — спросил меня Иван Васильевич.
— Пленных, конечно! — сказал я. — И разговаривал с ними.
— Ну и как? — лукаво спросил он.
Весь этот вечер я пробыл у Ивана Васильевича — рассказывал. Он внимательно и добродушно слушал. Пришли еще
Я рассказывал. И другие
— А ШЗ ваше немецкий солдатский ром напоминает, — сказал вдруг Бодунов. — Тоже «табуретовка».
Другие
— А где же вы немецкий ром пили? — спросил я. — Как он в тыл попал?
— Тыл бывает разный, — с веселой усмешкой ответил мне Бодунов. — Есть наш, а есть и фашистский, на временно оккупированных территориях.
Я похолодел. Так вот кому я имел наглость рассказывать о том, что такое война! Впрочем, в те московские дни мы больше к этой теме не возвращались. Говорили о другом — о мирном времени, вспоминали всякое той поры. И вдруг Иван Васильевич вспомнил, как «мы» брали бандита по кличке Угол. Я багровел от похвал, которые сыпались на меня. По рассказу Ивана Васильевича выходило, будто один я «повязал Угла». Мне показалось, что он надо мной подсмеивается, я слегка обиделся, уточнил тогдашнюю диспозицию и пожаловался друзьям Бодунова на то, что никто в ту пору не осведомился, есть у меня пистолет или действовать я буду безоружным.
Туг вдруг мой Иван Васильевич буквально зашелся от смеха. Он всегда был смешлив, как все хорошие люди, умел в минуты роздыха смеяться до слез, но чтобы человек так веселился, как сейчас, я никогда еще не видел. А смеялся он так заразительно, что и друзья его стали посмеиваться...
С грехом пополам мы все же выяснили, что именно тогда произошло.
А произошло нижеследующее: я давно и настырно просился участвовать в операции. Готовясь к поимке Угла, Чирков и Бодунов вспомнили, что дом, в котором засели для гулянки бандиты, имеет одно фальшивое окно — снаружи застекленная рама, а изнутри кирпич на цементном растворе. Вот это с виду совсем обычное окно и было отведено мне в бодуновско-чирковском оперативном плане, с той целью, чтобы на этом посту, на глазах у Берга, я бы и показал свое поведение. Я его и показал — это поведение.
И Бодунов, опять заходясь от хохота, изобразил перед своими гостями то, что ему, наверное, изображал на их самодеятельных концертах Берг, как я, раскорячившись от напряжения, полусижу в снегу, изготовив руки, чтобы задушить бандита.
— Ручками, — стонал и охал Бодунов, — рученьками. Зайца и то так не уловишь — укусит, а тут... вооруженные... с финками... с револьверами... ой... пирпин... пинкертоны на мою голову...
Хохотали все. Я сидел набрякший. Теперь было понятно, почему заклохтал Берг тогда в машине и издал чихающий звук Рянгин. Конечно, им было смешно слушать, как Бодунов спрашивал, все ли было благополучно у меня, под мертвым, зацементированным окном.
— Зачем же вы это спросили? — осведомился я.
Иван Васильевич вдруг перестал смеяться:
— А мы вас проверяли.
— Как это?
— Просто: на вранье. По-вашему, на фантазию. Самое страшное, вот мои товарищи не дадут напутать, самое страшное в нашей работе — ложь. Испугаться можно, спутать можно, ошибиться можно, все мы люди. Но соврать! Ужасные, невероятные последствия в нашей работе ложь дает...
Гости Бодунова шумно и горячо его поддержали, и я вдруг почувствовал, что здесь он совершенно как в своей седьмой бригаде: самый любимый, самый главный, самый уважаемый.
— В тридцать седьмом последствий этой лжи хлебнули, ну а мы, с Дзержинским начинавшие, — учены, как за ложь карать надобно...
Он помолчал, отхлебывая чай большими глотками, потом улыбнулся:
— Вот эдак и проверили. Могли же вы сфантазировать: дескать, окно открылось, поглядел на меня зверский бандит, прыгнуть не решился — и всех делов. Этого мы и ждали... Ну... и уйти могли. Сказали бы: оружия не имею — находиться в секрете считаю бессмысленным. Разве не могли бы? Вы не обижайтесь — но надо же знать, с кем имеешь дело. Так что, вроде проверки боем, разведали мы вас маленько.
Когда гости разошлись, Бодунов сказал:
— А что без оружия — тоже не обижайтесь. Вам же нужна была психология — что переживает сыщик в такой ситуации. Вот и пережили доподлинно. А оружие штука не простая, особенно в нервных руках. И по своему можно выстрелить случайно, и по бандиту — тогда, когда и без стрельбы обошлось бы. Задерживать лучше живого, мертвый, во-первых, может такого наказания и не заслуживать, а во-вторых, если и заслуживает — бесполезен, ничего не расскажет. Да и вообще — оружие! Почему-то сыщики, когда их описывают, непременно палят. Между тем, в жизни знаете, как бывает? Вот в Ленинграде, в давние годы — ушел у...
Он помедлил. Я знал, если что-нибудь интересное — не назовется. Расскажет про другого. Так получилось и сейчас...
— У одного сыщика случай случился. Сыщик — не дурак, соображал малость. Время — разгар нэпа. Ушел бандит. С сильной политической окраской. Из-под носа ушел, в последний вагон поезда на ходу вскочил. А граница тогда возле самого Сестрорецка проходила. Бандит туда и кинулся. Мой сыщик, естественно, за голову схватился: уйдет подлюга к финнам. Сильный был бандит, артистически работал, а главное, нахальный. С восемнадцатого года уходил, гранатами в Москве отбился. Короче — сыщик другим поездом в Сестрорецк. Напал там на след и опять потерял. А жарища, а духотища, день воскресный, народищу в Сестрорецке-Курорте полно. Видит мой сыщик — плохо дело, сейчас свалится; от усталости решил искупаться. А этот самый бандит за сыщиком следом ходил. И когда тот в воду кинулся — унес и одежду его и наган. Остался сыщик голый и босый, да к тому же безоружный.
— Ушел бандит?
— Нет. Его безоружный сыщик взял и повязал бесславно.
— Как же так?
— Умнее был, чем бандит. И на народ на советский положился. В двадцати метрах от границы вязали, возле Белоострова. Тридцать два человека нас было... их было... в плавках и в трусах. Так что голова многое значит, если ею думать...
— Иван Васильевич, много раз вы были в их тылу? — спросил я.
—- После войны подсчитаем, — ответил он, — тогда бухгалтерия откроется.
— Трудно там?
— На переднем крае труднее.
Он вышел меня проводить. Штатский человек из тыла — военного моряка, скоро отбывающего на флот. И как мог я опять попасться на такой простой розыгрыш?
— Но кто вы сейчас?
— Как кто? Милиционер! Кто же еще?
Я заметил, что он вдруг погрустнел, будто вспомнил что-то печальное. И спросил у него об этом.
— Да так, — со вздохом ответил он, — опять в голову взбрело...
И рассказал мне о том самом «классном воре», «одиноком волке», о котором когда-то рассказывал мне Красношеев.
— Жаров? — спросил я.
— Прочитайте, — ответил Бодунов.
Это было письмо с фронта, обычный треугольничек тех лет. Почерком сильным и крутым «одинокий волк» писал, что был дважды ранен, что вновь воюет, что получил новую «машину», что теперь стал командиром, «большим начальником», имеет звание майора. И дальше шли фразы, читать которые даже в те военные годы было нелегко. Жаров писал: «Никакой кровью и никакими ранениями мне не рассчитаться с моей советской властью за то, что она в Вашем лице, Иван Васильевич, сделала для меня. Так что, если и придется погибнуть, то это будет первый взнос в счет расчетов, которые не состоялись без моей вины».
Дальше было написано, что авось в случае чего Иван Васильевич позаботится о Люсе и о девочках.
— Погиб! — хмуро сказал Бодунов, когда я вернул ему письмо. — Сгорел в танке. Посмертно награжден орденом Ленина. Был уже инженером, золотая голова...
Иван Васильевич вышел меня проводить. И долгие годы я ничего не знал о нем, кроме того, что он, кажется, жив.
Тут придется опять возвратиться обратно, в тридцатые годы.
Пока Иван Васильевич, отбоярившись от доклада к Восьмому марта, ловил очередных бандитов в тундре, мой друг Эрих Берг «наломал дров» в седьмой бригаде. На Васильевском острове случилась большая драка. В драке действовали и кастетами, и ножами, и даже стреляли. Рассердившись, Эрих всех «чохом» посадил в тюрьму. Будучи человеком трезвым и твердых нравственных правил, страстно ненавидя всякое хулиганство, он не побоялся немножечко и «перегнуть». Посидят — отрезвеют, подумают, как жить дальше.
Бодунов привез своих бандитов, поспал, побрился — помылся и, со свойственной ему молниеносной быстротой, выяснил, что Берг в запальчивости посадил в тюрьму трех человек, которые случайно вышли из подъезда в то мгновение, когда лавина драки накатилась на парадное. Эти трое были молодые ученые, изрядно под хмельком возвращавшиеся со дня рождения своего друга. Разумеется, Бодунов перед ними элегантнейше извинился, позвонил начальству на работу, сообщил, что произошла безобразная ошибка и виновные будут строго наказаны, самих «пострадавших» отправил на своей машине по домам, позвонил женам пострадавших, известил свое начальство...
Эрих стоял ни жив ни мертв. К тому же он присутствовал при всех извинениях. Стоял неподвижно-серый и униженный, не испуганный, нет, потрясенный собственной ошибкой и кротким бешенством Бодунова. От брезгливой ненависти ко всему происшедшему у Ивана Васильевича даже голос изменился — он заговорил фальцетом.
При беседе с Бергом я не присутствовал. А на мой вопрос, чем все кончилось, Эрих только махнул рукой. Спросил я и у Бодунова.
— Наказан ваш Берг! — отрезал он.
И тут попутала меня нелегкая вступиться. Я сказал, что в каждой работе есть процент неизбежного брака и ошибок. Я сказал, что молодые ученые просидели в камере совсем немного. И добавил, что перед ними извинились, позвонили им на работу, отправили по домам в машине.
Бодунов, стоя ко мне спиной, рылся в сейфе.
По «выражению» спины я чувствовал, что Бодунов злится.
Но остановить себя я не мог. Я уже успел крепко привязаться душой к седьмой бригаде, и мне искренно представлялось, что по отношению к Бергу совершена несправедливость.
— Послушайте, а за вами когда-нибудь захлопывалась дверь тюремной камеры? — резко спросил Иван Васильевич.
— Нет! — бодро сказал я.
— А если бы захлопнулась?
— И потом передо мной извинились?
— Когда захлопывается — человек не знает, извинятся или нет. Короче, оставим этот разговор! Пока что начальник здесь я.
Пожав плечами, я ушел. Но на следующий день не сдержался и доложил Бодунову тусклым голосом, что на Берга-де невозможно смотреть, что он заболеет, что с ценными работниками так безжалостно обращаться нельзя, и т. д. и т. п. Бодунов только быстро на меня взглянул и опять ничего не ответил.
Будучи человеком от природы довольно настырным, еще через день я завел ту же музыку о несчастном, погибающем, погибшем даже Эрихе. Берг, кстати, совсем не погибал. Он только дулся, временно «отстраненный от оперативной работы». Дулся и подшивал бумаги. Но мне казалось, что
Прошел месяц, Эрих вновь ловил жуликов, прощенный Бодуновым, жизнь шла своим чередом, я в совершенстве овладел блатным жаргоном и как-то, решив поразить Бодунова фундаментальностью своих знаний, сказал ему примерно такую фразу:
— Вчера, я слышал, одному «выключили зажигание», думали он — «дубарь», а он «похрял». Наверное, теперь останется на всю жизнь «крахом». Конечно, сто сделал, «свалился», до «хавиры» бандит «не доконал». Не знаете, когда «крестить» будут?
— Простите, не понял, — с ледяной вежливостью ответил Бодунов.
— «Чиркухаете»! — сказал я.
— У нас жаргон запрещен, — произнес Бодунов. — Это когда жулики с нами начинают фамильярничать, они переходят на жаргон.
Мне стало стыдно. Но я не сдался.
— Все строгости! — сказал я. — И неправильные. Так же, как с Бергом...
На этот раз мне сошло.
К Первому мая все в седьмой бригаде получили подарки. Какой-то вздор, но подарки, — не дорог подарок, а дорога любовь: мыло, одеколон, бритва, конверты с бумагой. Получили все, кроме Берга.
И тут я затеял всю эту музыку сначала, но уже в присутствии Эриха и многих других «орлов-сыщиков». Я защищал право на ошибку.
— А если врач вам по ошибке оттяпает ногу? — спросил сердитый Рянгин.
— Или расстреляют по ошибке? — осведомился Чирков. И добавил строго: — У нас ошибаться — преступление.
Мне казалось, что все против Берга. Каково же было мне услышать, что сам Берг согласен с тем, что совершил преступление.
Бодунов молчал.
Пятого мая, я хорошо помню, что это было именно пятого мая, я пришел на площадь Урицкого. Пропуск у меня был разовый — белая бумажка. Но в седьмой бригаде все двери оказались закрытыми. Я сел в коридоре и при свете тусклой лампочки стал читать газету. Какие-то подозрительные личности прохаживались неподалеку, со мной рядом села страшненькая, намазанная старуха-абортмахерша и стала спрашивать, «кто тут берет в лапу, чтобы поскорее отпустили». Шел одиннадцатый час вечера.
Почитав еще, я отправился в первую бригаду, но там дежурил незнакомый юноша. Апартаменты большого начальства были закрыты.
Мне стало, что называется, муторно. Войти я сюда вошел, а как я выйду, если из седьмой никто сегодня не придет? Мне было известно правило, что в районе двенадцати по коридорам розыска проходят товарищи с винтовками и забирают всех «коридорников» в тюрьму.
Стрелки показывали без четверти двенадцать.
Я еще рванул дверь седьмой бригады — тишина.
Без пяти двенадцать я услышал «их» шаги и характерное — «давайте, граждане, давайте, проходите!».
Все было правильно: честному гражданину нечего делать тут в эту пору.
— Давайте, граждане, проходите, давайте...
Я впился глазами в газету: разумеется, все эти «давайте» ко мне не относились. Сидит приличный товарищ, читает современную печать, этот товарищ — писатель...
На свое горе, я сказал на их «давайте»:
— Я писатель!
Мне ответили сдержанные смешки. Изучая блатной язык, я знал, что по-блатному «писать» — это «работать» безопасной бритвой; все те, кто вырезает куски дорогого меха из шубы или срезает дамскую сумочку — «пишут», и называют их «писателями».
— Раз писатель, тем более! — вежливо сказали мне.
Тут-то я вспомнил. Но было поздно. Я теперь не шел. Меня вели. И тут я стал говорить речь. Каких только угрожающих слов в ней не было. И — беззаконие. И — вам покажет сам Бодунов. И — вы еще встретитесь с Колодеем. И — я напишу Максиму Горькому.
— Перестаньте, — сказала абортмахерша. — Через вас у меня лопнут уши!
Мы шли и шли бесконечными коридорами, нас становилось все больше — подозрительных людей, уводимых в тюрьму. От бешенства я уже хрипел. Я даже крикнул, что ноги моей больше не будет в этом здании...
— Ох, мальчик, я тоже давал себе такие заверения, — сказал мне какой-то отталкивающий субъект. — Так разве мы сами сюда приходим? Нас же привозят. Транспорт ихний...
В самом преддверии тюрьмы меня окликнул знакомый голос. Оказывается, рядом с нами изрядное время шел Бодунов.
Теперь мы стояли вдвоем — друг против друга — в пустом, слабо освещенном коридоре.
— Громко вы кричали, — сказал Иван Васильевич. — Очень громко. Я издали услышал. Сильно грозились...
Я молчал. Деваться было некуда. Что к чему — я понимал.
— А ведь дверь тюремной камеры еще не захлопнулась за вами.
Что мне было сказать?
— Горького вспоминали. Пойдем пройдемся...
Мы вышли на Неву. Было несветло, но уже чувствовалось приближение белых ночей, весны, тепла. Ловко закурив на ветру (он всегда делал все ловко, точно, умело, быстро), Бодунов сказал:
— Мы бы извинились перед вами, позвонили бы вам домой, на моей машине отправили бы вас к семейству. Что ж шуметь?
Нет, он не злорадствовал. Он говорил грустно, словно сам с собой. Потом, погодя, добавил полувопросительно:
— А правда, что нервные клетки не восстанавливаются?
— Правда.
— Ошибочки! — вдруг, видимо теряя власть над собой, с тихим бешенством, яростно заговорил Бодунов. — Что сейчас, революция в опасности, что ли? Карьеры себе делают мерзавцы, я бы этой рукой беспощадно, как в те времена, стрелял гадов! В ту, в ту эпоху мы стреляли тех, которые нам кричали: «Да здравствует империя, вас — пролетариев — всех к стенке, все равно мы будем вас вешать!» А этот...
Я еще не понимал, о чем и о ком он говорил. Шел год 1937-й. «Этот» был розовый, красивый, рыжий Т. Он еще не приступил к действиям внутри ленинградской милиции, но уже готовился к прыжку — убийца! И Бодунов это чувствовал.
Возле управления прохаживался молодой человек в шляпе, сидящей на ушах, и в модном плаще с огромными плечами.
— Мусин? — удивился Иван Васильевич. — Вы что тут делаете?
— Сдаваться пришел, — сказал некто Мусин. — Явка с повинной — заметьте. Напишите записочку, чтобы культурно оформили, в камеру получше...
— А в «Асторию» не желаешь? Или в «Европейскую»?
Но Мусин не расположен был шутить. Мы еще посидели в кабинете Бодунова, где Мусин показал нам, как вывинчиваются его золотые зубы, каждый порознь — лагерная валюта.
— Профессор-стоматолог делал, — соврал Мусин. — Я потому и не являлся, что хотел «ротовую часть» оформить. Приходил сюда и вчера и нынче. Все вас не видать. Работы много?
— Да, хватает.
— А жизнь одна, — философски произнес Мусин. — Одна, и пролетает как муссон.
— Как кто?
— Муссон, — последовал ответ. — Ветер.
За Мусиным пришел конвойный. Я собрался домой, Бодунов угрюмо предложил:
— Посидите.
Открыл сейф, достал оттуда старенькую тетрадку и прочитал оттуда вслух, с трудом разбирая старые, полустертые карандашные строчки. Это было записано еще в апреле 1918 года — юным чекистом Иваном Бодуновым, — и он сейчас не столько читал, сколько говорил наизусть, лишь сверяя свою память с записью того далекого года. А я только в 1958 году обнаружил эту самую инструкцию «для производящих обыск и записку о вторжении в частные квартиры и содержании под стражей» в сборнике «Из истории ВЧК», изданном Госполитиздатом тщательно и любовно.
— «Вторжение вооруженных людей, — читал Бодунов, и спокойный голос его вдруг стал срываться от волнения, — на частную квартиру...»
Губы его дрожали, когда он кончил читать.
Заперев тетрадку в сейф и тщательно проверив замок, Бодунов, наверное, чтобы успокоиться, молча постоял перед планом Ленинграда, потом резко спросил:
— А нас что сейчас заставляют делать? Что? Обычную уголовщину квалифицировать как политические дела? Это выходит, что у советской власти врагов полным-полно? Это как же понять?
Через несколько дней Бодунова перевели в Москву.
Там я застать его не мог. Он всегда был в отъезде. По слухам, ловил бандитов на Дальнем Востоке, в Сибири, в Осетии, в Узбекистане. Но что я мог узнать, когда и друзей моих по седьмой бригаде разметало по свету? И седьмая бригада перестала существовать.
В слезах ко мне прибежала жена Берга:
— Эриха посадили. Говорят — немец. Он же ни слова по-немецки не знает. Как так?
Я побежал к Т. Он был теперь за главного. Сидел в огромном кабинете — огненно-рыжий, наевший морду, с красными глазами, розовый, выхоленный, добродушный.
— Зря к нам не наведываетесь, — сказал он, — тут интересные дела разворачиваются. Кое-что переоцениваем.
Про Берга он выслушал с той же улыбкой.
— Ручаться все-таки не советую, — сказал Т. — За отца даже я и то не поручусь. Так-то вот.
Мне было тошно. А Т. продолжал:
— Про Бодунова про вашего интересные истории выясняются, кстати. Тут, когда указ был, он в одно дело самоуправно вмешался, в Сланцах. Находился в командировке и вмешался в местные дела. Посадили деда — украл четыре буханки хлеба в магазине. А Бодунов ваш нашел какую-то тетку Дарью и, несмотря на то, что дед настаивал на своем, настаивал, что у вдовы он украсть не может по совести, а в магазине хлеба много, Бодунов, пользуясь своим авторитетом, деда отпустил.
«Милый Иван Васильевич, — думал я, — я же знаю, какой вы человек. Отпустили деда, которому грозили десять лет за
— Правильно отпустил! — сказал я.
— Вот как?
— Он всегда все делал и делает правильно, — с яростью сказал я. — И тогда с Лабуткиным был прав он, а не вы. Про таких, как он, говорил Дзержинский: у чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце...
Т. ответил значительно:
— Сейчас другие времена.
Его холодные, кошачьи глаза смотрели на меня подозрительно.
И я выслушал лекцию о «других временах». Нельзя было никому верить. Не существовало больше ни друзей, ни близких, ни авторитетов. Я слушал и молчал, хоть и думал: «Ты не сдвинешь меня с места. Бодунов, а не ты — настоящий. Я верю абсолютно сердцу и уму Бодунова, а тебе не верю».
Лекция была длинная.
Т. прохаживался по своему кабинету в вышитой шелковой рубахе, в турецких, с загнутыми носами туфлях — огромный, жирный, самодовольный котище. Неприятно, не по-мужски пахло от него сладкими духами. И говорил, говорил, говорил:
— Они, оказывается, фрукты. Двадцать семь человек детей репрессированных ваши Чирковы — Бодуновы выборочно проверили в ленинградских вузах и имели наглость написать в Центральный Комитет письмо, что эту молодежь нельзя исключать из вузов. В Центральный Комитет! Какое им дело? Их запрашивали?
Сытый кот вдруг пришел в ярость.
— Я Чиркова вызвал, — крикнул он тонким голосом. — Предложил ему пистолет: давай — стреляйся за дверью, только по-быстрому, все равно тебя пуля ждет. Так он ответил: «Я при советской власти стреляться не намерен, все равно наша правда, а не твоя».
В коридоре я встретил пострадавшего, похудевшего Бирулю.
— Ты к рыжему не ходи, — сказал он. — И про Ивана нашего, что болтает, не верь. На таких Иванах, как Бодунов, русская земля испокон держалась, и советской власти они основа. Ничего, наступит еще наша правда.
Больше на площадь Урицкого я не ходил. Чирков ездил куда-то в область, ловил бандитов и жуликов. Рянгин, Петя Карасев, Бируля, Лузин на телефонные звонки не отвечали. Про Женю Осипенко я узнал, что он арестован. Т. действовал вовсю.
В столе у меня хранилась маленькая фотография Бодунова. Иногда я вглядывался в это смелое, открытое лицо, в глаза, которые так весело и лукаво светились. И мне становилось легче.
Много позже я понял: в молодости непременно должен быть у тебя старший товарищ, мудрый и спокойный друг, много испытавший, много повидавший, для которого не так все просто в жизни, как для тебя, и про которого ты знаешь совершенно твердо — это настоящий человек! Это рыцарь без страха и упрека. Он никогда ничего не испугается, не свернет с дороги совести, правды и порядочности, ни в чем, ни в самой малой житейской мере, не пойдет на компромисс, не говоря уже, разумеется, о выполнении долга коммуниста.
Такой старший как бы поверяет и проверяет твою жизнь и твою совесть, твое мужество и твои силы, если они нуждаются в испытании. На такого — старшего не только возрастом, но и нравственным зарядом — ты, молодой, оглядываешься, с ним сравниваешь различные перипетии своего бытия, в нем находишь постоянный пример и при помощи его образа как бы закаляешь себя, ежели нуждаешься в закалке.
Таким человеком стал для меня Иван Бодунов, старый коммунист, по специальности «сыщик», как он выражался про себя, «милиционер», как любил рекомендоваться, «папа Ваня», как называли его за глаза подчиненные.
Нельзя было его не любить: собранный, удивительно чистый нравственно, без всяких ханжеских разговоров о том, что можно и чего нельзя, что хорошо, а что плохо, просто природно, инстинктивно брезгливый к пакостям и грязи жизни, никогда не рассказавший ни одного скабрезного анекдота, ловкий, быстрый, веселый, аппетитно подвигающий к себе тарелку с борщом, вкусно закуривающий, убежденный, несмотря на свою трудную в этом смысле специальность, что «люди — великолепный народ», наделенный талантом справедливости, — разве можно было не любоваться таким человеком, не видеть в нем примера, не стараться стать по мере сил таким, как он.
В его бригаде все хотели походить на него. Все ходили быстро, все говорили по телефону в его отрывисто-вежливой, четкой манере, все считали неприличным и недостойным мужчин произносить высокие слова о своей профессии, все, даже не слишком наделенные этим даром от природы, шутили и острили даже в невеселые минуты, все докладывали только правду, какой бы горькой для докладывающего она ни была. И правду докладывали Бодунову не осторожными словами, а прямыми, как есть — требовал он, как есть — и докладывали. Не «он от меня ушел», а «я его упустил, понимаете, товарищ начальник, моя вина, прошляпил». На объективные обстоятельства ссылаться было нельзя. Он не признавал их. И молодежь вокруг Бодунова не признавала объективных обстоятельств никогда, никаких.
Он редко хвалил словами. Он только вдруг взглядывал — на мгновение, но так ясно, так светло, весело и поощрительно, так этим взглядом обласкивал и такую, казалось, речь произносил, что молодой работник словно на крыльях взлетал, весь заливался краской, до багровости, и только много позже спохватывался, что Бодунов-то и произнес всего ничего, одну фразу:
— Далеко ты у нас, Володя, пойдешь, если милиция не остановит.
И служебное:
— Продолжайте работать, — уже на «вы».
За своих «орлов-сыщиков» он вечно хлопотал. Конечно, комнаты — первое дело. Разумеется — премия, у такого-то и такого-то жена родила, а теща в больнице, нужна нянька, иначе жене на работу не выйти, а с деньгами худо.
«Большое начальство» знало: Бодунов зря не попросит. Но сами сыщики представления не имели — почему этот получил комнату, а того переселили из полуподвала во второй этаж. Никто не знал, каких трудов стоило Бодунову добыть путевку в санаторий Володе, сколько времени он потратил на то, чтобы, допустим, Оля перестала закатывать сцены своему благоверному Сереже за то, что тот сидит в засаде — ловит жуликов, а билеты в оперу пропали.
Бодунов людям нравился сразу, с первого взгляда открывались ему навстречу сердца. И ничего для этого он не делал: никогда не старался нравиться, никогда ничего не рассказывал героического о своей профессии — милиционер как милиционер. Однако же умный и наблюдательный Сергей Аполлинариевич Герасимов — народный артист впоследствии — сказал, познакомившись с Бодуновым:
— Какой человечище! Кто он?
— Сыщик.
— Просто сыщик?
— Милиционер...
— Перестаньте разыгрывать...
Кинорежиссеры И. Хейфиц и А. Зархи сказали в один голос:
— Он, главное, талантлив во всем!
Они только видели его, но не знали, как знал я.
Они, например, не знали того прекрасного чувства ответственности за все в нашей жизни, которое всегда и поражало меня, и радовало. Он никогда не был «посторонним». Он отвечал за все. Не раз и раньше и впоследствии видел я с тоской и гневом «начальничков», главным занятием которых было проследить — уехал старший из управления или еще нет. Если уехал, значит, можно уезжать и младшему. И когда я однажды удивился такому поведению «младшего начальничка», он у меня спросил:
— Про записку повесившегося парикмахера знаете?
— Нет.
— Забавный анекдот. Парикмахер написал: «Кончаю жизнь самоубийством, потому что всех все равно не переброишь».
Бодунов отлично знал, что всех ему «не перебрить». Но когда, сложив руки за спиной, подолгу простаивал он перед планом Ленинграда, я понимал: он отвечал за все перед своей совестью коммуниста, а не перед старшим начальником.
Кстати, об этом плане нашего города. Как-то, постучав по зеленому Васильевскому острову, Бодунов сказал:
— Интересно, что даже вы, можно выразиться, наш работничек, не интересуетесь самым главным...
— Чем же это? — приготовился обидеться я.
— Несостоявшимися преступлениями. А в нашей бригаде это самое главное — предупредить, профилактировать, не дать состояться убийству, грабежу, бандитскому нападению.
И, действительно, как выяснилось, — это было основой работы Бодунова, но такой невидной, неэффектной, скромной...
Впрочем, это тогда мне так казалось. Сейчас я понимаю, какой это был титанический труд.
Однажды в театре Иван Васильевич мне показал:
— Видите, вон такой почтеннейший, глубокоуважаемый седой мужчина. Грушу кушает. С супругой в этом... как его... Ну, в бусах...
Академического вида громадный старик красиво разрезал грушу, а седая, роскошная его супруга в жемчугах и накинутой на обнаженные плечи шали пила лимонад.
— Так вот, они могли уже стать покойниками. Все разработано было, вся операция в деталях. Кто академика тюкнет, а кто — супругу. По науке, с планом квартиры. Сильная была группочка. А супруги так ничего и не знают по сей день.
Терпеть не мог Бодунов, когда обижали слабых, когда видел он ненавистный ему персонаж — хулигана, когда хулиган одерживал верх над коллективом человеческим.
Как-то в воскресный знойный летний день поехали мы в Петергоф, в парк. Иван Васильевич, как всегда, был в штатском, в белых парусиновых тщательно начищенных туфлях. Пошли по аллее близ «Марли», а там тогда сразу возле дорожки начиналось тенистое, зеленое, ядовито-бархатистое болото.
Мы шли, мирно болтая, тяжело дыша в парной духоте, в пыли, поднимаемой сотнями, если не тысячами ног. Шли к заливу. А перед нами вышагивали совсем вплотную два отвратительных юнца в сапожках, в насунутых на уши кепках, в брючках с напуском, — немытые шеи их были нам хорошо заметны, и было видно, как мучают они двух девушек с косами, почти девочек, которые шли перед этими подонками.
Разморенные духотой, два пьяных паршивца дергали девочек за косы, и пребольно, притом говорили циничные, отвратительные фразы, пытались поставить подножку то одной девушке, то другой.
А те, бедняги, иногда гневно оглядываясь на своих мучителей, продолжали делать вид, что безмятежно болтают, что наслаждаются прогулкой, что все хорошо.
Убежать, прорваться сквозь плотное месиво гуляющих девушки не могли. Что же им оставалось делать?
— Перестать! — четко, сквозь зубы, с известной мне яростью, произнес Бодунов. — Пе-ре-стать!
Хулиганы обернулись.
— Шьто? — спросил один, безобразно коверкая русскую речь. — Шьто? Вы на кого желаете замахнуться?
Гуляющие остановились, так как образовалась пробка. Никто ничего не понимал. И тут вдруг и хулиганы и Бодунов исчезли. В короткое мгновение он железными ручищами схватил их за грязные цыплячьи загривки, стукнул друг о друга головами и пропал с ними за огромным, разросшимся кустом в болоте. С минуту оттуда доносились какие-то повизгивания, кряхтенье и кудахтанье, потом все затихло, и Иван Васильевич вернулся в молчаливую,
— Изгваздался как! — сказал он сердито, отряхивая мокрые, в ряске и тине штаны. — Черт бы их подрал!
Из-за куста донеслось всхлипывающее клохтанье, по которому я понял, что хулиганы живы.
— Сидеть там тихо, пока за вами не придут! — крикнул Иван Васильевич.
Толпа смотрела на Бодунова восхищенно и угнетенно. Было слышно, как какая-то женщина выговаривала, вероятно, своему мужу, который видел хулиганов и не помог девушкам. Муж мямлил, что он-де не милиция. А девочки с косами смотрели на Бодунова с молчаливым и счастливым восхищением.
В пикете милиционеры в холодке играли в шашки. Была не просто игра, а что-то вроде турнира. Эти забавы Бодунов разогнал так же, как сделал это с Учредительным собранием много лет назад матрос Анатолий Железняков. За хулиганами были посланы двое. Главный в пикете, исповедующий нехитрую религию, что «всех не переброишь», пытался объяснить свои трудности в «парково-фонтанном» объекте.
— У вас тут, между прочим, крепко хулиганством воняет, в вашем объекте, — брезгливо сказал Бодунов. — И вы с ними разберитесь, горячо советую, а то другие разберутся...
Мы ушли на взморье. Бодунов хмурился, отстирывал брюки, отмывал туфли.
— Я им почему в пикете не показался, — сказал вдруг Иван Васильевич. — Чтобы не поняли, кто я. Пусть думают, что не милиционер, а как все — гуляющий. Тогда они будут бояться всех. Понимаете?
И добавил сердито:
— Почему эти все прогуливались и делали вид, что не замечают? Конечно, замечали. Не могли не замечать.
А погодя сказал с невыразимым презрением:
— Посторонние!
Я хорошо понял тогда, как ненавидел он «посторонних». Никогда, нигде, ни в чем не бывал он сам посторонним. Наверное, сказывалось то, что называл он выучкой Дзержинского.
— А вообще-то народ замечательный, — сказал он погодя, садясь на камень и с хрустом потягиваясь на солнцепеке. — В трудные минуты, случается, так вдруг поможет трудящийся человек — хоть золотое оружие ему вручай за храбрость и доблесть. Был такой в начале нэпа — барон Тизенгаузен. Ворюга высшей категории и грабил все, знаете ли, своих бывших.
Бодунов засмеялся:
— Мы ж, большевики, все искали и ищем, как человека исправить. Как ему подобру втолковать — беседами, агитацией, как до сердца дойти. И того, случалось, не учитывали, что имеются индивидуумы вовсе без сердца. Нет у них такого органа, и вся недолга. Доходили до сердца и барона Тизенгаузена. И за примерное поведение по дням воскресным отпускали из тюрьмы домой — для отдыха и наслаждения в семейном кругу. И, понимаете, как назло: как воскресенье — так грабеж. И какой! Старичок один выручил — краснодеревец. Он еженедельно к своему бывшему барону Тизенгаузену наведывался — тот ему еще со старопрежних времен задолжал. И ни в одно воскресенье барона застать не мог. Вот и сопоставил он грабежи среди своей бывшей клиентуры с отпусками Тизенгаузена и эти свои соображения нам доложил. Мы за голову и схватились. Но засаду не там засекретили, где надо было, а там-то наш старичок оказался — в истинном месте происшествия. Наставил на барона нечто вроде пустого патрона винтовочного и скомандовал: «Руки вверх, паразит!» А потом на извозчике вместе с грабленым к нам привез. И откуда берется?
Так же посмеиваясь, рассказал Бодунов и про «медвежатников» Володи-интеллигента. Интеллигент разрабатывал лишь технический план взлома несгораемой кассы и вычерчивал инструменты, а также руководил изготовлением всех этих «балерин» из легированных сталей. Банду Иван Васильевич накрыл, взломщиков судили, они «дали ту слезу» на суде, разумеется, напомнили про родимые пятна капитализма и получили небольшой срок. В тюрьме они выразили бурное желание работать, и им была предоставлена великолепная мастерская, в которой они стали изготовлять новую партию непревзойденных инструментов для взлома. Руководил работами вышеназванный Володя-интеллигент, а начальство тюремной мастерской не вмешивалось, ибо было указание «не давить на психику заключенных, что хотят, то пусть и делают, главное же работа». Вот и поработали.
— А как поймали? — спросил я.
— Старушка одна помогла. Очень помогла. Знаете, есть такие — «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Остановила нам коня, а то бы мы хлебнули горя...
Он замолчал надолго, задумался,
И опять вышло, что в поимке Тизенгаузена и шайки Володи-интеллигента Бодунов почти что не участвовал...
Наступили великие дни возвращения ленинских норм социалистической законности. Оклеветанные возвращались домой. Реабилитированного нужно было устроить, нравственно обогреть, помочь и в малом и в крупном. «Указники», которым «отвешивали» по десяти лет за то, что вдова погибшего солдата накопала на колхозном поле в фартук картошек детям, — такие «указники» возвращались в родные места. Тюрьмы, в которых содержались «враги народа», были срочно переоборудованы в общежития, где транзитные реабилитированные могли переночевать, помыться, поесть. Прекрасные дни возвращения народу попранной правды наступили во всем своем блеске, красоте и ясности.
Бодунова я нашел уже генералом.
Он почти совсем поседел, но сильное лицо его помолодело.
— Вот видите, — сказал он мне, радуясь и гордясь временем, в котором мы живем. — Видите? Я знал, что так будет. Так не могло не быть! Партия вон как могуча. Не побоялась всю правду выложить.
Мы поговорили не более получаса. У Бодунова не было времени. Он занимался восстановлением добрых имен, устройством, прописками, розысками родных.
С величайшим трудом мне удалось несколько лет тому назад привезти Ивана Васильевича в Ленинград на телевидение. Волновался он ужасно, даже валерьянку ему капали. Металлическим голосом сказал несколько слов и был таков. Но после его выступления телефон у меня звонил буквально круглосуточно.
— Кто его спрашивает?
— Так, один знакомый.
Иван Васильевич ездил по старым друзьям, и застать его у Чиркова, где он остановился, было трудно. Тогда стали спрашивать, каким поездом он уезжает...
И вот наступил день отъезда.
Провожали Бодунова человек двадцать старых и верных друзей. Когда же мы подходили по перрону к вагону, возле него оказалась толпа — человек сто.
— Наверное, балерина или Райкин уезжает, — сказал Иван Васильевич.
Нет, уезжал Бодунов Иван Васильевич, наш друг — Иван Бодунов. В густой толпе провожающих были и простые, замасленные рабочие ватники, и бобровый воротник, и полковничьи погоны.
— Иван Васильевич, — сказал Бодунову человек лет за сорок во флотской шинели с погонами военного врача. — Не узнаете?
— Нет, — сказал Бодунов.
— А Свисток, к которому вы... помните, к Сергею Мироновичу.
Эти все сто человек были обязаны Бодунову жизнями: слесари и токари; врачи и инженеры; парикмахер и директор чего-то. Это были
— Я ж вас сажал, ребята, — произнес Иван Васильевич сквозь слезы.
— За дело!
— А как же!
— Не сидели бы за
Сентиментальных людей здесь не было, но плакали все. Плакал, стоя в дверях тамбура, и сам Иван Васильевич, все еще красивый, несмотря на седьмой десяток, подтянутый, легкий, быстрый...
Поезд двинулся, мы пошли рядом с вагоном.
До свидания, Иван Васильевич, наш друг! Здоровья вам и сил!
А провожающие, с которыми я возвращался, вспоминали:
— Ты Щука?
— Неужели узнал?
— Так мы же в тридцать четвертом сели в один день. За сахар.
— Точно. У меня это конец был. Все. Завязал.
— Евстигнеев? Здорово выглядишь.
— Метро строю.
— В качестве?
— Архитектор. А ты, Кум?
— Кум в Крестах остался, а здесь Родион Никифорович.
— И верно — седой. По рукам — рабочий класс?
— Дома строим. Автово — мои дома.
— Плохо строите. У меня дует!
Один вдруг сказал:
— Знаете что, товарищи? Как бы нашу сотню назвали в дни войны? Хозяйство Бодунова. Точно?
У меня сжалось сердце: точнее нельзя было сказать. А сколько таких хозяйств у нашего Ивана Васильевича по всему Советскому Союзу?
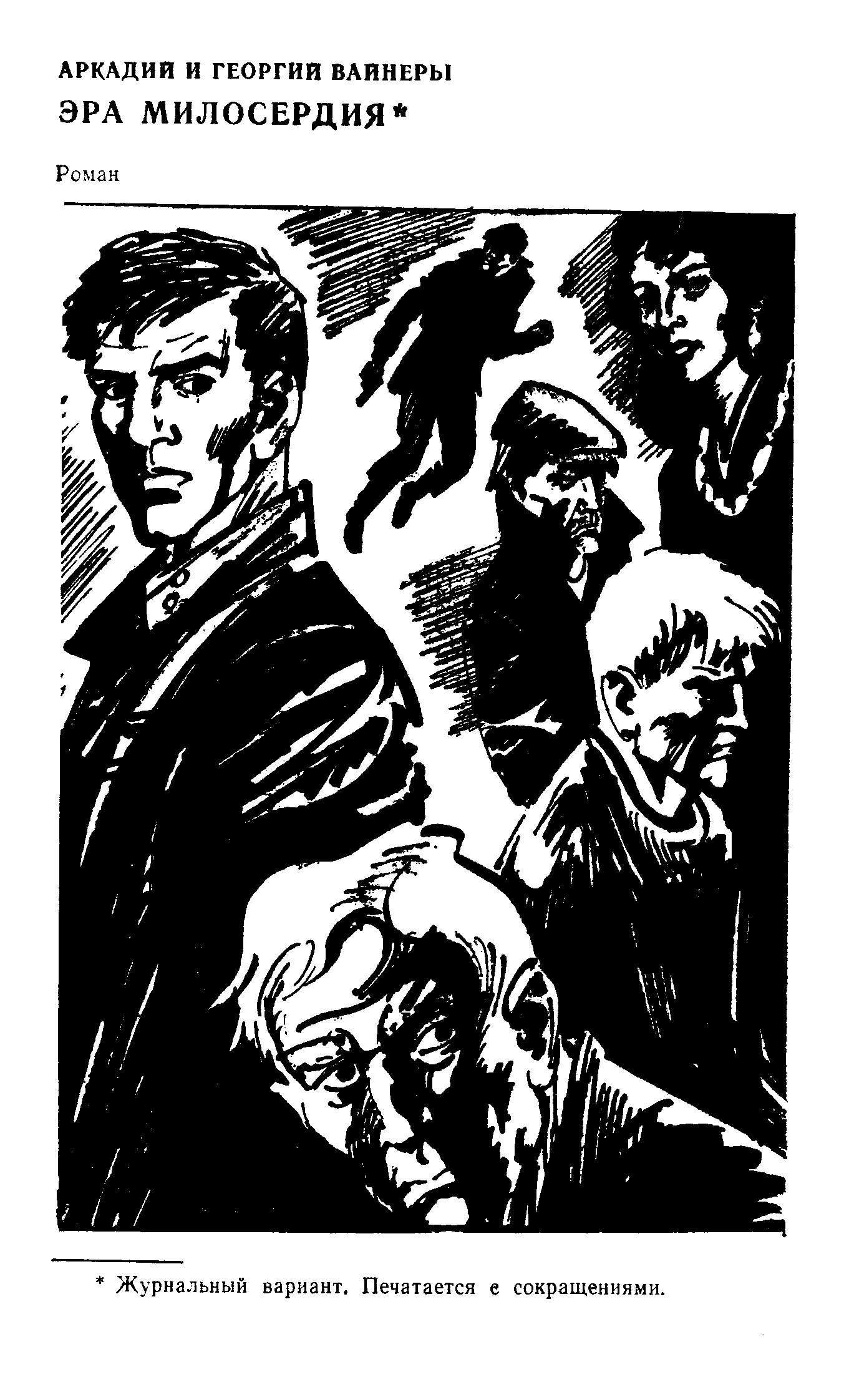 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |