"Погадай на дальнюю дорогу" - читать интересную книгу автора (Дробина Анастасия)
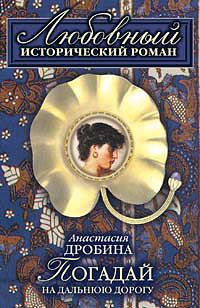 |
Анастасия Дробина Погадай на дальнюю дорогу
Пролог
Ветреным ноябрьским вечером 1895 года ресторан Осетрова в Грузинах был полон. Цыганский хор заканчивал очередное выступление: на эстраде перед столиками сидели на стульях певицы в черных и белых платьях, среди которых выделялись яркие юбки плясуний, за их спинами стояли гитаристы в синих казакинах. В зале было душно, пахло свечным воском, дичью, крепкими духами, сигарный дым пластами плавал под потолком. Гости были уже изрядно пьяны и бьющую плечами перед столиками танцовщицу – совсем девочку в нарядном платье алого шелка – подбадривали нетвердыми голосами. Наконец девчонка отплясала, блеснула напоследок зубами, вернулась на место, и почти сразу же хор встал. У цыган было полчаса на отдых перед следующим выходом.
В крошечную артистическую набилось больше двадцати человек, и тут же стало не развернуться. Глава хора Яков Васильев, семидесятилетний старик с острым неласковым взглядом и по-молодому стройной фигурой, бережно неся за гриф гитару, вышел в ресторанные сени. За ним последовал его гость – высокий человек лет пятидесяти, еще красивый, с густыми седыми волосами, с осанкой, выдававшей отставного военного. Он улыбался старому цыгану, но серые глаза смотрели холодно. Впрочем, Яков Васильев знал: другого взгляда у графа Воронина не бывает.
– Ну, ваша милость, понравилось?
– Не в обиду будь сказано, Яков Васильич, – не понравилось.
– Что ж так? – без удивления спросил хоревод. – Разве голосов в хоре не стало? Разве плохи голоса?
– Плохи, – без обиняков заявил Воронин. – Я вас семнадцать лет не слышал и на правах старого поклонника заявляю: плохи. Без твоей Насти и без моей Зины хор гроша не стоит.
– Эк чего вспомнили, Иван Аполлоныч... – усмехнулся в усы хоревод, и в темноте сеней граф не заметил, какой горькой была эта улыбка. – Настьки не сыскать... А Зинку, между прочим, могли бы и обратно к нам отпустить.
– Пойдет она, ждите! – рассмеялся граф. – Была Зина Хрустальная – станет графиня Воронина.
– Так не врут наши брехуны? Решились все-таки жениться?
Граф смущенно улыбнулся, махнул рукой.
– Что ж решаться, когда почти двадцать лет живем мужем и женой? Дети взрослые, старшего, Петра, в этом году буду определять в университет... Кем он там будет? Бастардом? Незаконнорожденным? На шестом десятке коней не меняют, новой жены мне уже не взять, а Зина... Видит бог, она достойна быть графиней.
– Что ж, дело. Зинка-то не приедет в хор похвастаться?
– Приедет, отчего же. Ждите после Покрова.
Граф простился коротким наклоном головы, заспешил к выходу. Старый цыган проводил его взглядом, закрыл глаза. На полу сеней кто-то из половых оставил керосиновую лампу. Она горела, чадя сизым дымом, и в ее свете лицо хоревода казалось совсем старым, усталым и измученным. С минуту он стоял не двигаясь; затем, прислонив гитару к стене, сделал несколько шагов по коридору, нащупал в темноте дверную ручку и вышел во двор. Сразу же у него захватило дух от холода, в лицо ударили колючие снежинки. Яков Васильев спустился с крыльца, разбил сапогом кромку льда у последней ступеньки, задрал голову. Над ним глухо шумели облетевшие вязы, из окон ресторана доносился гитарный гомон и высокий голос певицы: «Глядя на луч пурпурного заката...»
Хорош граф Воронин, нечего сказать. Не нравятся ему, видите ли, голоса. Будто не сам лучшую солистку из хора увез. Дело, конечно, давнее, семнадцать лет прошло, но все-таки лучше Зины Хрустальной никто жестоких романсов не пел. Хоревод прикрыл глаза, вспоминая лицо Зины: надменное, бледное, со слегка выступающим вперед подбородком. Повезло, стало быть, цыганке, наконец графиней заделается. Стоило мучиться с этим кобелем столько лет да еще детей ему рожать. Ишь, голосов ему в хоре нет...
Яков Васильев вдохнул морозного воздуха, потер кулаком лоб. Грустно подумал, что Воронин прав. Под сердцем засосала знакомая боль. Не прошедшая, не утихшая за годы боль, появляющаяся каждый раз, когда он вспоминал о дочери. О Насте, красавице Насте, единственной радости, убежавшей семнадцать лет назад из хора бог знает с кем. Яков Васильев закрыл глаза, вспоминая далекий 1879 год, первый год после Крымской войны, Москву, наводненную военными, полные рестораны, сверкающие Георгиевские кресты, эполеты, загорелые лица офицеров, героев Плевны и Шипки, и – Настю. Свою шестнадцатилетнюю Настю, звезду хора, певицу с таким голосом, какого Яков Васильев никогда не слыхал прежде и точно знал, что и не услышит до самой смерти.
Даже не будь Настька его дочерью, Яков Васильев не побоялся бы поклясться на иконе: такой красоты не родил свет. Тоненькая, смуглая, косы до колен, вьющаяся прядка у виска, брови вразлет, глаза – тьма-тьмущая без дна... И голос, голос... На всю Москву гремела слава Насти Васильевой, в ресторан Осетрова съезжались слушать «несравненную Настю» купцы и дворяне, шампанское лилось реками, деньги сыпались, как снег, у Якова Васильева валялся в ногах цвет московской знати, умоляя отдать дочь за любые деньги, но хоревод не соглашался. Не соглашался, не желая сознаваться, что ничего не может поделать с упрямой девкой. Настька и слышать не хотела о том, чтобы идти на содержание, сама никого не любила и, Яков Васильев знал это наверняка, не послушала бы даже отца. И хоревод отказывал раз за разом, утешая себя тем, что, пока Настька в хоре, с голоду они точно не умрут.
А потом появился князь Сбежнев. Отпрыск старинного, но обедневшего дворянского рода, герой войны, Георгиевский кавалер, синеглазый красавец с мягкой улыбкой. Он не имел и двадцати тысяч годового дохода, но, увидев в ресторане Настю, потерял голову. Начал он с того, что пообещал и Насте, и ее отцу, что на содержание не хочет взять певицу, а будет только официальное венчание. Настя колебалась, однако Яков Васильев не утратил здравого смысла и поставил еще одно условие: сорок тысяч. В те годы в Москве выкуп из хора цыганки составлял около десяти тысяч, так что сумму он назначил значительную. Более того, хоревод был уверен, что у князя ее нет, и потому рассчитывал получить хотя бы половину названного. Однако Сбежнев вдруг согласился легко, и Яков Васильев сразу пожалел, что не запросил пятьдесят. Чтобы собрать нужные деньги, князь уехал в родовое имение и вернулся через полгода, зимой, но с сорока тысячами и готовностью немедленно вести Настю к алтарю.
Ах, какое было время, какие люди! Какие гости приезжали в цыганский дом на грязной улочке Живодерке в Грузинах! Князь Сбежнев, целые вечера высиживающий на диване рядом с Настей и не выпускающий ее руки... Капитан Толчанинов, насмешник и циник, иронизирующий надо всем на свете, ухлопавший молодость на безнадежную любовь к цыганской певице Тане и после нее уж не сумевший ни увлечься, ни жениться... Пианист и композитор Петр Майданов, записывающий нотными закорючками сольные партии цыган, которому Настя с сестрами пела оперные партии... Юный корнет Никита Строганов, так же, как и другие, влюбленный в Настю, читающий ей Пушкина и Языкова... Студенты из доходного дома напротив, веселая и нищая братия, берущие у цыган уроки гитарной игры и взамен сочиняющие для хора слезные романсы... Кого только не было в цыганском доме, кто только не вертелся вокруг Насти, кто не лежал у ее ног... И быть бы Настьке княгиней, если бы не подвернулся тот самый проклятый конокрад.
И какой только черт принес в Москву этих таборных оборванцев – брата и сестру Смоляковых! Все из-за Митро, сердито подумал Яков Васильев, понапрасну, в общем-то, греша на племянника, который всю жизнь был у него вместо сына. Все Митро, чертов сын, – свою таборную родню пристроить захотел, даром что седьмая вода на киселе... «Послушай, Яков Васильич, как девочка поет, голос золотой, у хора доходы подскочат...» Яков Васильев хорошо помнил этих двадцатилетних двойняшек из табора, черных, курчавых, некрасивых. Особенно страшна была Варька с ее выпирающими вперед, как у выдры, зубами и маленьким скуластым личиком. Голос у нее, впрочем, в самом деле был прекрасный, густой и низкий, редкой силы. Ее брат Илья Смоляко [1]был конокрадом и кофарем, [2]его знали на всех конных ярмарках, и Яков Васильев мог бы поклясться, что ничего, кроме лошадей, парню в жизни не надо. Даже в Москву он приехал без всякой охоты, только ради сестры, потеряв надежду выдать Варьку замуж и рассчитывая пристроить ее хотя бы в хор. Варьку приняли без всяких сомнений, Илья тут же пристроился барышничать на Конной площади и, вероятно, крутил бы лошадям хвосты до конца дней своих, если бы Яков Васильев случайно не услышал, как брат и сестра поют вместе. Ему, опытному хореводу, хватило нескольких секунд, чтобы понять: лучшего тенора, чем у этого чумазого конного вора, не было ни у одного певца в Москве.
И ведь до последнего, паршивец подколесный, отказывался петь в хоре! Чего только не наслушался Митро, которому Яков Васильев поручил уговаривать Илью! И «дурацкое дело», и «не цыганское занятье», и «пусть вам Варька воет», и «пошел ты к черту, обратно в табор съеду»... И век бы им было не достучаться до его бестолковой таборной башки, если бы не Настька. Сам Яков Васильевич тогда не придал этому значения, но хоровые цыгане говорили в один голос: Илья Смоляко пропал в тот же миг, как увидел Настю.
Но Настька-то, Настька-то чего в нем нашла?! Ну да, высокий был, черт, стройный, сильный, жеребцов бешеных в поводу шутя удерживал. Но морда-то черная, как антрацит, а глазищи блестели, как у сатаны! Лохматый был, как леший, никакой гребень эту паклю просмоленную не брал, так Илья и стоял в хоре с вороньим гнездом на голове. И улыбки у него было не допроситься даже на публику, а лишнее слово чтоб вымолвил – и мечтать незачем! Чего, конечно, у Ильи было не отнять – так это голоса. Пел тот таборный каторжник так, что душа переворачивалась, и пьяные купцы ревели в ресторане от их с Варькой «Отойди, не гляди», как недоеные коровы. Уже через месяц в ресторан начали специально приезжать «на Смоляковых», и в ту зиму даже у графа Воронина не повернулся бы язык сказать, что в хоре нет голосов.
С Воронина, кстати, все и началось. С того самого зимнего вечера, когда Зина Хрустальная, еще просто содержанка графа, не вышла вместе с хором на ресторанную эстраду. Впрочем, у нее были серьезные причины: за день до этого Воронин, проживший с Зиной три года, объявил, что женится «для устройства дел» на дочери известного в Москве генерала Вишневецкого. Граф пытался поговорить с Зиной по-хорошему, но та послала любовника к черту, дала ему пощечину, вышвырнула на двор все воронинские подарки и, закрывшись в доме, выпила стакан керосина. Если бы не примчавшаяся на вопли Зинкиной горничной Настя, все могло бы кончиться похоронами. Но Настька выбила окно, забралась в него и, найдя звезду жестокого романса в почти бессознательном состоянии, насильно вызвала у нее рвоту. Затем влила в нее целую корчагу молока и ушла домой лишь тогда, когда стало ясно, что Зина не предпримет второй попытки. На следующий день Зина Хрустальная полностью взяла себя в руки и вечером даже пришла в ресторан вместе с цыганами, но, увидев в зале мрачного и пьяного графа Воронина, убежала через черное крыльцо домой. Яков Васильев не удерживал ее, но про себя подумал, что ничем хорошим этот вечер не кончится.
Так и вышло. Увидев, что любовницы нет среди цыган, Воронин тут же ушел из общего зала в отдельный кабинет и ближе к ночи позвал туда хор. Все цыгане чуть не умерли от удивления, когда граф посадил к себе на колени самую молоденькую из хоровых певиц – Гашку, заставил ее спеть весь репертуар Зины Хрустальной, а под конец объявил, что весь хор, кроме Гашки, свободен и может уходить. Цыгане забеспокоились: было недопустимым оставить один на один с гостем, пусть даже самым именитым, невинную девочку. Но Воронин выбросил на стол пачку червонцев, и Гашкин отец не выдержал. В артистической комнате цыгане, конечно, не утерпели и начали орать так, что затряслись стены. Настька первая, обозвав Гашкиного папашу «продажной шкурой», помчалась обратно в воронинский кабинет, за ней побежали остальные. Но даже Якову Васильеву не могло прийти в голову, что выкинет Воронин. Пьяный в дым граф не успел ничего сделать перепуганной и зареванной Гашке, но при виде вбежавшей в кабинет толпы цыган обозлился всерьез и вытащил пистолет.
До конца дней своих Якову Васильеву не забыть душного, темного кабинета с оплывшими в канделябрах свечами, сползшей на пол скатерти, белого лица и сумасшедших глаз графа Воронина, поднимающего пистолет и с кривой улыбкой повторяющего имя Зины, а перед ним – бледную Настю. Дочь оказалась прямо под стволом оружия, цыгане застыли от ужаса, и, видит бог, свершился бы тогда смертный грех, если бы не Илья Смоляко. Он один из всех не потерял присутствия духа и без лишних слов прыгнул на графа. Тот все-таки успел выстрелить, но пуля ушла в стену.
История эта просочилась в газеты, граф Воронин вынужден был разорвать помолвку с генеральской дочерью и скрыться в свое фамильное имение под Владимиром. С ним уехала и торжествующая Зина, так что, казалось бы, все были в выигрыше, но... Яков Васильев мог бы побожиться – именно в тот вечер Настька и «клюнула» на Илью. Как же – от пистолета спас, один из всего хора на сиятельного графа кинуться не побоялся. А что еще девчонке в шестнадцать лет надо? Ума-то нету...
Яков Васильев до сих пор понятия не имел, что произошло у Насти с князем Сбежневым, официально считавшимся ее женихом. Знал лишь то, что знали все цыгане: однажды Настя ушла из дома, вернулась поздним вечером, заплаканная и усталая, наотрез отказалась отвечать, где была, и на следующий день свалилась в нервной горячке. Вскоре цыгане узнали, что князь Сбежнев спешно, ни к кому не заехав и ни с кем не простившись, отбыл из Москвы. Сначала думали, что в последний момент князь одумался и не захотел связывать свою жизнь с хоровой цыганкой. И лишь потом Яков Васильев догадался, что Настька сама, не спросясь ни отца, ни хора, отказала князю. Отказала ради черного, некрасивого таборного парня.
И кому, кому могло тогда прийти в голову, что Настька сохнет по Илье! Кто бы мог подумать, что они уговорились сбежать вместе из Москвы! Но Илья застал Настю выходящей из ворот сбежневского особняка, куда она приходила, чтобы вернуть князю его слово и подарки. Нетрудно было понять, что парню пришло в голову: молодая цыганка, одна, ночью, вся в слезах, выходит из княжеского дома... Разумеется, Илья разом отказался от своего обещания жениться. А Настя была слишком горда, чтобы оправдываться после того, как ее в лицо назвали шлюхой. Видит бог, если бы Яков Васильев знал обо всем этом тогда, он бы не побоялся взять на душу грех и собственными руками задушил бы паршивца, осмелившегося оскорбить его дочь! Но он ничего не знал: Настя молчала, как немая. Молчал и Илья.
В скором времени поползли слухи о связи Смоляко с горничной купцов Баташевых с Большой Полянки. Слухи эти никого не удивили – Илье было двадцать лет, и он ходил в холостых. Но лишь полгода спустя выяснилось, что на самом деле Илья бегал по ночам не к горничной, а к самой купчихе Баташевой. Яков Васильев ума не мог приложить, как этому таборному вору удалось так здорово пристроиться. Но в тот момент ему было не до похождений Ильи, потому что в хоре появилась Данка. Данка – пятнадцатилетняя вдова из табора, в черном платке на роскошных волосах, с лицом красавицы-ведьмы, со взрослым, усталым и подозрительным взглядом слегка раскосых глаз.
Все-таки прав был Митро: самые лучшие голоса в таборах пропадают. Пропала бы и Данка, не найди ее на улице Настя и не приведи за руку в хор. Еще тогда Якова Васильева насторожило то обстоятельство, что молодая вдова кочует одна, а не с родней бывшего мужа. Но он постарался не думать об этом, услышав великолепный голос таборной певицы и поняв, что в хоре появилась достойная замена Насти. К тому же Данка сумела обзавестись новым супругом буквально на следующий день после появления в хоре – мальчишка-гитарист Кузьма, увидев ее, немедленно сошел с ума, они переспали вместе ночь, а наутро Данка сменила вдовий платок на новый, шелковый, нарядного голубого цвета. Эта поспешность тоже не понравилась Якову Васильеву, но откуда ж ему было знать все подробности...
Как выяснилось, Данка и Смоляковы были из одного табора, но почему-то Илья и Варька промолчали, и подробности Данкиного прошлого выяснились гораздо позже. Оказалось, что никакой вдовой она не была, а была «порченой» невестой, у которой рубашка после брачной ночи осталась белее снега. Разумеется, молодой муж отказался от потаскухи-жены. Разумеется, отказались от нее и родители, которым после такого позора и думать было нельзя о том, чтобы пристроить в этом же таборе остальных дочерей. Разумеется, цыгане перестали даже смотреть в сторону Данки. Пятнадцатилетняя девочка, избитая и опозоренная, за одну ночь оказалась одна на всем свете. Ей оставалось только уйти из табора неведомо куда. Что она и сделала. Полгода Данка бродила по городам и деревням, пробавляясь гаданием и пением на площадях. Притворялась вдовой, чтобы встречающиеся с ней цыгане не задавали лишних вопросов. А затем, оказавшись в Москве и встретившись на улице с Настей, рассудила, что в городе, где ее никто не знает, можно потихоньку начать новую жизнь. Как же Данке было угадать, что вечером того же дня она столкнется нос к носу с Ильей – лучшим другом своего несостоявшегося мужа! Яков Васильев не знал, что за разговор был у Данки с Ильей и почему последний никому не рассказал о Данкином позоре. Но факт оставался фактом: Илья промолчал, а уже на другой день у Данки был новый муж. В общем, через неделю она пела сольные партии в хоре.
Но если баба родилась шлюхой – шлюхой она останется до конца дней своих. Данка ушла от Кузьмы уже через полгода. Ушла к гитаристу из знаменитого ресторана «Яр» – к Федьке Соколову. С Федькой она тоже не зажилась, прыгнув на содержание к какому-то графу, после графа сошлась с купцом Курицыным, за ним последовал генерал немец Канцельберг, потом был еще кто-то... Разумеется, бабу можно понять: родни у Данки не было никакой, и ей приходилось самой заботиться о себе. Понимала же, что через десять-пятнадцать лет, когда красота подвянет, доходы ее в хоре резко сократятся, а потом и вовсе сойдут на нет. Единственное, о чем жалел Яков Васильев, так это о своем гитаристе Кузьме. Восемнадцатилетний мальчик, безумно влюбленный в жену, так и не смог оправиться после ее ухода – начал пить, сперва понемногу, а потом все больше и чаще. Через год начались запои, а через пять лет от Кузьмы в хоре уже не было никакого толку...
За спиной Якова Васильева послышался скрип двери. Хоревод, не поворачиваясь, спросил:
– Кто здесь?
Неслышно подошел и встал рядом племянник Митро, правая рука хоревода, красивый сорокапятилетний цыган со смуглым широкоскулым лицом и узкими, по-татарски разрезанными глазами.
– Тебе чего? – сухо спросил хоревод.
– Начинать пора, Яков Васильич.
– Начинайте.
– А ты что же?..
– Без меня с хором не справишься? Да не забудь, пусть твоя Маргитка спляшет, за нее купец Болотников заплатил.
Митро согласно кивнул, пошел обратно. Яков Васильев, обернувшись, проводил его взглядом.
...Слава богу, хоть у этого все хорошо сложилось. А могло бы тоже не ладно быть. До сих пор Яков Васильев благодарил бога за судьбу любимого племянника, почти сына, надежного помощника, которому старый хоревод рассчитывал передать хор. Митро, которого цыгане звали Арапо [3]за скуластое лицо и восточный разрез глаз, был старшим сыном сестры Якова Васильева Марьи. Марья Васильевна осталась вдовой, успев родить сына и шестерых дочерей, и воспитанием этой оравы занимался Яков Васильев, у которого, кроме Насти, детей не было.
Митро подавал большие надежды, рано начал играть на гитаре, в хоре стал прекрасным басом, к двадцати годам женился на цыганке из тульского хора, а к двадцати двум жены лишился. Ольга, всем казавшаяся хорошей и верной супругой, выкинула невероятный финт – сбежала от мужа к купцу Рябову, зеленоглазому богатырю, удивлявшему своими куролесничаньями всю Москву. Ольга прожила с Рябовым семь лет, родила ему двух детей, которые, впрочем, умерли во младенчестве, и, кажется, по-настоящему его любила. Митро же, несмотря на уговоры матери и Якова Васильева, жениться во второй раз не захотел, болтался по публичным домам и на все вопросы цыган о том, когда же наконец он решит обзавестись новой семьей, мрачно молчал. Ему шел уже двадцать восьмой год, когда по Москве прошла весть о внезапной смерти купца Рябова. Тут же сбежались наследники огромного рябовского состояния, и Ольгу, незаконную жену, несмотря на ее беременность, попросту выкинули за дверь.
Идти Ольге было некуда, и она вернулась на Живодерку. В дом Митро блудная супруга прийти не решилась и остановилась по соседству, у русской хозяйки, где снимали полдома Илья и Варька Смоляковы. В тот же вечер Митро пришел туда, предложив Ольге забыть все и жить с ним дальше, – тем более что они по-прежнему оставались венчанными мужем и женой, – но та решительно отказалась. Через месяц, на Масленицу, у Ольги начались роды. Она мучилась целый день, и все это время Смоляковы, Митро и прибежавшая вместе с ним Настя сидели в соседней комнате, боясь выговорить лишнее слово: по старинному поверью, ненужная болтовня могла помешать роженице. Но старательное молчание не помогло: к вечеру Ольга, разрешившись девочкой, умерла. За новорожденной пришла Марья Васильевна: Митро велел забрать девчонку.
Марья Васильевна не была в восторге от такого решения сына, но спорить не стала. Незаконнорожденная дочь хоровой певицы и купца Рябова осталась в цыганском доме на Живодерке. Сейчас этой девке уже восемнадцатый пошел. Зеленоглазая – в отца, фигуристая – в мать, язык, как помело, – невесть в кого, и мозгов нету никаких. Первая плясунья в хоре, всю Москву с ума сводит. Зовут не по-русски, но красиво, – Маргитка. Это имя ей дала вторая жена Митро, цыганка-болгарка. Митро взял ее весной того же года, и не без помощи Ильи Смоляко.
Сейчас Яков Васильев уже не помнил, кто кого потащил в табор болгар: [4]Митро Илью или наоборот. Но теплым весенним днем оба парня оказались в остановившемся за Останкином богатом таборе болгар, и там с Митро случился, по словам цыган, «удар грома небесного»: он увидел Илонку – босоногую девчонку-котлярку, которой едва исполнилось четырнадцать. В тот же день выяснилось, что сосватать и взять Илонку замуж «по-честному» нельзя: у нее уже имелся жених, заплативший за будущую жену, как было заведено у котляр, золотыми монетами. Митро приуныл, но Илья быстро нашел выход из положения и заявил, что проще всего будет чужую невесту украсть. Той же ночью парни, приведя с собой лошадей, залегли в кустах возле табора. Илонка, с которой успели договориться, дождалась, пока вся семья заснет, выскользнула из шатра и через минуту сидела в седле вместе с Митро. Погони не было, и на следующее утро сияющий Митро уже показывал растерянной матери и Якову Васильеву молодую жену.
А вечером в дом на Живодерке явились разгневанные болгары. Яков Васильев всерьез опасался, что будет скандал или, того хуже, драка. Но родители Илонки, увидев счастливую дочь в тяжелом золотом ожерелье, слегка успокоились и через час уже мирно сидели за столом с новой родней. Болгары оказались очень состоятельными людьми, имели собственный дом и лошадиную торговлю в Кишиневе, в Москву приехали на конную ярмарку, а к осени рассчитывали вернуться в Бессарабию. Все это очень заинтересовало Якова Васильева, когда он увидел, что старший сын котляр глаз не сводит с его Насти. Родители парня тоже заметили взгляды сына, и поздним вечером Яков Васильев уже держал совет с сестрой. Котляры давали за Настю пять тысяч. Разумеется, это не могло восполнить потерю сорока тысяч, которые мог бы заплатить князь Сбежнев, но Яков Васильев справедливо рассудил, что пять тысяч лучше, чем вовсе ничего, что котляры – настоящие богачи, что Кишинев тоже большой город, и что Насте там будет хорошо. Оставалось малое – уговорить невесту. Яков Васильев поручил это сестре, но, к огромному изумлению обоих, никаких уговоров не понадобилось: Настя согласилась, едва дослушав осторожную речь тети. Годы спустя Яков Васильев понял: дочери было все равно, за кого выходить, лишь бы – прочь из Москвы, от Ильи, от слез в подушку, от съедающей изнутри боли.
Примерно в те же дни, когда решался вопрос о свадьбе Насти с котляром, Илья Смоляко наконец доигрался. Допрыгался, проклятый кобель, добегался по ночам к мужней купчихе, долазился в потемках по чужим дворам. Муж Баташевой, который с зимы был в отъезде по делам, вернулся домой как раз в тот момент, когда горничная Лизаветы Матвеевны вела Илью к своей барыне. К счастью, Илью поймали не в спальне Баташевой, а во дворе, где приказчики купца разгружали подводы, и Илью приняли за вора. Началось побоище, и быть бы Смоляко если не в могиле, то наверняка в квартальной части, не подоспей на выручку цыгане во главе с Митро. Парни знали, что купец Баташев вернулся в Москву, и целый день пробегали по городу в поисках Ильи. Не найдя его нигде, побежали на Полянку, к баташевскому дому, и успели прямо к драке. Битва закончилась победой цыган, которые, разгромив приказчиков, еще и умудрились утащить с собой избитого до потери сознания Илью. Три дня он провалялся в доме цыган-барышников в Таганке, сестра Варька безотлучно была с ним, а на четвертый день пришла и Настя. Больше ни ее, ни Смоляковых никто не видел в Москве.
Даже сейчас, семнадцать лет спустя, Яков Васильев не мог понять одного. Ведь все цыгане, все до единого, знали, что Илья бегает к любовнице. А раз знали все, значит, знала и Настя. И как же, черт возьми, она смогла прийти к нему после такого?! Как смогла простить ему оскорбление на пороге дома Сбежнева, как могла убежать с ним в табор от жениха, от уже слаженной свадьбы, от хора, от славы, гремящей на всю Москву? Убежать без копейки, без единой тряпки – в чем была? Чем ее взял этот таборный голодранец без стыда и совести, за что Настька так любила его?
Разумеется, опять грянул скандал, который подняли возмущенные котляры. Разумеется, Якову Васильеву пришлось выслушать кучу неприятных слов, вернуть уже полученные пять тысяч и все силы направить на то, чтобы сохранить приличные отношения с болгарской семьей: все-таки после свадьбы Митро и Илонки они были родственниками. Разумеется, доходы хора, лишившегося в одночасье почти всех ведущих солистов, упали чуть ли не втрое – слава богу, хоть эта шлюха Данка тогда еще пела у них да Илонка оказалась весьма недурной плясуньей. Разумеется, ему, хореводу, нужно было ломать голову над тем, как все это исправить. Но сильнее всего грызла смертная обида на дочь. Ведь, господь свидетель, если бы Настька пришла к нему и сказала прямо, что хочет выйти замуж за Илью, – разве Яков Васильев смог бы помешать ей? Разве он хотел чего-нибудь, кроме Настиного счастья? Наоборот – может, это бы было и к лучшему. Ведь тогда и Илья, и Варька остались бы в хоре, все-таки убытка меньше. Но Настя решила по-своему, и Яков Васильев едва сумел тогда сдержаться и не проклясть дочь.
Не проклял. И не дал снять ее портрет в большой зале дома, написанный студентом-художником. Но больше никто из цыган не осмеливался произнести при Якове Васильеве имя его дочери. Он дал понять всем: для него Настя умерла.
Годы шли. В Москву приезжали цыгане из других городов, почти у каждого хорового была таборная родня, и волей-неволей Якову Васильеву приходилось слышать известия о дочери. Он знал, что Настя осталась с Ильей, что жила с ним сначала в таборе, а потом – во всех городах, куда того загоняла лошадиная торговля, что, слава богу, конокрадство он бросил, что у них один за другим рождаются дети... Лет пять спустя в Москве появилась сестра Ильи Варька – повзрослевшая, неожиданно похорошевшая, во вдовьем платке. Оказалось, что Илья все-таки сумел пристроить ее замуж за своего друга Мотьку – того самого неполучившегося мужа Данки. Парню, потерявшему красавицу-невесту, видимо, показалось, что некрасивая жена уж точно его не опозорит. Расчет был верен, но прожила замужней Варька недолго: год спустя Мотьку поймали крестьяне на краже лошадей и забили палками до смерти. Оказавшись вдовой, Варька не осталась, как ожидалось, с семьей мужа и вернулась к брату. Получив вместе со вдовьим платком свободу, она умудрялась и поездить с табором, где у нее оставалась куча родни, и пожить с братом, и наведаться в московский хор, где ее всегда принимали с радостью: голос Варьки с годами становился только лучше. Именно от нее Яков Васильев узнавал новости о дочери. Не сам, конечно: посылал к Варьке Митро, хотя и знал, что никого этим не обманет. Варька рассказывала, что живут Настя и Илья хорошо, что Илья не обижает жену, что любит детей... Знал Яков Васильев и о главном несчастье Насти: ее старшая дочь ослепла двух лет от роду. И, словно нарочно, выросла красавицей с чудесным голосом. Вот бы взглянуть, против воли размечтался старый хоревод. И на Настьку тоже. Хоть одним глазком бы посмотреть....
Из трактира донеслись аплодисменты, взрыв восхищенных возгласов. Яков Васильев догадался: отплясала Маргитка. Он посмотрел вниз, себе под ноги. Невидимая лужа у крыльца чуть поблескивала, снова затягиваясь морозной коркой. Над крышей трактира светились ледяные ноябрьские звезды. Месяц садился за Страстной монастырь. Хоревод передернул плечами, засунул руки под мышки.
Сейчас Настьке тридцать три. И дети ее уже взрослые. А значит, того гляди посыпятся внуки, которые ему будут уже правнуками. И права, сто раз права сестра Машка: всему свое время. Может быть, он, Яков Васильев, и не святой. Но и не такой грешник, чтобы помирать в одиночестве, не видя дочери и ее детей. И даже этого зятя-кобеля, чтоб его разорвало... Что толку врать самому себе – дня не проходит, чтобы он не подумал о них. Дня не проходит – все семнадцать лет. И, черт возьми, голоса в хор где-то же надо брать?!
За спиной снова скрипнула дверь. Яков Васильев подумал – опять Митро. Но шаги были легче, и он, не оборачиваясь, спросил:
– Маша?
– Одурел ты, старый пень? – Сестра подошла, встала рядом, кутаясь в шаль. – Час уже стоишь на холоду. Выстудишься насквозь, помрешь – хорони тебя, мучайся, деньги трать...
– Ничего, – скупо усмехнулся Яков. – Зато уж раз и навсегда.
– Типун тебе на язык!
Помолчали. Из трактира снова донеслась гитарная музыка, голос Митро затянул: «Не шумите, ветры буйные».
– Я слышал, Варька приехала?
– Какая Варька, Яша?
– А то не знаешь? Смолякоскири... [5]
– Ну, приехала. У Конаковых остановилась.
– Сходи к ней завтра. Пусть придет. Надо Настьку в Москву.
Снова молчание. Глядя в землю, Яков слушал взволнованное дыхание сестры.
– Яшка, ты... это точно решил?
– А разве я когда словами бросался?
Он ожидал радостного возгласа, слез, изумления. Но Марья Васильевна лишь нашла в темноте его холодную руку, поцеловала ее и без единого слова вернулась в трактир. Яков Васильев подождал, пока тяжелая дверь закроется за ней, провел ладонью по волосам, стряхивая с них иней, и пошел следом за сестрой.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |