"Солнечная Сторона" - читать интересную книгу автора (Эс Сергей)
XVII. Город Солнца
…Широкая ночная площадь вновь открылась перед Николой. Площадь была полна людей. Они шумели, хохотали, кричали.
Никола огляделся. Здания, обрамляющие площадь, смотрели пустыми, черными окнами. Но это не было площадью перед институтом, это было что-то совершенно другое.
Люди, собравшиеся вокруг, были охвачены явно нездоровым возбуждением. С разных сторон несло перегаром. Все были обращены в одну сторону. Там, лицом к людям, возвышаясь над толпой, стоял какой-то памятник.
Никола еще раз удивленно огляделся. Вдруг толпа заревела. Откуда-то со стороны появился автокран.
Никола вдруг вспомнил, что где-то когда-то он все это уже видел.
Да! Точно! Он сидел дома у телевизора и смотрел, как на Лубянке автокраном снимали памятник Дзержинскому.
Николу словно обдало жаром. Это же та самая ситуация! Теперь она почему-то повторяется вновь, но повторяется вживую, прямо на его глазах.
Тогда у телевизора тяжелая боль сдавила его. Под свист и улюлюканье сносили памятник. Это был памятник человеку с холодным умом и горячим сердцем, человеку, который, сжигая свою жизнь, закладывал жизнь другую — новую жизнь новой страны. Для Николы это была жизнь, имеющая ясное и понятное назначение, чистое и светлое будущее. Каким-то необъяснимым образом она воплощалась в этом человеке, в этом изваянии. Теперь его сносили, а, значит, и сносилось, рушилось все, что с этим именем было связано, все, что с этим именем создавалось, строилось, созидалось. Все это ломалось, и в Истории образовывался провал, она вновь откатывалась назад. А вместе с Историей рушилось Будущее, то самое Будущее, которое, собственно, и составляло существо Николы — его самого, его внутренний и внешний мир, его близкие и далекие помыслы, да и смысл его жизни, вообще.
Тогда глаза защипали слезы. Сидевшая рядом за телевизором жена удивленно спросила, что с ним.
Никола в ту минуту промолчал. Ему непросто было бы объяснить это. Непросто объяснить неведомое, подспудное предчувствие. Неясным образом ему тогда увиделась тяжелая будущность. Вместе с попираемой Историей обваливалось все, что стояло впереди. У него рос сын, его будущее теперь тоже неотвратимо разрушалось. В не начавшейся еще жизни сына теперь просматривался жестокий крах… А где-то еще дальше — далеко-далеко впереди, за неясной чередой времен рушился город Солнца.
Теперь он видел эту сцену не по телевизору, а был здесь сам, среди беснующейся толпы, среди отморозков. Впрочем, нет, вокруг были не одни отморозки. Были и те, кто просто не осознавал происходящее. Были те, кто со слепой наивностью отдавался злой, неведомо откуда выползшей стихии. Попадались Николе и встревоженные взгляды. Но не они определяли настрой толпы. Это было вакхическое торжество тех, кто не знал никаких идеалов и жизненных устремлений, кто во имя собственной свободы наживаться и воровать начал топтать все святое и чистое.
Теперь, стоя сам на этой площади, глядя на приближающийся автокран, Никола уже не задавался вопросами, что с ним происходит, где он и почему он в яви видит то, что когда-то уже наблюдал по телеящику, почему он неведомым образом оказался отброшенным на десять лет назад, отброшенным именно сюда, на площадь, далекую от его дома. Много раз в нелегких раздумьях он видел эту площадь, много раз видел себя здесь, вернее, много раз жалел, что не оказался в тот момент здесь. И вот теперь он на этой площади, ему теперь было совершенно ясно, зачем он здесь.
Он двинулся через толпу к памятнику. Его толкали локтями, хлопали по плечу, один пьяный толстяк предложил ему пиво.
Никола оглянулся на толстяка. Его лицо показалось Николе знакомым. Ну, конечно же! Это лицо он будет потом много раз видеть в рекламе. Это лицо будет спаивать людей, среди которых окажется и сам Никола.
Никола, размахнувшись по-мужицки, двинул кулаком в мягкую харю. Толстяк повалился в толпу. Никола стал пробираться дальше.
Наконец, он оказался у постамента и взглянул наверх.
Железный Феликс, не обращая внимания на беснование толпы, смотрел вперед.
Тут же рядом оказался автокран и подъемник с люлькой. Один человек полез в люльку, чтобы, поднявшись в ней, обвязать памятник стропами.
«Ну уж, нет!» — процедил сквозь зубы Никола. Пробравшись к люльке, он вцепился в еще не успевшего залезть в нее человека и дернул его назад. Тот, потеряв от неожиданности равновесие, повалился на землю.
Толпа ахнула. Прошло несколько секунд замешательства
— Гэбист!!! — вдруг завопил кто-то.
С разных сторон из толпы на Николу выдвинулись ревущие люди. В него полетели бутылки и железные прутья. Несколько рук схватилось за него.
Никола вцепился обеими руками в люльку, пытаясь удержаться. Какое-то время ему это удавалось, но вскоре он оказался на земле. На него посыпались удары и пинки. Кто-то кричал: «Не надо! Не надо!» Но те, кто сейчас охаживал его пинками, действовали с тупой методичностью, будто заранее были подготовлены к этому.
— Гады! — прохрипел им Никола, теряя сознание.
На него обрушилась черная пустота. Неожиданно в образовавшейся черной пустоте будто пролетела надпись «Теодо…» и вспыхнул, затмевая все, большой огненный шар. Он начал быстро надвигаться на Николу.
Николе показалось, что промелькнуло всего одно мгновение, но когда он очнулся, он понял, что времени прошло больше.
Он все так же лежал на земле, вокруг него все так же толпились люди, но на него уже не обращали внимания, если не считать двух человек, склонившихся над ним. Немного в стороне висел подвешенный на стропах Феликс. Толпа ревела.
Превозмогая боль, Никола поднялся. Один глаз ничего не видел.
С трудом, расталкивая толпу, Никола пробрался к автокрану.
Еще немного и он поднялся к кабине. Сидевший в ней человек двигал рычаги. Ухватившись за его куртку, Никола с силой рванул его вниз. Крановщик полетел из кабины. Из его куртки посыпались доллары.
— Иуда! — крикнул ему вслед Никола.
Теперь он оказался на сидении за рычагами.
Никола взглянул на висящего Феликса.
— Подожди, Эдмундович! — сказал он. — Сейчас вернем тебя на место.
Однако, какие рычаги двигать, он не знал.
По толпе опять прокатилось замешательство. Занятые висящим памятником люди не сразу заметили произошедшие в кабине автокрана события.
— Эх, Эдмундович! — сказал Никола, глядя на рычаги. — Придется все их перепробовать.
Стекающая по лбу кровь заслепила единственный видящий глаз. Вытирая одной рукой лицо, он двинул другой первый попавшийся рычаг.
Стрела качнулась вниз. Стоящие под висящим памятником люди завизжали.
— Ага! — крикнул Никола. — Обосра. ись!
Он дернул другой рычаг.
Башня автокрана начала крутиться вокруг оси.
Внизу истошно завопили. Толпа бросилась врассыпную.
— Не нравится, гады! — закричал Никола толпе и, обернувшись к раскачивающемуся на стропах Феликсу, крикнул: «Повоюй еще раз, Эдмундович! Разгони мразь!»
Толпа на какое-то время замерла в шоке.
Никола-Никола! Оторвись скорее от рычагов… или пригни скорее спину. Черное перекрестие прицела уже скользит по ней…
… Что-то сильно обожгло спину Николы. Обернувшись, он увидел на конце площади стрелка.
Темные стены домов закружились у него перед глазами…
… Обернувшись, Никола увидел на конце площади стрелка.
Подвешенный памятник как-то странно — медленно-медленно — поплыл в воздухе. Медленно покачиваясь, он начал медленно раздвигать толпу.
… Что-то сильно обожгло спину Николы. Обернувшись, Никола увидел на конце площади стрелка…
Эх, Никола-Никола…!
Сидящие в это время у телевизоров миллионы людей наблюдали вываливающегося из кабины автокрана окровавленного человека и разметавшего черную толпу Железного Феликса. Малая крупинка большой боли прорвалась сквозь хаос телеэфира к миллионам и миллионам людей и встряхнула обволакивающий их души туман. Маленькой мозаичинкой она прорвалась сквозь толщу небытия и, встроившись в едва заметное свободное пространство, сцепила собой огромный колышущийся мир.
Доводилось ли вам видеть, как разрушается небьющееся стекло. Его можно чем угодно бить, кидать оземь, даже прыгать на нем. Однако этим вы ничего не добьетесь. Стеклянный пласт выдержит все. Но есть на этом пласте одна маленькая точка. Она помечена едва заметным крестиком. Этот крестик означает смертельно уязвимое место этого пласта. По этому крестику достаточно стукнуть невесомой булавкой, и огромный неподдающийся лист начнет рассыпаться. От крестика побегут во все стороны многочисленные трещинки. На ваших глазах большой пласт превратится в мелкую крошку. А вот теперь представьте себе этот же процесс, но заснятый видеокамерой и прокручиваемый в обратном направлении: мелкая разрозненная крошка укрупняется в сложную мозаичную картину, которая вдруг начинает схватываться, границы между зернами объединяются в многочисленные извилистые ниточки, которые, сцепляясь меж собой, начинают стремительно сбегаться к единой точке, последние запоздалые извилинки, наконец, схлопываются в ней, и россыпь превращается в монолит.
Примерно то же самое произошло с миром, который до этого зыбким миражом колыхался где-то за непрозрачной перегородкой небытия. Мир грез, фантазий, человеческих надежд и мечтаний вдруг сцепился вокруг этой точки, выровнялся и превратился в монолит, обретя реальность.
Огромное колесо Истории качнулось и, отбросив в сторону серую тень, покатилось новой дорогой.
Будет ли кто-нибудь из этого нового мира знать имя человека, неизвестно откуда взявшегося на этой площади? В хрониках он останется неопознанным человеком, нелепо погибшим в дни большой смуты. Будет ли новый мир понимать значение его трагической смерти?…
Я прочитал последнюю фразу Руслана и ненадолго отвлекся от чтения.
Действительно, тот случай, который произошел на Лубянке, широко известен. Тело человека, попытавшегося воспрепятствовать демонтажу памятника, так и не смогли опознать. И используя этот факт, Руслан сочинил вот такую фантастическую версию — версию о том, как безрассудный порыв одного маленького человека помог нашему (
«Никола-Никола! — подумалось мне. — Маленький, в общем-то, человечек. Маленькие и неприметные дела были за тобой до сих пор. В твоей груди стучало маленькое сердце, но большой была боль, которая горела в нем. Мир (
…Никола-Никола! А ведь ты хотел вернуться в тот теневой мир к своему сыну. Увы! Теперь твоему сыну придется самому преодолевать нарастающие как ком трудности и самому освобождаться от дурмана тотального сна.
Никола-Никола! И этот — светлый мир — побежит своей дорогой без тебя. Без тебя свершится твое великое открытие. Другой человек рассчитает и укротит грозные молнии. Другое имя будет вписано в учебники…
Никола-Никола! Похоже, ошибался я, говоря, что ты не боец. Так бесстрашно подняться против разнузданной толпы…
Впрочем, нет. Ты и на самом деле не боец. Чтобы так подняться, не обязательно быть бойцом. Ты — терпеливый тягловый народ. Ты пашешь, тащишь на себе невзгоды, ты сгибаешься под ударами, но, когда твоему терпению приходит конец, когда чаша твоей боли переполняется, ты становишься страшен в своем гневе!.. Ты взрываешься на бунт, тот самый бунт — бессмысленный и… (помните эту фразу?) беспощадный, и ничто не может устоять перед твоей неимоверной силой. От твоего неодолимого напора сдвигается огромное Колесо Истории…
Мои быстрые пальцы зависают над клавиатурой. Я надолго задумываюсь.
Я вдруг обнаруживаю, что акцент повести сместился с Дара и Юнны на Николу?
Но видит Бог, не нарочно я это сделал. Да и не только Бог, но и читатель может подтвердить, что я честно пытался выстраивать главную сюжетную линию вокруг моих солнечных героев. Я, насколько мог, вплетал ее в ткань руслановской антиутопии. Ведь мне, действительно, изначально хотелось написать чистую, светлую фантастику, хотелось окунуться в подзабытые традиции доброты и наивности повестей и романов середины двадцатого века. Хотелось, очень хотелось высокого полета, дерзких и смелых мыслей, хотелось помечтать так, как мечталось мальчишкам и девчонкам того времени. Я даже пошел на такой рискованный шаг, как утяжеление повествования разными гипотезами. Ведь именно так грубовато писали первые фантасты, вкладывая научные догадки и даже целые теории в художественную ткань. Захотелось поподражать им. Не стал я править и некоторые прямолинейности в тексте. Ведь это все было, реально существовало в головах тех, кто писал и читал фантастику. Так просто, бесхитростно и схематично виделось людям далекое будущее. Люди вообще познавали будущее только через фантастику. Других учебников по будущему не существовало. Именно из фантазий людей представления о будущем проникали в теории, а не наоборот. Отсюда и схематичность, стереотипность этих представлений, но именно так виделось все это читателям тех лет. Бывало, мои друзья и знакомые, читавшие мои черновики, советовали мне почистить одно, обработать другое, вообще убрать третье, но мне не хотелось этого делать. Мне хотелось, чтобы моя повесть запечатлела в себе неотшлифованный язык и неуклюжие обороты тех страстных любителей фантастики, которые захватывались ею настолько, что сами загорались что-нибудь сесть и написать. И пусть у подавляющего большинства из них ничего из этого не выходило, пусть все написанное шло «в стол», но, тем не менее, фантастика вселялась в их души, влекла в неведомое, определяла направление их жизненного вектора. Ведь это самое главное, что делала фантастика — желание творить, желание выдумывать, желание сочинять то далекое будущее, которое людям совсем было не ведомо.
Зачем я это делал? Зачем откатился на десятилетия назад? Трудно сказать. Однако попытаюсь объяснить.
Началось это с того, что с некоторого времени я стал подспудно ощущать какие-то странные вещи. Будто где-то — неясно где, в каком-то другом — неясно каком — мире обрушилось все светлое и чистое, будто где-то потерялось будущее. Непонятная темнота этого неведомого мира постепенно стала добираться до меня. Она являлась ко мне во снах, слышалась в далеких тревожных отголосках. Она начала точить мою душу. И вот, наконец, эта неясная тревога оформилась в некий образ — будто это есть какой-то мой неведомый второй «я», вернее сказать, будто где-то, в этом самом неведомом мире, есть мой второй «я», и то болезненное беспокойство, которое бередило мою душу, является его самой настоящей, реальной болью. Я стал вслушиваться в себя, задумываться о своем неведомом «двойнике». Я не знал, где он может быть, но мысленно уносился к нему в его неведомое «нечто», мысленно общался с ним. Я не знал, существует ли он реально, но мне захотелось протянуть ему руку помощи, захотелось дать ему глоток свежего воздуха. Мне подумалось, что если его душа проникает в мою, то и моя, наверное, проникает в его. Может быть, ему иногда по ночам, когда не спится, видится другой мир — наш мир. Может, наше чистое и светлое бьется в его душе с подступающей отовсюду темнотой. И я решил помочь ему. Но как это сделать? Как войти в его душу? Я обратился к фантастике. Ведь это было то общее, что нас объединяло. Если он был моим вторым «я», то мы с ним в юности зачитывались одними и теми же книгами, и это и есть то, что поможет ему в его нелегкой битве. Я обратился к добрым и светлым традициям советских фантастов середины двадцатого века. Это должно было стать столь надобным ему лучиком света в его царстве мрака.
Я стал писать фантастику. Стал писать о том светлом солнечном будущем, которое потерялось в мире моего «двойника». Однако бьющийся в темноте мир, который сумрачным фоном стоял за спиной моего второго «я», капля за каплей, образ за образом проникал и на мои страницы. И не просто проникал, он заметно влиял на повествование. В итоге, первая книга заканчивалась на ноте какой-то неопределенности. Далекое солнечное будущее выскальзывало из моих рук и становилось смутным и неотчетливым. Второй книгой я постарался копнуть эту болевую точку, постарался выправить ситуацию, но она опять оставляла ощущение недосказанности. И тут появилось неожиданное объяснение Руслана. Для меня это была находка. Руслан помог мне дать ответы на многие вопросы, помог многое расставить по своим местам. Он прямо показал то, что я подсознательно ощущал, он ясно обозначил источник моей тревоги, моих неспокойных снов, показал, что где-то есть скрытый за толщей небытия, бьющийся в агонии другой мир. Я принял его идею о существовании другого мира сразу с первых слов. Видимо, накопившаяся во мне тревога моего второго «я» уже подготовила меня к этому. Не знаю, на самом ли деле Руслан ощущал тот мир так, как ощущал его я, слышались ли ему во снах смутные отголоски того мира, но суть моих ощущений оказалась ухваченной неимоверно точно. Впоследствии, читая его записки, я принял и другую его идею — тот мир потому так болезненно и настойчиво проникает сквозь толщу небытия в наши души, что он неумолимо растворяется, погибает. Он взывает о помощи.
Я понял, что, обращаясь к своему неведомому «двойнику», нельзя писать только о далеком светлом будущем. Это будет означать уход в сторону, это будет означать, что я бросаю на произвол судьбы своего второго «я», да и бросаю его мир, вообще.
А по большому счету, если это сделать, то пустыми окажутся все мои старания создать в своих фантазиях далекий город Солнца. Он может не состояться, причем не будет не только того солнечного города, который жил на моих страницах, но и того далекого… настоящего —
А ведь у меня к тому времени уже родился новый яркий эпизод в продолжение далекой солнечной истории. В нем Дар и Юнна, спасшись от хаоса солнечной бури, удаляются от светила на транспортнике…
…Прямо под ними на поверхность Солнца выходит огромнейший Гиг. Дар, Юнна и другие члены экспедиции, не отрываясь, смотрят на большой экран, а там разворачивается грандиознейшее зрелище. Ведь там и впрямь вышел на поверхность самый настоящий осколок солнечного ядра. Экран просто помутнел от ослепительнейшего света. Но мало того, Гиг, не успев разрушиться, был буквально «выплюнут» из солнечных недр. Нет, не права оказалась Юнна. Такое событие происходит на Солнце не раз в тысячу лет. Такого рода зрелище вообще может случаться в истории звезды всего один лишь раз. Для Солнца, быть может, это второе такое событие за все время его существования. Когда-то, миллиарды лет назад, оно точно также «выплюнуло» из себя огромный сгусток плотной огненной массы. Тот понесся в пространство, обрастая ослепительными струями огня и раскидывая на миллионы километров в стороны раскаленные и непрерывно взрывающиеся клочья. Удаляясь от Солнца, огненное вещество постепенно остывало, собираясь в бесформенные кипящие комки. Они закружили вокруг светила нестройным хороводом, все дальше и дальше рассыпаясь на отдельные клочья. Прошли долгие-долгие космические годы, пока вновь образовавшиеся сгустки под действием собственной силы тяжести не приняли почти правильные шарообразные формы, сформировав у Солнца планетную систему…
В этот раз отделившийся от светила сгусток вещества был не настолько велик, но его было достаточно, чтобы со временем он превратился в еще одну небольшую планету. Земляне, конечно, этого не знали. Они с ужасом наблюдали за тем, как Гиг, отделившись от Солнца, необозримо громадным ослепительным куском двинулся вслед за их кораблем. Вскоре он без труда настиг землян. Однако, на их счастье, грависил выдержал его поле. Ведь они уже были в свободном пространстве, где плотность окружающего гравитационного поля была многократно меньше, чем на Солнце. Гравитации Гига было достаточно, чтобы поддерживать грависиловый генератор в рабочем состоянии, но его уже не хватало, чтобы разрушить защищающий людей механизм. Люди оказались на поверхности нового небесного тела, непрерывно извергающего массы огня, выстреливающего в пространство сверхплотные огненные снаряды и постоянно меняющего свою форму.
И все же это было не простое небесное тело. Гиг еще нес в себе вещество неведомой для землян плотности. С каждым новым взрывом на его бесформенной поверхности невероятно тяжелые гравитационные волны встряхивали корабль. И люди при этом наблюдали потрясшие их картины. Гравитационные языки сцепляли их застывшим (если это слово подходит для горячего небесного тела) и медленно пульсирующим временем. Нет, это не было просто замедлением его хода, которое люди не заметили бы. Для них, оказавшихся среди перекрестных градиентных волн этого времени, оно потекло одновременно в разных направлениях. Причем не просто в прошлое и будущее, а оно будто обрело перпендикулярные координаты, люди одномоментно видели себя участниками совершенно разных событий. Время стало расщепляться на многочисленные параллели…
В финале этой истории, спустя несколько земных месяцев Дар и Юнна снова оказались на Солнце. Очнувшись от грависилового анабиоза, они увидели себя среди большого количества квуолей. Солнечные жители кружили вокруг них по волнующейся сфере. Юнна ласково протянула им открытую ладонь… И уже ближе к концу повествования солнечные жители сделали им подарок. То, что получили от них Дар и Юнна, можно было бы назвать машиной времени. Но это только грубое подобие этого фантастического механизма. Они подарили им свое умение «перемещаться» во времени, путешествуя по самым глубинным закоулкам подсознания. Человек мог оказаться в любой эпохе, проявившись там в чьей-нибудь душе. Очень необычным было такое перемещение. Ведь человек совсем не осознавал его. В каждой эпохе он жил совершенно автономной, самой обыкновенной жизнью. И лишь во снах он мог видеть себя тем, кем он был на самом деле, и возвращаться обратно в свое время. Эта «машина» могла перемещать не только в прошлое и будущее, она могла двигаться и по тем самым параллельным путям, которые открылись людям еще на корабле. Однако понять «работу» такой машины можно было, лишь освоив необычный для человеческого восприятия язык квуолей. Повесть заканчивается сценой изучения Даром этого языка. Изучение начинается с… чтения простой земной книжки…
Я не смог ввести это в новую книгу. Лишь слабый отголосок этой истории я встроил в повествование — появившуюся у Артема способность дрейфовать между параллелями бытия, «машину времени» солнечных жителей и… загадочный шум этой «машины», казавшийся далеким и зазывным. По моему замыслу именно благодаря своей новой способности Артем появился на том самом уличном перекрестке, где он и увидел дядю Мишу, торгующего у самодельного прилавка…
Но, взявшись переиначивать этот эпизод из записок Руслана, я запнулся об него. Что-то сильно тормознуло меня. Повествование Руслана сильно приземлило мои фантазии, резко вернув в реалии наших дней. Окунувшись в переживания никому не известного маленького человека — дяди Миши, я не смог вернуться к своим фантастическим сценам из далекого будущего. Грандиознейшие картины астрономического масштаба разбились о переживания маленькой души маленького земного человека. Мне пришлось отложить в сторону свои космические зарисовки (как мне думалось — ненадолго) и пройтись по сюжетной тропинке новых героев. Однако то, что мне казалось будет недолгим отступлением, вылилось в большую самостоятельную историю. В этой истории я обрел и потерял дядю Мишу, обрел и потерял Николу. Причем, последний герой этой новой истории просто врезался в мою душу.
Я сижу перед монитором и машинально наблюдаю за включившейся заставкой. Компьютер, перестав ждать меня, отключил мой текст и выдал на экран бегающую картинку. Мои руки неподвижно лежат на краю клавиатуры. Мысли далеко-далеко. Где они? Я опять думаю о Николе…
Никола-Никола! Руслан однажды сказал мне, что с его образом как-то связана одна из ключевых загадок романа — механизм расщепления Времени на параллельные ветви. Не знаю, как это возможно, для меня он — самый обычный человек. Хотя, если честно, именно он помог мне ответить на вопросы, почему с одной стороны: в новое повествование никак не встраиваются эпизоды из далекого светлого будущего и отчего с другой стороны: эти совершенно несопоставимые сюжетные линии все-таки «просятся» в одну канву. С одной стороны, его история привела меня к очень простому выводу. Его вы уже прочли здесь чуть раньше: не может существовать где-нибудь в заоблачных мирах рай, пока где-то на земле или под землей есть ад, то есть становилось объяснимо, отчего в повествовании ускользал и даже «рушился» облик солнечного «далеко». Как видите, совсем вдруг не библейский получился вывод, и если уж придерживаться образов религии, то с другой стороны в неразрывности связки этих сюжетных линий неожиданно стала просматриваться какая-то своя, совсем иная религия. Я стал улавливать какую-то большую неведомую правду моих новых героев, и чтобы вникнуть в эту новую правду, мне пришлось копнуть еще глубже. Я, пойдя на риск сделать свой роман совершенно нечитабельным, прошелся своей новой «машиной времени» по закоулкам исторической памяти своего героя, проще говоря, окунулся с головой в его, да и нашу общую столь неоднозначную суровую историю. И нашел там глубокие религиозные основы совсем не религиозных истин.
Ну, ей богу, не могу я представить безбожниками Николу и большевиков, которых он защищает! При всей атеистичности последних. Они же, сами того не ведая, борясь с одной религией, создавали другую. Вряд ли бы смогли большевики повести за собой глубоко религиозный народ, не обратив его в новую веру. Ведь, что до них видели верующие люди впереди? — Страшный Суд, Рай и Ад. Что предложили им взамен? — Рай! И только Рай! Без Страшного Суда и Ада. Рай не загробный, а земной, рукотворный. Рай по новому учению должен был сотвориться людьми, а не Богом. «Поверьте нам! — говорили они. — Не ждет человечество Страшный Суд, не будет сортировки людей на грешников и праведных, не будут люди гореть в Аду, а будет только Рай, и будут только праведники, и будет все это называться обществом высшей справедливости». В такую перспективу человеку двадцатого века поверить легче, чем в Страшный Суд. Поэтому неудивительно, что многие верующие люди осознанно вступали в партию большевиков. Они легко принимали такую веру. И как когда-то людей призывали перейти от язычества к монотеизму, так и в двадцатом веке им снова было предложено сменить религию. По сути дела двадцатый век — это век крупнейшего столкновения верований — старого и нарождающегося нового. Происходила очень драматичная и болезненная ломка самой основы человеческого мировоззрения. Ломка проходила через души людей. И вот теперь мы с вами являемся свидетелями эпохального, грандиознейшего исторического действа. На глазах наших современников одна вера сменяет другую. Далекие потомки будут изучать этот переход по документальным свидетельствам, мы же видим это вживую, видим, как это происходит не в книгах и учениях, а в самой сердцевине процесса — в миропонимании людей, в их душах. Ну посудите сами! Мы даже не замечаем, как не только «безбожники-большевики», но даже глубоковерующие люди отказываются практически по всей планете от идеи ада — этого краеугольного построения основных современных религий. И это отнюдь не случайно. Ведь сама идея ада не была плодом фантазий, люди порою творили этот ад в своей реальной жизни. Тысячу лет назад (да что там тысячу! — всего пару столетий назад!) мерой наказания отступников, преступников и даже военнопленных были нечеловеческие пытки. Вспомните древние писания, вспомните, как их авторами восхвалялись жестокие изощренные казни врагов. Вспомните четвертования, распятия, истязания, вспомните публичные костры инквизиции и вязанку хвороста старушки-«святой простоты». Это и был ад — тот, который люди сами устраивали на земле и который был естественен для их миропонимания, который они считали священным деянием. Именно от этого отталкивались они, когда говорили о загробном наказании грешников. Увы, так был устроен человек, и теперь мы являемся живыми свидетелями того, как человек меняется. И видим мы это по кардинальному изменению его отношения к наказанию, которое меняется прямо на наших глазах. К преступникам, содержащимся в тюрьмах, требуют гуманного отношения. Казнь во многих странах упраздняется вообще, а если она где-то сохраняется, то становится щадящей. Мучения, ад, как способ наказания, исчезают из нашего менталитета. Соответственно сдвигаются акценты в религии, меняется в глазах людей сам образ Бога, меняются представления о справедливости. Здесь могут возразить, что не все и не везде так меняется. Да! И в этом — особенность переломного момента. Мы вживую видим, как в обществе сосуществует и старое, и новое. Видим, как идет между ними борьба, видим, как она неоднозначна. Увы, иногда она выливалась в новые «крестовые походы на иноверцев». Большевиков бьют за снесенные купола церквей, за строчки в их гимне: «…разрушим до основанья…» и будто забывают, что этим словам предшествуют другие: «Весь мир насилья мы разрушим…». То есть борются они с насилием, разрушают его до основания, чтобы построить на его месте новый мир — мир именно без насилия. Так неоднозначно непрямолинейно в больших муках рождается новая жизнь. И где-то среди идущих впереди этого процесса те самые «безбожники». Меняется человечество, меняется человек. Все человечество входит в новую эпоху с новым верованием. Эти слова применимы даже для атеистов — «именно с новым верованием», ибо религии меняются, появляются и исчезают, но неизменно остается вера. Вера присуща человеку, верит ли он в Бога или нет. Вера во что-либо является стержнем его души, определяет для него смысл его существования. Религия и ее атрибуты — это только оболочка, предметное и ритуальное обрамление верования. По сути сегодня мы обращаемся в своеобразную новую религию, хотя для кого-то религией она называться уже не будет. Новые люди новому верованию придумают новое название. В это название непременно как-нибудь вплетется слово «наука». Так, например, Рай земной будет называться не Раем, а, скажем, научно обоснованным обществом высшей социальной справедливости. Если вы верите в возможность такого общества, то вот она вам — ваша новая вера и новая религия. (Ведь почему Никола не пошел «заколачивать баблы» и почему дядя Миша не смог «сделать бизнес» на обмане покупателей? Они не смогли переступить через свою религию, не смогли предать свою Веру и принять «новую» систему ценностей. Повернется ли у вас после этого язык назвать этих неверующих в Бога людей безбожниками?)
Итак, новым краеугольным камнем нового верования, его фундаментальной заповедью, является то, что мы строим Рай и только Рай и что он невозможен, пока существует Ад. И это переосмысление становится эпохальным. Мы на пороге всеобщего осознания необходимости коренного пересмотра существующего миропорядка, всеобщего осознания того, что благополучие и Рай Золотого миллиарда невозможны, пока существует Ад Третьего мира. Новая Вера, таким образом, органично вписывается в суть и глубинное содержание новой эпохи. Новая Вера отражает новый вектор развития человечества. Чтобы строился земной Рай, надо обязательно освобождаться от Ада земного. Он будет тянуть назад. И, в принципе, за кратчайший по историческим меркам срок люди сделали первые шаги на пути освобождения от Ада. Идущие впереди этого процесса большевики-«безбожники» на протяжении жизни одного поколения прошли самые непростые стадии сложного процесса становления новой Веры. Прошли младенческую эйфорию рождения — ступень революционной романтики, прошли подростковый фанатизм — ступень борьбы с иноверцами, прошли юношеское идолопоклонство. И мы только-только расправили плечи, только стали смотреть прямо, вперед, только определились с тем, как будем строить это общество высшей справедливости… И тут произошел такой откат.
В общем, так или иначе, трудно, тяжело, но при работе над книгой у меня созревало понимание, что нужно выходить к развилке Времени, к исходной точке отката. Нужно найти точку расщепления его ветвей и перечитать, переосмыслить, передумать ее. Для этого мне и пришлось продраться сквозь нашу непростую Историю. Тяжелые дискуссии о годах тридцатых — это только часть громадного айсберга, который был перелопачен мной, но остался за рамками повествования. Я понимал, что одно только упоминание об этих годах может обрушить весь роман, сделать его абсолютно нечитабельным, однако чувствовал, что без такого переосмысления останутся пустой фантазией любые мечты о светлом будущем. Это и есть тот самый мучительный путь освобождения от рукотворного Ада — путь, проходящий по глубинным закоулкам душ и судеб людей. Не буду говорить, как непросто это мне далось, скажу лишь, что результатом этих мытарств было то, что я нашел развилку. Я пришел к выводу, что поскольку основным признаком эпохи является борьба и смена верований, то в этой развилке должна быть борьба с символами этих верований. Во все века победители окончательно повергали соперников, поражая и уничтожая именно символы веры. Самые тяжелые поражения наносились именно в души людей — когда уничтожались идолы, храмы, знамена, когда осквернялись святыни. Именно в эти моменты легко сбить в сторону колесо Истории. Я вышел на эпизод со сносом памятника на Лубянке, на этот непростой и неоднозначный эпизод в нашей новейшей истории. Я вышел на события на Лубянке и… обнаружил там Николу… (вернее сказать: того самого, никому не известного, так и не опознанного человека).
Но, однако же, я сильно отвлекся. Мне ведь хотелось поговорить отдельно о Николе. Вернусь к самому его появлению в романе. Пока я корпел над рукописью Руслана, обдумывая, переписывая, дополняя, развивая ее, Никола уже проходил где-то на заднем плане повествования. И для самого Руслана его появление в романе оказалось случайным.
Никола-Никола! Простой человек. Читая черновые наброски Руслана, я обнаружил, что по первоначальной задумке автора ты появился и должен был остаться на страницах романа всего лишь соседом дяди Миши, бывшим научным сотрудником, начинающим скатываться по наклонной плоскости.
Никола-Никола! По первоначальной задумке то, что сделал ты, предполагалось дать осуществить Артему. Однако логика повествования оказалась сильнее этого авторского замысла. В конечном варианте Руслан резко поменял сюжет. Артем просто не смог бы сделать то, что ему предназначалось. Нет, не потому что струсил или оказался слаб. Просто Артем не пережил того десятилетия вакханалии зла, какое выпало на твою долю. Артем не нес в себе той боли, которая выбросила бы его именно в
Впрочем, Никола, ведь ты не был каким-то особенным героем. Мне думается, что окажись ты на той площади тогда, когда История проходила эту развилку в свой самый первый раз, ты вряд ли бы оказался у подножия памятника. И опять же, не потому, что струсил бы. Ты точно так же, как и многие другие, растерялся бы в тот момент. Нужно было пережить жуткое десятилетие крушений, накопить всю его тяжелую невыносимую боль, чтобы, перенесясь волею волшебства на эту площадь снова, не раздумывая, встать на защиту монумента. И уверен: точно так же, как и ты, поступили бы и многие-многие другие — все те, кто в 91-м лишь молча наблюдал за развитием событий.
Находятся умники, которые называют таких людей «совками». Да, ради бога! Зовите, как хотите! Мы не отрекаемся от своего происхождения, от своей истории, от тех недостатков, которые были присущи и строю, и стране и которые достались нам по наследству от полуграмотных дедов и прадедов, от которых мы также не отрекаемся, которых мы чтим и перед суровой памятью которых мы склоняем головы. Да, многое в нашей истории было. Наряду со светлым и чистым было и трагичное, и даже постыдное, но все это нами же, «совками», постепенно, шаг за шагом преодолевалось. Мы были искренни и где-то по вашим меркам наивны, но мы росли, поднимались и сами же очищались, мы крепли и постепенно обретали неимоверную силу. Именно мы, «совки», оказались настолько высоки и могучи, что открыли человечеству дорогу в космические просторы. Но мы остались самими собою — искренними и наивными. Мы поверили в обман 1991 года. Ох, если бы людям знать в тот трагичный год, чем обернется все это поголовное умопомрачение, плотной неприступной стеной встали бы они вокруг «железного Феликса». Выросла бы вокруг него незримая Брестская крепость, в ряды защитников встали бы новые матросовы, новые карбышевы, новые гастело…
Однако же в те дни люди оказались в гибельном для своего мира замешательстве. Помните фразу «страна непуганых идиотов»? Непуган был наш народ. Его взяли тепленьким.
И вот теперь люди бьются в поисках выхода из западни. По-разному это делают. Одни, не понимая еще, что находятся в исторической западне, пытаются к ней приспособиться и выстроить личную стабильность, другие бьются в поисках пути всеобщего выхода из тупиковой параллели. Но каковы эти пути? Существует ли на самом деле шанс отыскать их? Руслан говорил об избавлении от антизаконов, сам я чуть выше писал, что людям нужно проснуться и осознать себя людьми, однако теперь, после раздумий над самой повестью мне уже видится, что и этого мало. Я по-новому переосмысливаю тот рецепт Руслана, который он изложил в своем первом письме, изложил под влиянием первого эмоционального порыва. Помните его фразу о маленьких победах над самим собой? Да-да, о тех самых чистой воды «совковых» «маленьких победах над самим собой»! Руслан привел пример Бэрба. Ведь казалось бы, поступок этого героя не совсем вписывается в теорию самого Бэрба (Бориса) о взрослении человечества. Помните: «атомная бомбардировка была бы невозможна, появись атомное оружие в двухтысячном году»? И, действительно, сам Бэрб поначалу оказался недостаточно «взрослым» (по-человечески «взрослым»), чтобы предотвратить трагедию на Солнце. Но почему, когда петля Времени проходила этот эпизод второй раз, он сделал это? Если все-таки принять его теорию о «взрослении», то почему он так резко вдруг «повзрослел»? — Освободился от каких-то антизаконов, или «проснулся»? Думаю, этим примером Руслан, сам о том не догадываясь, копнул глубоко в суть, невольно указал на работу своеобразного гена взросления человечества. Эти варианты («предотвратил» — «не предотвратил трагедию») отличаются друг от друга появлением небольшой книжки, эдакого своеобразного зафиксированного человеческого опыта. Да, мы взрослеем тогда, когда набираемся опыта. Человечество же взрослеет, накапливая знания об этом опыте и фиксируя его в литературе (художественной, публицистической и так далее). Небольшая книжка, как заметил Руслан, помогла «повзрослеть» Бэрбу. Однако, я думаю, для настоящего взросления все же мало просто прочитать. Да, надо «проснуться», надо осознать, но этого также мало, очень мало! Можно постигнуть суть высших материй, познать законы исторической предопределенности и судьбы, но так при этом и не повзрослеть. Для того нужно еще и
Меня иногда спрашивают, что помогло стране Советов в светлой параллели преодолеть перипетии девяностых годов и продолжить свое историческое шествие.
Да, наш светлый параллельный мир не был дарован нам с высоких небес. Он именно так и был выкован — горячим порывом Николы, неимоверно тяжелыми шагами дяди Миши и тысячами и тысячами поступков многих и многих других людей, которые на своих плечах выволокли его, вытащили из пропасти, куда он неотвратимо начал сваливаться. Я не в состоянии описать все, но если вы хотите найти ответ на этот вопрос в данной книге, то я подсказываю: «это были шаги дяди Миши». Свою неповторимую лепту внес в это и Артем.
Впрочем, что касается Артема, то, автор, похоже, сам того до конца не осознавая, по-особому берег его. Наверное, неспроста он не допускал его к самым тяжелым страницам всей этой истории (за исключением эпизода у хлебного поля, да и тот он завершил на оптимистичной ноте). Я и сам, лишь дочитав роман практически до самой последней строчки, начал понимать место этого героя в нем: Артем так же, как и Дар, Юнна и Юля предназначен для другой роли. Всем им отведено творить высокое и светлое. Они вроде далеких маяков. Если Никола был носителем Веры, а Бэрб и дядя Миша — героями Поступка, то Юнна, Юля, Дар и Артем — символами Мечты. Вера и Поступок немного тяжеловесны. Они и должны быть такими. Ведь в них заключена Сила — та самая всесокрушающая Сила, которую неожиданно разглядел Артем во взгляде Николы. Вера вздымает могучий народ, вместе с Поступком они сдвигают Колесо Истории, расщепляют и сводят воедино Параллели. Именно Вера — великая и необоримо земная — одолела сверхъестественную неземную силу солнечных жителей и выбросила Николу туда, куда ему предначертано было попасть. Быть может, именно это имел ввиду Руслан, когда говорил, что в образе Николы надо искать разгадку расщепляющегося Времени. Но и неслучайно Никола и Артем встретились на страницах романа, неслучайно неоднократно пересекались их линии. Ведь Вера зиждется на Мечте. Вера зарождается из Мечты. Мечта указывает путь, по которому начинается двигаться Вера. А для этого носители Мечты должны быть легки и свободны, они должны быть впереди. Только тогда они могут вознестись высоко-высоко, недосягаемо высоко. Их предназначение — воздвигать, вернее сказать, кропотливо вылепливать далекий город Солнца…
Вера, Поступок и Мечта — три кита новой, нарождающейся религии нового тысячелетия…
Однако, всё!..
Я решительно поднимаюсь от компьютера. Окончательно отрываюсь от записок Руслана.
Окончательно!
В них фактически завершались все сюжетные линии. Дальше идут его размышления, не доведенные, как признался в своем письме ко мне Руслан, до конца. Оставлю незавершенными его сырые выводы. Надо отдохнуть.
Я подхожу к окну. Чистое солнечное утро плавно переходит в день. Солнце легко и уверенно движется по своей восходящей дуге. Пешеходные тротуары почти свободны. С них уже схлынули шумные людские потоки. Город окунулся в привычные трудовые будни.
На дворе утро! Удивительно, я ведь даже и не заметил, как пролетела ночь. Сколько времени я сидел над записками Руслана? Не только сегодняшней ночью, а вообще? Даже трудно сказать. Мне уже кажется, что я впервые открыл их для себя давно, очень давно. Будто всю свою жизнь я их читал, перечитывал, переписывал, дописывал, снова перечитывал, снова переписывал… Я будто пережил с ними долгую жизнь.
Но сейчас все! В данную минуту все! Не хочется о них сейчас думать. Не буду о них думать!
Я гляжу вдоль улицы и открываю створку окна. Чуть слышно чмокает мягкий пластик. От этого звука мои мысли опять смешиваются. Мне вдруг вспоминается, как открывал окно дядя Миша. Когда я читал роман, я будто слышал точно такой же звук наяву. Легкий ветерок освежает мое слегка онемевшее от бессонной ночи лицо. Где-то далеко-далеко послышался слабый шум. Впрочем, я не обращаю на все это внимания. Я прилагаю усилие, чтобы не возвращаться мыслями к роману, однако звук чмокнувшего пластика делает свое дело: вопреки моим усилиям мозг уже сам собой достраивает, домысливает коротенькую сюжетную линию с дядей Мишей.
Вот дядя Миша уже не стоит у окна. Вот он уже вышел на улицу. Впервые после долгой-долгой болезни он переступил через порог подъезда и шагнул во двор. Ласковое солнце встретило его. Где-то сейчас (я даже не знаю — где) Артем и Юля. Они рядом. Они вместе после долгой-долгой разлуки — разлуки, которая протянулась для них целые столетия. Где-то сейчас…
Впрочем, нет в этом мире одного человека. Легкой тенью затушевываются мои мысли — я опять думаю о Николе.
Я пытаюсь отогнать эти мысли. Я же не хотел думать о повести, хотел отдохнуть, однако странное дело, я ловлю себя на том, что это будто не я думаю о нем. Будто это не мои мысли не дают покоя моей задубевшей от бессонницы голове. Будто это не я сам, а нечто далекое-предалекое возвращает меня к сюжету повести и Николе. И вот в моей голове крутится снова:
Эх, Никола-Никола, ну разве это справедливо? Разве можно вот так взять и исчезнуть? Авторская задумка — авторской задумкой, но Никола… Как-то неправильно все это!
Видимо неспроста я все еще не могу отойти от романа, — где-то в глубине души меня точит ощущение недосказанности.
Слабый шум, ворвавшийся в комнату вместе с открытым окном, уже будто звучит в самой моей голове. Я даже улавливаю в нем далекие зазывные нотки.
И вот я снова вижу тихий дворик, вижу сидящего на лавочке дядю Мишу, вижу играющих около него ребятишек. Дядя Миша смотрит на них. Мне видится его широкое конопушчатое лицо, видится, как промеж его морщинок едва заметно светится тихая радость, видится, как перемешивается она с такой же едва заметной грустью. Он ни о чем не думает, он просто смотрит на детей, на их нехитрую игру, но почему-то в самом краешке его глаза чуть-чуть поблескивает маленькая слезинка. И… мне вдруг опять вспоминается Никола, вспоминается, как он пытался продать свой радиоприемник, чтобы купить для дяди Миши лекарства…
Никола-Никола! Все переворачивается в моей душе.
Ну, почему тебя сейчас здесь нет!???
Все мое существо восстает против такого финала этой истории. Люди продолжают жить, дышать бодрящим утренним воздухом, радоваться солнечному дню. Огромное невидимое колесо Истории движется своим ходом, миллионы людей вовлечены в сложный водоворот ее событий, но в этом круговороте нет тебя.
Это будет высшей несправедливостью так закончить повесть о тебе. Ну, разве не мог Руслан сочинить другой финал?!!
Я снова решительно возвращаюсь к компьютеру, решительно выдвигаю клавиатуру, но… что-то вдруг останавливает меня. Некоторое время я сижу в полной неподвижности.
Нет, наверное, не мог Руслан сочинить другое окончание романа. Как бы ни хотелось этого, но не мог. Ведь в реальной жизни реальный, а не выдуманный прототип Николы действительно погиб. И вряд ли в той ситуации могло бы выйти по-другому. Этот роман научил меня, что лгать в нем не получается. В нем все происходит так, как и должно произойти, независимо от того, хочет этого автор или нет.
И все-таки я не могу примириться с этим. Ведь продлевают же авторы жизнь своим героям. По-разному это делают. Помните: «Летят самолеты — привет Мальчишу!»? Или Теодор Нетте! Ведь, не полководец, не монарх, не великий мыслитель, а простой дипкурьер — всего-лишь-навсего курьер, но как мощно остался в Истории!!!
Герои остаются жить иной жизнью. Пусть хотя бы так — в легендах и памятниках. Ну совсем чуть-чуть не хватило Руслану для окончания своих записок.
Однако, (я все-таки колеблюсь) мне не хотелось бы для Николы и этого. Мне хотелось бы большего, чем просто жизнь в камне и памяти людей. Я вывел бы иной финал этой повести. Еще немного колебаний над клавиатурой и… (ведь что-то же подталкивает меня писать дальше) к черту нерешительность! Ну не может Никола умереть! Таким Людям не дано умирать…
И тут, опережая стремительный бег моих пальцев, вдруг будто сами собой появились на мониторе следующие строчки: «
Я изумлено всматриваюсь в экран. «Откуда это?!!!»
«
Я изумленно вслушиваюсь в этот звук. Неужели все-таки мне это не чудится? Но это именно тот звук, которым я обозначал на своих страницах смешение параллелей. Теперь будто я сам попал в эту придуманную мной ситуацию.
Во как!!!
Постой! Что за шар? Почему «
Ах, да! — тут же вспомнилось мне. — Николе виделся огненный шар, когда он терял сознание на площади перед памятником.
Нет, все-таки постой! Как такое продолжение смогло сформироваться в моей голове помимо моего участия? Будто это не я, а какой-то другой «я» набирает на клавиатуре строки.
Я в глубочайшем потрясении. Далекий зазывный шум четко слышен в моей голове. Будто это все, действительно, пишет тот другой «я».
В моей голове вихрем пронеслись воспоминания о ночных видениях неведомого странного мира, которые когда-то начали точить мою душу и после которых я сел за повесть. Я тогда взялся за нее, чтобы послать этому придуманному мной двойнику весточку, чтобы дать ему в его сумрачной растворяющейся параллели глоток свежего воздуха. Неужели это были не просто видения?… Мне вспомнилось, что и сам этот зазывный шум, на самом деле, не был моей выдумкой, вспомнилось, что он, действительно, будто слышался мне в те минуты, когда ко мне приходили образы неведомого мира, и я ввел его в повествование, как удачную находку. Неужели и вправду, это мысли моего двойника пульсируют сейчас в моем сознании?!!!
Пальцы снова стремительно побежали по клавиатуре. Я поглядываю на монитор, но почти не вижу текста, вернее сказать, не вникаю в него. Далекий зазывный шум сбивает мои мысли и уносит их далеко-далеко.
Я думаю о своем двойнике.
Может, это его мысли о сидящем во дворике дяде Мише приходили ко мне в голову? Ведь я не хотел ничего уже думать об этом, но мне думалось как бы само собой. Он сочиняет, он домысливает, и все это появляется и у меня. Он живет где-то очень и очень далеко, и если это действительно так, то он живет в жутком, сумрачном мире. В своем темном мире он просто не может остановиться на таком финале повести. Не может в его романе Никола умереть, не может его история просто так взять и закончиться. Он не может не продолжать биться с окружающей его темнотой дальше.
Я думаю о своем двойнике. Я думаю о том, как он сейчас печатает, или просто пишет (я даже не знаю, есть ли у него компьютер), как возбужденно работают его мысли. Мой двойник пишет, и, наверное, именно это подталкивает и не дает покоя мне, возвращает и возвращает меня к компьютеру.
Ведь я действительно истощился, я захотел отдохнуть, и вся окружающая обстановка вполне располагает к этому. Но он живет в другой обстановке. Нависающий над ним темный мир не дает ему права расслабляться. Он пишет дальше, он не может не писать дальше. Видимо, не прошли впустую все мои мысленные послания к нему, не прошла даром вся придуманная мною далекая солнечная история. Все это осело в его душе и заставляет его биться.
Да, подумалось мне, быть может, то, что видится мне в нашем мире и видится мне вживую, появляется и в его голове, но появляется в виде зазывных мечтаний. Из своего сумрачного «далеко» он тоже видит наш мир. И хотя он видит его моими глазами, но видит по-своему, видит как что-то чистое, светлое и зовущее.
Вот он — его рай, не далекий и мифический, не внеземной, не рай из недосягаемого будущего, а вполне осязаемый, до которого можно дотронуться, протянув руку сквозь толщу небытия и оказавшись в стране, которая когда-то им была утеряна, но которая продолжает жить в другом месте, в другом измерении. Да что там «дотронуться»? Это тот рай, который можно реально, совершенно реально обрести, разбив эту толщу небытия, воссоединив расщепившиеся ветви времени, сбросив дурман тяжелого сна. И это совсем не фантазия: эта граница между мирами не лежит где-то далеко за морями, она проходит по нашим душам. Недаром мой двойник ощущает присутствие нашего мира, и, быть может, он сегодня этим и живет. Для него этот мир — источник веры, источник неодолимой, несокрушимой силы
«Где силы возьмете?» — вспомнился мне вопрос Артема из его последнего диалога с Николой.
«В городе Солнца!»
И тут с этим воспоминанием невероятнейшее открытие приходит мне в голову.
Мой двойник дописывает за меня
Это не я не спал по ночам, это он проводил бессонные ночи, читая моими глазами записки Руслана.
Это не мне пришла в голову мысль начать писать для него фантастику, это он пробился сквозь толщу небытия ко мне со своими раздумьями. Это не записки Руслана погружали меня, словно в сон, в его далекий мир, это его мысли, видения, волнения и тревоги захватывали мое существо. Это он искал и мучился над труднейшими вопросами истории. Это он в поисках выхода из окружающей его тьмы написал потрясающую по своей невероятности фразу:
«А на Солнце вы не бывали?»…
И сейчас он устремляется дальше, с помощью бегущего вперед повествования он бьется в поисках выхода из своего растворяющегося тупика. Быстрые строчки будто взлетают откуда-то на экран моего компьютера. И вот уже не они, а я тороплюсь за ними, я вчитываюсь в них. Где-то там, далеко-далеко, за незримой прослойкой небытия мой двойник пишет фантастику — дерзкую, высочайшего полета
«…далекий Город Солнца — приближался к нему…».
Никола оттолкнулся от косяка двери и вошел в лабораторию. Студенты выжидающе смотрели на него. Он обещал им после обеда посмотреть, что случилось с ионной пушкой.
Рука привычно потянулась в сторону за халатом. Слабый зазывный шум прозвучал у Николы в голове. Его мысли смешались.
Было ли что, или все это ему придумалось?…
Мечты, мечты…
Борис сидел в коридоре на полу, навалившись спиной на стену. Его глаза спокойно и задумчиво смотрели куда-то далеко вперед. Сквозь открытый проем двери было видно распахнутое на лестничной площадке окно, а за ним — убегающие вдаль улицы большого цветущего города.
Мечты, мечты…
«…Далекий Город Солнца…».
Дар оторвался от древней книги. На его лице играла задумчивая улыбка.
Не просто во все века ковалась наука Мечты. Люди еще очень долго будут осваивать ее премудрости. Мечты и Фантазии неспроста дарованы Человеку. Они не просто призваны поднять его из животного мира. Так, одна из первых заповедей этой науки гласит, что Мечты и Фантазии надо уметь беречь. Ведь поскольку они не дают их обладателю никакого сиюминутного достатка, от них очень легко отказаться, их легко ненароком предать. Потеряв же их, мы обрекаем свой мир на уход в небытие. Мечты и Фантазии выполняют охранную роль, они оберегают цивилизации от разрушения.
Юнна сидела рядом с Даром, прижавшись к нему и положив голову на его плечо. Ее золотистые волосы волнистыми локонами спускались по его груди и спине. Такая же золотистая полупрозрачная плазма мягко колыхалась у ее ног. Далеко-далеко на горизонте поднимались огромные языки ярко красных протуберанцев. А высоко-высоко над их головами в межпланетном леденящем холоде зарождалась планета, у которой еще не было своего имени…
Мечты, мечты…
Бэрб задумчиво смотрел на экран. В плотной россыпи звезд уже не было видно далекого Солнца. Миллион лет назад он жил на нем… и любил… Его корабль опускался на всасывающую сферу невообразимо гигантской черной дыры — ядра огромной галактики. Окружающие предметы начали немного искривляться. Едва слышно заработал антиколлапсар, удерживая деформацию пространства в допустимых рамках. Его шум вызвал у Бэрба какие-то неясные то ли воспоминания, то ли мечты, то ли фантазии.
Мечты и фантазии…
Пока мы — в роли студентов непростого курса науки Мечты.
Молодой человек положил ручку на стол и размял уставшие пальцы.
Мы осваиваем эту науку, просто читая самые обычные книжки, просто погружаясь в грезы других людей. Мы открываем для себя и действительные миры этих людей, и те миры, которые они когда-то создавали в своих мечтаниях. И бывает, что вместе с ними мы возносимся до невообразимых высот.
Однако книжные Фантазии — это всего лишь праязык Мечты. Когда-нибудь люди поднимутся настолько, что научатся общаться с помощью самих грез, как это делают далекие солнечные создания, и тогда…
Человек снова взял ручку и склонился над рукописью:
Верю, что это будет так же реально, как стало реальным само путешествие на Солнце. Это произойдет когда-нибудь…
Но сегодня для этого нужна самая малость — не терять то, что когда-то обрели…
На берегу небольшой извилистой речушки под высоким полыхающим звездным небом догорал костер…
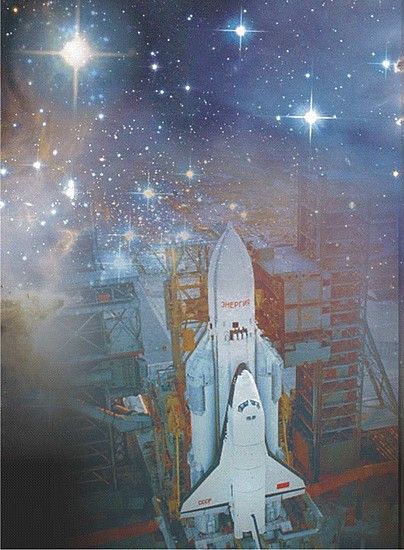 |
| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |