"Чингисхан. Великий завоеватель" - читать интересную книгу автора (Хара-Даван Эренжен)
 |
Эренжен Хара-Даван
Чингисхан. Великий завоеватель
.
ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ БРЕМЯ ПОЛЯРНОГО МИФА
Великий исторический деятель – всегда не только конкретный человек, но еще и миф. Это вовсе не означает некую иллюзорную новоевропейскую мифичность, синонимичную фантазии и фикции. Скорее напротив: истинный, традиционный миф дополняет и вполне определенным образом переосмысливает реальный прототип, подчас как бы высвечивает его, обнаруживая своего рода над-реальность, не воспринимаемую в ракурсе эмпирическом и сиюминутном. Сквозь тип и прототип проступают контуры архетипа. Именно так в истории можно увидеть метаисторию, – а без нее великие останутся лишь героями или гениями, диктаторами или святыми…
Каков же метаисторический архетип образа Чингисхана? Устоявшиеся модусы этого образа многочисленны, но в известном смысле односторонни (во всяком случае не архетипичны). Жестокий завоеватель, «Покоритель Вселенной»; мудрый законодатель, необычайно прозорливый для простого кочевника и воина, каковым был Темучин до того, как стал Чингисханом; объединитель монгольского народа; основатель огромной империи на двух континентах… Все эти определения глубоки и мотивированны. Однако методологически они принадлежат сфере позитивистской науки и потому имеют лишь косвенное отношение к метаистории.
Преодолеть этот разрыв, проникнуть в сокровенные глубины исторического процесса и в побуждения его творцов попыталось в XX веке евразийство – одна из крупнейших историко-политических школ, породившая не отвлеченно-умозрительное, но живое и безусловно перспективное миросозерцание. Применительно к империи Чингисхана можно констатировать, что евразийцы отбросили западнический по происхождению стереотип монголо-татарского ига. Они настаивали на том, что пребывание Древней Руси в составе Золотой Орды в конечном счете имело позитивные последствия в геополитическом и внутриполитическом отношениях, что Российская империя унаследовала от империи монголов гораздо больше, чем от Рима и Византии.
Впрочем, нельзя не согласиться с тем, что и евразийство создавало свои стереотипы. Ранние евразийцы (Г.В. Вернадский, П.Н. Савицкий) переоценивали роль географического фактора в формировании этносов; знаменитая теория пассионарности Л.H. Гумилева может быть расценена как априорная (хотя и многократно эмпирически подтвержденная) модель, безусловно описывающая фазы этногенеза – юность, зрелость и старость народов, но зачастую сужающая мотивацию исторических фактов. Скажем, образование империи Чингисхана выглядит в этом свете как реализация этнопсихологического, почти биологического фактора. Но разве менее важную роль сыграли в данном случае факторы духовно-психологические – живая реальность того, что мы теперь именуем словом «миф»?
Наверное, для преодоления указанных стереотипов современный автор сам должен обладать тем, что позволительно будет назвать мифологизмом мышления. В известной мере это качество присуще автору книги о Чингисхане, которую вы держите в руках (впервые она вышла ограниченным тиражом в Белграде, в среде российской эмиграции, в 1929 г.). Ее автор, Эренжен Хара-Даван (1883-1942), единственный среди ранних евразийцев, был представителем одного из тех народов, которые сохранили свою традиционную культуру гораздо лучше, чем большинство западных европейцев. Он родился[1] в Калмыцкой степи, в кочевье Малодербетовского улуса, в семье калмыка-батрака по имени Дава и по прозвищу Хара, «Черный», данному ему за смуглость кожи. Путь в науку для юного Эренжена начался в улусной школе; отец не мог платить за учебу сына, и тот учился на общественные средства (общественный капитал, сформированный в 1830-е гг. для оказания помощи калмыкам-беднякам).
Потом была гимназия в Астрахани, куда Эренжена Даваева (так его тогда называли) направили в числе немногих сверстников, проявивших в школе выдающиеся способности. В 1904 г. он познакомился с приехавшими из Петербурга учеными: профессором Гельсингфорсского университета Г.И. Рамстедтом и преподавателем восточного факультета Петербургского университета А.Д. Рудневым. Они изучали народную культуру калмыков, записали у Э. Даваева и его товарища Санджи Баянова несколько национальных мелодий. После этого Эренжен и сам начал собирать народные песни и подарил свои записи А.Д. Рудневу, когда в 1906 г. приехал в Петербург.
В столице он поступил в Военно-медицинскую академию – незаурядный успех для сына батрака из Калмыцкой степи. Именно в годы учебы, в тревожную эпоху первой русской революции Эренжен включается в дело национального возрождения калмыков. Один из его друзей, студент юридического факультета Петербургского университета Бадма Уланов стал одним из основателей национальной организации «Знамя калмыцкого народа» («Хальмг тангачин туг») – секции Всероссийского союза учителей. И получив диплом врача, Э. Хара-Даван возвращается в Калмыкию, в родной улус. А во время Февральской революции 1917 г. включается в политическую деятельность, в работу новых органов управления, выступая с идеей автономии Калмыкии. Временное правительство эту инициативу не поддержало, и Э. Хара-Даван оказывается, хотя и ненадолго, в стане советской власти. Совет депутатов Малодербетовского улуса делегирует его на съезд «трудового калмыцкого народа Прикаспийского края». Весной 1918 г. он возглавил Калмыцкую секцию исполкома Астраханского губернского совета. Однако выступил против экспроприации скота у зажиточных калмыков, против обобществления земли – и оставил пост председателя Калмыцкой секции, когда губисполком (как ранее Временное правительство) не предоставил Калмыкии автономию. А потом закономерно оказался в оппозиции советской власти и вместе с разгромленной белой армией эмигрировал из России.
Нелегкое бремя легло на немногочисленную калмыцкую интеллигенцию в эмиграции – помочь землякам (зачастую владевшим только калмыцким языком) выжить в Западной Европе, более чуждой им, чем Россия. Э. Хара-Даван участвует в работе Калмыцкой комиссии культурных работников (в Праге), в издании калмыцких журналов («Хонхо», «Улан Залат»). А в 1929 г. он перебирается в Югославию, в Белград – один из духовных центров российской эмиграции. Там происходит событие исключительно важное для культурного диалога Востока и Запада. На земельном участке, пожертвованном сербским помещиком Ячимовичем, возводится первый в Западной Европе буддийский храм – калмыцкий хурул. Священные изображения для него, из Тибета, Монголии и Индии, прислал Н.К. Рерих; японские буддисты передали в дар бронзовую статую Будды. Должность секретаря в духовно-попечительском совете храма занял Эренжен Хара-Даван. В те годы он вместе со многими другими калмыками и русскими казаками-эмигрантами планировал не оставаться в Европе, а переселиться со временем в степи Мексики и Техаса (в 1930 г. с этой целью был создан Казачий колонизационный комитет). Этим планам не суждено было сбыться. Э. Хара-Даван умер в Югославии в 1942 г.
Казалось бы, человек с такой биографией легко мог замкнуться в кругу узконациональных интересов. Однако этого не произошло. Свидетельство тому – его удивительная книга «Чингисхан как полководец и его наследие». Она вышла из печати в год открытия калмыцкого буддийского храма в Западной Европе. Суховатое название, простое оформление, явно в небогатой типографии. Но даже титульный лист книги, воспроизведенный здесь, глубоко продуман и несет в себе скрытый смысл. Единственное изображение на титульном листе – один из священных символов северного буддизма,
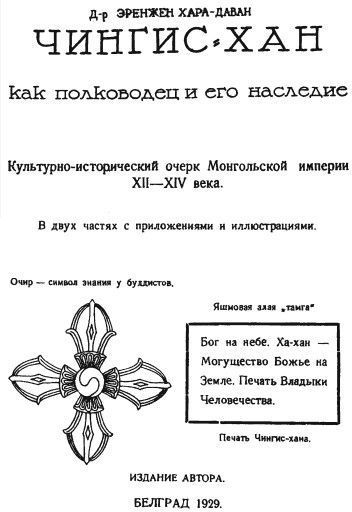 |
Апологетика национального героя монголов? Нет; в годы работы над книгой Хара-Даван все глубже проникается евразийскими идеями поздних русских славянофилов. Он показывает в своем исследовании непродуктивность для России и народов Азии западной культурологической модели, усматривая крах западничества в событиях 1917 г., в развале Российской империи, основанной Петром I. Обращаясь к опыту другой, более ранней евразийской империи, созданной в XIII в. Чингисханом, Э. Хара-Даван не отрицает «крайней бедственности» монгольского завоевания для русского народа, однако избегает односторонних оценок. Развенчивая западнический миф о «диких ордах» монголов, он выходит на уровень глобальных обобщений, в которых рождается иная цивилизационная модель, альтернативная и западной, и тем более какой бы то ни было националистической модели. Он не формулирует ее в схоластических тезисах (как это сделал бы философ-европеец); можно сказать, что ее постулаты растворены в мета-историческом мифологизме ассоциативных, полуинтуитивных намеков, в подтексте внешне простых определений и выводов.
Некоторые из этих выводов настолько очевидны, что вызывает удивление, почему до Хара-Давана и других евразийцев никто не придавал этому должного значения. Например, толерантность золотоордынских правителей к религии завоеванных ими народов – факт вроде бы хорошо известный. Однако совершенно логичный геополитический вывод из этого обстоятельства воспринимается многими как нечто радикалистское: именно благодаря пребыванию Руси в составе Золотой Орды с ее веротерпимостью русское православие сохранилось как конфессия. Иначе экспансия католичества, весьма активного в XIII-XIV вв., скорее всего привела бы к безусловному вхождению Руси в круг западного христианства, к разрыву многих связей с Востоком (православным и не только), без которых сейчас невозможно представить себе русскую культуру в ее исторической конкретике последнего полутысячелетия.
В этой связи уместно процитировать приведенный Хара-Даваном указ хана Менгу-Тимура, изданный в 1270 г.: «На Руси да не дерзнет никто посрамлять церквей и обижать митрополитов и подчиненных им архимандритов, протоиереев, иереев и т. д. Свободными от всех податей и повинностей да будут их города, области, деревни, земли, охоты, ульи, луга, леса, огороды, сады, мельницы и молочные хозяйства. Все это принадлежит Богу, и сами они Божьи. Да помолятся они о нас.»[2] Кстати, золотые ярлыки, выдававшиеся ханами русским митрополитам, делали их независимыми и от власти местных князей, что в эпоху княжеских усобиц на Руси имело немалое значение.
Хара-Даван отмечает, что Чингис-хан, «основатель политики абсолютной веротерпимости», издал аналогичный указ относительно древней религии Китая – даосизма. Властитель Монгольской империи пригласил в свою резиденцию знаменитого даосского монаха Чан-Чуня (1148-1227), с почестями встретил его и неоднократно беседовал с ним об утонченных проблемах даосской духовной алхимии.[3] Происходило это в 1222-1223 гг. А несколько ранее, в 1219 г., когда Чан-Чунь еще только получил приглашение Чингисхана, даосские монахи воздвигли в память об этом стелу. На ней были начертаны слова, которыми, как утверждает даосское предание, начиналось послание Чингисхана Чан-Чуню:
«Небо устало от надменности и любви к роскоши, достигших в Китае своего предела. Я живу на Севере, где алчность возникнуть не может никогда. Я возвращаюсь к простоте и чистоте, сообразуясь с умеренностью. Что касается одежд, которые я ношу, или пищи, которую принимаю, то все это такие же лохмотья и та же еда, что у пастухов и конюхов. Я обращаюсь с простым народом так же сочувственно, как с детьми, а со своими воинами, как с братьями. Принимая участие в битвах, я всегда нахожусь впереди всех. За семь лет я совершил великое дело, и отныне во всех шести измерениях пространства все подчинено одному закону».[4]
Полагают (например, известный французский востоковед Рене Груссе), что этот текст стилизован в духе китайской культуры. Но похоже, что в последней фразе действительно содержится указание на метаисторический смысл жизненной миссии Чингисхана. Действительно: во имя чего он «бичом Божиим» пронесся по Евразии, не стремясь при этом к личной славе и проявляя удивительную терпимость к религиям самых разных народов? Он ведь и ислам признал одной из официальных религий своей империи (хотя разгромил мусульманские регионы Афганистан и Хорасан еще более жестоко, чем Русь), и распространенное тогда среди монголов древнее христианство несторианского, восточного толка… Пожалуй, ответ на поставленный здесь вопрос наиболее четко дал Эренжен Хара-Даван:
«Идеалом Чингисхана было создание единого царства человечества, так как только тогда, как он справедливо думал, прекратятся взаимные войны и создадутся условия для мирного процветания человечества как в области духовной, так и материальной культуры. (…) Этот завоеватель мира был прежде всего его непреклонным возродителем. Железом и огнем он открывал древние мировые пути для шествия будущей цивилизации».[5]
Безусловно, Чингисхан стремился к миру – в рамках создаваемой им империи, хотя этот созидательный процесс неизбежно приводил к дихотомии своего и чужого; последнее подлежало ассимиляции или уничтожению. Впрочем, и эта, деструктивная по отношению к чужому, деятельность воспринималась как акт божественной справедливости: ведь монарх-мироустроитель приобретал статус божественного начала, по определению и сути.
Ритуальная, космологическая функция правителя в традиционном монгольском обществе, понятие харизмы божественного царя как основы гармонии в социуме и в окружающем мире детально исследованы Т.Д. Скрынниковой.[6] В научный оборот вводится богатейший этнографический и религиоведческий материал, связанный с почитанием Чингисхана в средневековой Монголии. Однако сам факт его избранничества остается не объяснимым ничем иным, кроме как волей Тенгри – Вечного Неба. Это исполнение небесной воли, осознававшееся, как известно, самим Чингисханом, стало для него основой того, что Л.H. Гумилев назвал пассионарным импульсом: «Пассионарность проявляется у человека как непреоборимое стремление к деятельности ради отвлеченного идеала, далекой цели, для достижения которой такой человек – пассионарий, жертвует не только жизнью окружающих, но и жизнью своей собственной».[7]
Но ведь далеко не все пассионарные правители ставили перед собой в качестве конечной цели создание всеобщего царства человечества. Это удел или миссия единиц, и для этого нужна особая, поистине метафизическая мотивация. Стяжание регалий вселенской власти – не из тех проблем, которыми занимается историческая наука, хотя бы и самая передовая. Столь глобальный сюжет – прерогатива мифа.
Мифологизация образа реального человека или его деяний – это вовсе не произвольно-романтическая трансформация, не просто возвеличивание или умаление. Это процесс, подчиняющийся строгим закономерностям, а потому доступный исследованию и осмыслению. При этом не следует упускать из виду и откровенно сказочные варианты мифологической трансформации (скажем, в кашмирских мусульманских легендах о Христе, глубоко уважительных, библейский Иисус порой преображается в сказочного великана Иссу). Применительно же к образу правителя такого рода преображение часто моделируется мифом инициатическим, который описывает посвящение в статус царя или императора.
Этот миф, которому историки уделяют мало внимания (трактуя его как сказочную обработку образа), наиболее четко выступает в сказаниях о мучительно трудном прохождении героем Царства Тьмы и о вступлении в Царство Света – мистический Полюс Мира, где вся слава, все достоинство и благо содержатся в наивысшем, то есть именно полярном проявлении. В конкретной фабуле мифа эта полярность нередко овеществляется в образе регалий вселенской власти. Такие сказания сложены далеко не обо всех правителях. В этом отношении известный современный медиевист А.Г. Юрченко сравнивает Чингисхана только с Александром Македонским – Искандером мусульманской традиции.
А.Г. Юрченко отмечает, что в «Романе о Чингисхане» (XIII в.; в Европе этот текст стал известен благодаря францисканской миссии в Центральной Азии 1245 г.) войско Чингисхана несколько месяцев идет через совершенно пустынные регионы куда-то на северо-восток и в итоге достигает пределов мира – загадочной земли «людей Солнца». Там, у берегов вселенского Океана, в период летнего солнцестояния сближаются Солнце и море, а Солнце сталкивается с небесной твердью, издавая страшный шум… А.Г. Юрченко допускает, что первоисточником тут могли быть мифологизированные представления народов Северной Азии о полярном дне, повлиявшие на авторов восточных повествований об Александре-Искандере (прежде всего на «Искандернаме» Низами), а через них – на «Роман о Чингисхане». При этом магнитные «Каспийские горы», преодолеваемые Чингисханом на пути к пределам Земли, трактуются как символ Центра Мира.[8]
Совершенно очевидно, что тут бесполезно искать конкретно-историческую первооснову сюжета: перед нами описание мистического паломничества, инициатического опыта со всеми его характерными особенностями, в целом схожими для различных религий и детально исследованными (прежде всего философами-традиционалистами XX в.). Разумеется, встает вопрос: пережили ли этот мистический опыт реальные люди по имени Александр Македонский и Чингисхан, или инициатический миф был «наложен» на их образ современниками либо потомками? Впрочем, в исторической ретроспективе это не столь уж важно – для понимания судеб империй и метаисторического образа их основателей. Человек, стяжавший полярные регалии власти (или персонаж посвятительного мифа), сам становится духовным «полюсом» – тем, кого в мусульманской традиции именуют арабским словом
Примечательно, что образ острова в священном море также встречается в цикле преданий о Чингисхане. Согласно джагатайскому «Сказанию о Чингисхане» на острове Белого моря, в темном дворце, недоступном свету Солнца и Луны, девственной дочерью Алтын-хана (т. е. «Золотого царя») был чудесным образом непорочно зачат от солнечного луча будущий отец Чингисхана, Тангри-берген («Богом данный») Дуюн-Баян; Алтын-хан заключил дочь в запечатанный золотой корабль и пустил его в море; корабль оказался в местах охоты монгольского витязя Тумакул-мергена, который освободил царевну и взял ее в жены, несмотря на ее таинственную беременность.[9]
Содержащийся в этом сказании мотив о матери будущего героя, заключенной в запечатанный корабль, – мотив, родственный тому, что присутствует в пушкинской «Сказке о царе Салтане» и находит параллели в древнекельтской традиции, требует отдельного рассмотрения (отметим только, что он также имеет отношение к комплексу полярных мифов). Для нашей темы здесь главное – остров в Белом море. Вряд ли имеется в виду известное ныне «эмпирическое» море на Русском Севере, хотя в средневековом тюркском мире оно было известно давно (по всей видимости, булгары Поволжья соперничали с новгородскими купцами на европейской части Северного морского пути: исследованием этого вопроса в настоящее время занимается казанский историк Рустем Набиев[10]), а джагатайская рукопись «Сказания о Чингисхане» датируется XVII в.
Вряд ли Белое море – это море «западное»; такую интерпретацию предлагают, исходя из традиционной для тюрко-монгольского мира цветовой маркировки сторон света: север соотносится с черным цветом, юг – с красным, восток – с голубым, запад – с белым. Возможно, отсюда происходит тюркское название Каспийского моря – Ак Дынгыс, «Белое море».[11]
Однако в контексте «Сказания о Чингисхане» правомернее рассматривать символизм Белого моря в дискурсе евразийских представлений о царственном, сакральном правителе, о его верховной власти. И тут обнаруживается, как показал В.В. Трепавлов в своем исчерпывающем исследовании образа «Белого царя» у народов, вошедших в Российскую империю, что в этом отношении спектр значений белого в различных этнических традициях (прежде всего у народов индоевропейской, алтайской и уральской языковых семей) неизменно выстраивается вокруг понятий святости и высшей власти, соотносящихся с образами Белой горы, Белого моря, Белого царства.
 |
Например, в хакасском эпосе упоминаются белые ханы у Белой горы или на берегу Белого моря; белый цвет усвоен древнетюркскому богу Неба – Тенгри и верховному божеству якутов Юрюнг Уолану; монгольский Белый Старец (Цагаан Убгэн) хранит благоденствие всего живого; коми-зырянам был известен образ Белого царства и Белого царя. В древнерусской «Голубиной книге» хранящий истинную веру Белый царь именуется «над царями царь», то есть вселенский правитель… Что касается непосредственно Чингисхана, то белым было его личное девятибунчужное знамя; «белой костью» (то есть людьми особо знатными) называли его потомков.[12]
С учетом этих ассоциативных связей можно связать миф «Сказания о Чингисхане» и с символом Полярного острова, и с представлениями об идеальном (белом, светлом, светоносном) правителе. Только миф этот маркирует уже не инициатическое странствие, как в сюжете, зафиксированном францисканской миссией 1245 г., а космогоническую или алхимическую парадигму: животворный солнечный луч, проникающий в темную первичную материю, принадлежит сфере глубоко архаичного алхимического символизма (кстати, и знаменитое «Сокровенное сказание монголов» XIII в. повествует, что Алангоо, праматерь рода Чингисхана, после смерти мужа зачала троих сыновей от сияния посланца Неба, нисходившего в ее лоно через дымник юрты[13]). Эта парадигма лежит и в основе космогонических мифов; символическая соотнесенность династии Чингисхана с солнечным первоначалом и с космогонией закономерно делает его героем-мироустроителем, косвенно подтверждая выводы, к которым приходит в своей книге Э. Хара-Даван.
Но не слишком ли отвлеченны эти мифологические изыскания? Проясняют ли они метаисторическое, по Хара-Давану, открытие Чингисханом «древних мировых путей для шествия будущей цивилизации»? Ведь для тюрко-монгольского мира его харизматичность и так не вызывает сомнений; желанием приобщиться к ней во имя национального возрождения можно объяснить и непрекращающиеся поиски могилы Чингисхана на территории Забайкалья, Монголии, Китая, и предание о том, что мать Покорителя Вселенной была по национальности якуткой…
Пожалуй, единственный автор, который сформулировал многомерный геополитический образ цивилизации, возникающей (или еще имеющей возникнуть) на древних путях империи Чингисхана, – это современный философ-традиционалист А.Г. Дугин. В своей работе 2004 г. «Чингисхан и монголосфера», написанной как раз по мотивам книги Э. Хара-Давана, он выходит на метаисторию великих евразийских империй, исходя из принципов традиционализма и геополитической глобалистики. Сопоставляя сакральную географию империй Александра Македонского и Чингисхана, А.Г. Дугин противопоставляет их в соответствии с дихотомией Север – Юг.
Империя Александра находилась южнее великой евразийской горной гряды, простирающейся от Пиренейского полуострова до Дальнего Востока; Монгольская империя – к северу от этой гряды. По этой линии, являющей собой и вполне конкретный климатический, хозяйственно-экономический, этнический рубеж, проходит (согласно гиперборейской теории антропогенеза, на которой основана философия традиционализма) таинственная разграничительная черта цивилизационных парадигм:
«Древние цивилизации складывались под воздействием импульсов, идущих с Севера, но застывали и становились собой только южнее некоторой географической черты – гряды евразийских гор, тянущихся от Пиренеев до Маньчжурии… С Севера от этих гор рождается тонкая живая сила и оседает южнее, застывая в конкретной форме». (…) «В своем имперостроительном импульсе Чингисхан осуществил важнейшую сакрально-географическую операцию: он „сравнял горы", сделав естественную северную границу южных цивилизаций прозрачной и проходимой… Истинный Север – великая Арктида – дала о себе знать. Сами же евразийские территории и на Севере, и на Юге были интегрированы в единый блок, подчиненный воле Севера уже в планетарном, континентальном смысле. В этом состояла великая нордическая реставрация сакральной географии, которую осуществил Чингисхан в своей империи». (…) Монголосфера Чингисхана… открывала цивилизациям новый трансцендентальный горизонт, нордическое измерение бытия, тот самый Свет Севера, о котором учит исламский эзотеризм».[14]
Признавая изначально полярный (связанный с балканской Македонией, с южными пределами «гиперборейского круга») характер духовного импульса и для империи Александра Великого, А.Г. Дугин выстраивает внутренне очень последовательную схему «развертывания» евразийских империй во времени и в пространстве. Империя Александра овеществила идею евразийского единства на самых южных рубежах, куда доходили духовные импульсы Арктиды – циркумполярной протоцивилизации Северного полушария (кстати, этнолингвистическое единство циркумполярной зоны во времена позднего палеолита и даже в мезолите убедительно подтверждается академическими науками, археологией и сравнительным языкознанием). Монгольская империя преодолела горную гряду, охватив просторы степной и отчасти таежной зоны Евразии. Но тогда получается, что еще более чисто и одухотворенно «нордическое измерение бытия» раскрылось в образовании Российской империи, объявшей самые северные земли Евразийского континента, преддверие Арктиды-Гипербореи!
А.Г. Дугин подчеркивает, вслед за Э. Хара-Даваном и другими ранними евразийцами, геополитическую преемственность Московской Руси от Золотой Орды: «Москва усвоила континентальный универсализм, понимание Евразийского материка как единого пространства, подлежащего универсальной унификации на особых сакральных принципах…» «Белое Царство Московской Руси и есть полюс неовизантийски оформленной православной монголосферы. Всемирное Царство завещано Московскому Риму именно Чингисханом…»[15]
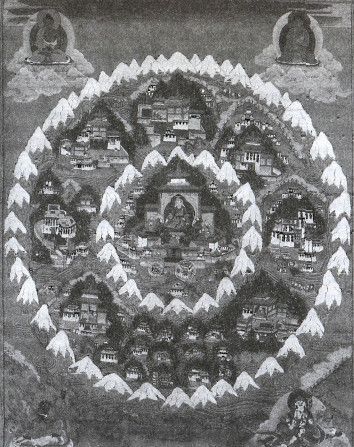 |
Парадоксальность таких формулировок, как «православная монголосфера», лишь кажущаяся: они очень точны и ныне становятся достоянием академической истории. Скажем, А.Н. Никитин (Историко-архивный институт) приходит к выводу, что именно в православной книжности Московского государства «Ордынское царство было вовлечено в контекст библейской, римско-византийской и древнерусской истории».[16] Но применительно к парадигме трех евразийских империй все эти выводы касаются лишь аспектов конкретно-исторического и культурологического. Сакральная же мотивация величественного, непостижимого для современников и различимого лишь в исторической дистанцированности развертывания «в веках и мирах» идеи Полярной империи – это, видимо, все-таки тот похожий на простую сказку миф обретения регалий высшей власти на запредельном острове Белого – Светлого – Святого моря.
Разумеется, осознание этой сакральной обоснованности не дает ключ к решению практических проблем бытия империи. Двойственность в восприятии образа ее основателя останется всегда, и это закономерно. Всегда будут существовать люди, хранящие память о завоевании их земель, о пролитой крови (а это ведь тоже вещь глубоко сакральная). Не стираются и воспоминания о прежних, пусть локальных и частных, общественных структурах, о
Дело тут не только в исторической памяти. Имперскому мифу, самому глубокому и древнему, неизбежно противостоит миф внутринациональный или даже внутриплеменной. И парадокс в том (знать об этом надо, хотя в таком знании поистине много печали!), что племенной этот миф, как правило, генетически восходит к тому же самому, невероятно древнему, может быть, гиперборейскому инициатическому архетипу: священный вождь или культурный герой проникает на запретный и запредельный Полярный остров и обретает там некие зримые проявления высших благ мира. Такой миф был известен, например, индейцам Аляски в эпоху Русской Америки, когда Российская империя почти сомкнула циркумполярное кольцо, простершись уже не на два, а на три континента…
Сакральное, посвятительное, сокровенное обоснование имперских деяний оказывается на поверку тем же самым, во имя которого порой отдают жизнь туземцы, не желающие платить дань неведомому далекому царю! Конечно, и туземцы, и воины империи не всегда знают свои сказки. Но власть таящегося в них мифа недооценивать нельзя.
(support [a t] reallib.org)