"Семь удивительных историй Иоахима Рыбки" - читать интересную книгу автора (Морцинек Густав)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,
Мись обычно спит на кожухе, расстеленном возле кровати, а Кася — рядом со мной, притулившись на моей груди. Она похожа на теплый, мурлыкающий клубок мягкой шерсти. Когда я дотрагиваюсь до нее, она мурлычет громче, а я пальцами чувствую, как мерно колотится ее крохотное сердечко. Это смешно, я понимаю, но мне кажется, будто под шерсткой тикают маленькие часики.
Мись и Кася относятся ко мне с трогательным доверием. Очень верные зверюшки, куда более верные, чем иные люди.
В их обществе я не чувствую себя одиноким стариком.
Правда, Эпикур сказал, что каждый из нас обязан всемерно оберегать свое одиночество среди шумной толпы человеческой. Сенека, однако, уверял, что одиночество толкает нас к греху.
Ни первый, ни второй так и не поняли и не объяснили нам сути одиночества. Может, это сделал какой-нибудь другой философ, только я его не читал. Лично я знаю, что одиночество — слишком тяжкое бремя для человека и он всегда ищет, кем или чем заполнить пустоту вокруг себя. Мне для этого достаточно воспоминаний и моих верных зверюшек.
Собака и кошка — оба приблудные. Спят со мной на кровати. Когда я не могу уснуть, я думаю: вот тут пусть и приходят воспоминания. Сел я, положил Касю к себе на колени. Кася мурлычет сквозь сон, Мись похрапывает, раскинувшись на спине, а я гляжу в окно и вижу за ним ночь.
В глубине ночи творятся теперь удивительные вещи.
Возьмем для примера зарево над Карвиной. Обычно, если небо чистое, этого зарева нету. А если находят тучи и если они низко нависают над землей, ночь становится чернее, и тогда над Карвиной ясно видится алое зарево.
Я знаю», что это такое. Там стоят длинные батареи коксовых печей. «Коксяки» — так их у нас называют. Из этих печей по широкой трубе выходит газ, вот он-то и горит. Если дует сильный ветер, пламя бьется, как красное потрепанное полотнище. Если погода тихая, пламя тоже трепыхается, но спокойно. И всегда кажется, будто ему очень некогда будто оно куда-то страшно торопится.
Тогда тучи над Карвиной становятся красными. Цвет жуткий, как пролитая кровь. В такие минуты мне вспоминается сражение на Изонцо и Пьяве и убитые солдаты. Лежали они как-то странно, вперемежку — одни в итальянских мундирах, другие в австрийских, а кровь и у тех и у других была одинаковая. Красная.
Когда я перебирался вплавь через Дунай вместе с тремя солдатами, двое из них утонули. Стреляли в нас так называемые полевые жандармы. Они орали нам вслед, что мы дезертиры, что мы предали императора и родину. Все это было бы смешно, если бы не кровь моих товарищей — в них попали пули, и они пошли ко дну. Уже светало, и я увидел кровавые пятна на грязной воде Дуная Но я не о том собирался говорить.
Хотя ночник сеет совсем слабенький свет, я вижу часы в шкафу. Я ведь нарочно приоткрываю дверку, чтобы на них глядеть. Их могло бы там быть и восемь, но одни утонули в венецианском канале. Я со злости швырнул их в темную зловонную воду, когда наглая рыжая англичанка с лошадиной челюстью, похожая не то на ведьму, не то на раскрашенную обезьяну, всунула мне в руку часы и принялась недвусмысленно ко мне ластиться и гнусно кривляться.
Я швырнул часы в воду, а гондолу повернул к берегу.
И не об этом я собирался говорить.
Через окно я вижу зарево, а время уже позднее, и на башне костела часы вызванивают полночь. Зарево живо напоминает мне пожар в третьем штреке, на пятом горизонте — в пласту «Рудольфа».
И я думаю сейчас: хорошо, что это случилось в день Первого мая и, значит, шахтеров не было под землей. Все отмечали праздник; одни шахтеры шли в колоннах демонстрантов, другие кормили кроликов, а третьи, стоя на крыше, гоняли голубей тряпкой, надетой на шест; а некоторые просто копались в своих крохотных садиках и колдовали у грядок с розами.
А я спустился вниз, в третий штрек. Нас было десять человек. Не больно мне хотелось, очень уж я настроился пойти в лес или в поле, улечься в траве на лугу, если позволит погода, и глядеть на облачка, плывущие по небу. Тогда мне вспомнятся белые парусники Адриатики. Или буду слушать, как музицируют жаворонки, и тогда мне вспомнится Сицилия и то, как я уничтожал хитроум ные силки, расставленные для бедных птиц, готовящихся к осеннему перелету.
Я заранее наслаждался — вот разлягусь на траве и буду слушать жаворонка в синеве неба. И буду думать, что это, наверное, поет потомок одного из тех жаворонков, которых я освободил из силков на Сицилии.
Я буду думать о жаворонках, потом вспомню, как жаль мне было истреблявших друг друга людей в австрийских и итальянских мундирах. И как мне было жаль всех тех, кто умирал рядом со мной в Дахау.
Чудак я да и только!
А тут пришел штейгер Зоммерлик и говорит:
— Рыбка! Хотите подработать?
Я подумал: двойная плата за рабочий день — не так уж плохо! И сказал:
— Согласен, пан штейгер!
— На пятом горизонте, в пласту «Рудольфа», надо сменить стоянки и кровельные балки. В пятом штреке будут работать забойщик Вильк и четыре крепильщика, а вы пойдете в третий штрек тоже с четырьмя людьми.
— Когда спускаться, пан штейгер?
— Как всегда. В шесть.
В шесть часов мы были внизу. Было нас десять, одиннадцатый — штейгер Зоммерлик. Когда я шел на шахту, небо затянулось тучами. Ага; подумал я будет дождь! И стало не так досадно, что мне не доведется отметить этот праздничный день.
Штейгер разделил нас на две группы. Дал последние указания. Сказал, что придет к нам во второй половине смены. Примерно около двенадцати. Потому что вниз спустятся еще три монтера и он должен проследить за их работой у трансформатора.
— Ну, значит, все! И дай бог удачи! — закончил он.
— Дай бог удачи, пан штейгер!
Все вместе мы дошли до перекрестка, а затем Вильк со своими людьми отправился в пятый штрек, а мы спустились по наклонной выработке в третий.
Взялись мы за работу и сменили шесть стояков и три балки на половине пути от наклонной выработки до забоя, когда это началось. Было восемь часов с минутами. Я хорошо помню.
Первый заметил Кужейка, когда пошел к выработке за стояками. Испугался, прибежал назад.
— Слышите? — спросил, он едва дыша. Видно, он очень спешил, и его астма давала себя знать.
— Что?
— Дым! Чад!..
Вскинули мы голову и потянули носом воздух. В самом деле! Дыма нет, но чувствуется чад, напоминающий запах копченого мяса.
Мы понимали, что где-то горит. Но где?
— Пойдемте к наклонной выработке, там поглядим! — сказал я и подождал, пока все пройдут мимо меня. Шли мы быстро. Перед наклонной выработкой нам преградил дорогу дым. Сперва редкий, потом более плотный.
— Назад! — приказал я. Люди заколебались.
— Нам не пройти сквозь дым! Видите ведь! Вернемся и разберем перегородки!
Короткие, десятиметровые ходы соединяли наш штрек, так же как и все остальные штреки, с вентиляционными стволами, проложенными параллельно. Через каждые тридцать метров в угольной целине пробивали ход и таким образом соединяли два штрека — транспортный и вентиляционный. По мере удлинения штрека прокладывали новый ход, а предыдущий закрывали перемычкой, чтобы воздух не уходил в вентиляционный ствол раньше, чем дойдет до забоя.
Теперь меня беспокоило, как бы дым не дотянулся до забоя, где мы укрылись; важно было, чтобы, выползая из выработки, он сразу попадал в вентиляционный ствол.
Я распорядился разобрать перемычки в первых ходах. Люди задыхались от дыма, кашляли, но настойчиво их разбирали. Разобрали десять перемычек.
Как я уже говорил, со мной были четверо крепильщиков.
Астматик Кужейка — ему давно уже следовало быть на пенсии, да он не хотел. Отбивался всячески, потому что, как он уверял, обязательно сдохнет без работы.
Остружка — по профессии плотник. Бросил плотничье ремесло на земле и пошел в крепильщики. Он любил выпить в день получки, но жена у него была предусмотрительная, и ему это редко удавалось. Она сторожила у ворот шахты и, завидев Остружку, подходила и заводила такой разговор:
— Пойдем, мой мальчик, домой! Я для тебя славный обед состряпала! Запеканку со шкварками! Пойдем!
— Катись, баба, а то как дам в зубы! — отмахивался Остружка, однако без всякой уверенности в голосе. А жена, особа весьма красноречивая и энергичная, клялась, что задаст ему дома такую трепку, что господи помилуй! Тогда Остружка отдавал ей конверт с зарплатой и оба шли домой. По дороге жена все-таки покупала ему водки.
— Чтоб не канючил, чертов слизняк! — говорила она, смягчившись.
Молодой Пасербек был известный франт, он смазывал волосы бриллиантином и бегал за девушками. Иной раз ему здорово доставалось, когда он являлся на танцульки попытать счастья на чужой улице. А иногда удавалось снискать расположение партнерши по танцам. У него уже было трое внебрачных детей, и кассир при выдаче зарплаты удерживал с него часть денег на алименты, а Пасербек грозил, что в один прекрасный день смотает удочки. Убежит — и кончено, а там ищи ветра в поле!
Четвертый, Мацей Кухарчик, был любителем голубей. Он хвастал, что его «почтари» получают премии, что одного из них он выпустил в Гдыне, а тот спустя три дня вернулся в его голубятню. Он уверял, что голуби куда умнее людей. Величайшими своими врагами считал немцев и кошек. Кошки поедали его голубей, а немцы держали его в Освенцимском концлагере. У Кухарчика с его Густлей не было детей, и он обратился в Красный Крест с просьбой дать ему на воспитание ребенка. Одного из тех, кого немцы во время войны вывезли из Польши, а теперь Красный Крест их разыскивал и привозил из Германии на родину. Многие дети, которых отобрали у немецких бауэров, не знали ни имени своих родителей, ни прежнего адреса. Многие уже позабыли польский язык. Когда их привезли из Германии, на сборном пункте происходили трогательные сцены. Мать или отец узнавали своего ребенка, бабушка — внука или внучку, и даже суровые милиционеры отворачивались, чтобы скрыть волнение. А за многими детьми так никто и не приехал, их отправили в детский дом, куда тотчас явились люди, желавшие приютить, усыновить и воспитать сирот, как родных детей.
В их числе были Кухарчик с женой. Они решили взять к себе белокурую пятилетнюю девочку, худенькую и робкую. Она покорила их сердце. Девочка слабо знала польский и хорошо говорила по-немецки, а о себе могла сообщить всего-навсего, что зовут ее Ильза, и что Mutti[47] ее била, и что там, где она жила, было еще восемь человек детей. И что потом Mutti отвела ее в дом, на котором был флажок с красным крестом, и отдала ее какой-то пани в белом чепчике, и на этом чепчике тоже был красный крест. А потом девочка ехала да ехала, пока не приехала.
У Кухарчика в Херне был брат, он эмигрировал во время массовой безработицы в Силезии и получил работу на одной из Херненских шахт. Женился он на немке, и с тех пор связи между братьями оборвались. Кухарчик, бывший силезский повстанец, не мог примириться с тем, что его младший брат Герберт женился на немке и едва ли не отрекся от своего польского происхождения.
Спустя лет пять после войны он получил письмо от своего брата, Герберта «Кухартшика». В письме этом Герберт на корявом польском языке жаловался, что пережил тяжелые дни, и хотя он, как шахтер, был освобожден от военной службы, но было голодно, голодали они и в первые годы после войны, а теперь, славу богу, положение немножко улучшилось. Однако он хочет рассказать не об этом, а о своем горе. Очень большом горе! Народили они девять душ детей, а поскольку после войны отчаянно бедствовали, жена его, Дорота, отдала одну девочку в польский Красный Крест как ребенка, будто бы привезенного из Польши. И вот пятилетняя Ильза уехала в Польшу, и теперь их мучит совесть и им страшно, что собственное их дитя скитается где-то в Польше, а там, как пишут газеты, голод, нужда и во всем недостаток.
— Поеду к брату! — решил Кухарчик, потому что у него возникла тревожная мысль, не дочка ли Герберта его Ильза. Имя такое же, да и возраст совпадает…
— Поеду к брату! — объявил он жене. — Хочу убедиться!
— А вдруг окажется, что наша Ильза их дочка?
— Ничего им не скажу. Девочку не отдам!
И он принялся усердно хлопотать в разных учреждениях, наконец получил паспорт и поехал в Херне, к своему брату Герберту Кухартшинку.
Дома осталась Густля с приемной дочкой Ильзой. Девочка подрастала, обещая стать красавицей.
— Ильза, вспомни, как было! В польский Красный Крест тебя отдала родная мать?
— Не знаю, была ли она мне матерью, мама. Я ее так называла — Mutti. Но, пожалуй, она мне не мать. Разве мать отдала бы своего ребенка?
— Понятное дело!
А Кухарчик, едучи в Херне, цепенел при мысли, что Ильза может в самом деле оказаться дочкой брата. Приехал и убедился, что так оно и есть. Жена Герберта со слезами поведала ему, что у них ведь было столько малых детей, трудно было их прокормить, все тогда голодали, а Ильза была девочкой слабенькой, и ее двояшка Герта…
— Значит, Ильза и Герта близнецы? — перебил ее Кухарчик.
— Близнецы, дорогой деверь, — лепетала по-немецки жена Герберта, а сам Герберт сидел рядом мрачный, слушал и молчал.
Потом оба стали плакаться, что отдали ребенка, а теперь их мучает совесть и они ничего бы не пожалели, лишь бы найти Ильзу. И просили Кухарчика, чтобы он помог им разыскать девочку.
— Отчего же нет, можно помочь. Ведь ты мой брат… Вот если бы у меня была фотография вашей Ильзы, знаете, это облегчило бы поиски. Да и Красный Крест помог бы…
Жена Герберта порылась в ящике стола и достала фотографию Ильзы.
«Иисусе, Мария! — испугался Кухарчик. — Ведь это моя Ильза!»
Ни словом, однако, не обмолвился, забрал фотографию и вернулся в Польшу. Обещал брату и его жене сделать все, лишь бы найти Ильзу.
А дома сказал Густле, что их Ильза действительно дочка его брата.
— А может, все-таки нет? — уговаривала мужа Густля.
— Его. Они мне сказали, что у их Ильзы была родинка, этакий Muttermal, на левом плече. А вернее, на левой лопатке.
— Иисусе святый! У Ильзы как раз родинка на левой лопатке! Что же теперь делать?
— Ребенка не отдадим — и все. Ильзе ничего не говори. Она уже наше дитя, наша Ильза.
Все это рассказал мне Кухарчик, когда мы сидели в забое в третьем штреке и ждали либо спасения, либо смерти. А остальные с таким волнением слушали историю Ильзы, что на время забыли о пожаре, о дыме и неотвратимо приближающейся гибели.
— Я в кино однажды такой фильм видел! — вмешался прилизанный Пасербек.
Странный он был человек. Несмотря на опасность нашего положения, несмотря на угрозу смерти, он то и дело подходил к лампе, доставал из кармана зеркальце, гляделся в него и приглаживал рукой напомаженные волосы.
— А я как-то читал книжку про Розу из Танненберга, и в той книжке написано было что-то вроде похожее! — заметил Остружка.
Потом снова воцарилась тишина. Все помрачнели, задумались. Проходили минуты, а нам казалось, что проходят часы. На стояке горели две лампы, три мы погасили ради экономии. На соседнем стояке тикали часы Кухарчика. Таков уж был обычай — один из бригады в забое вешал на стояке свои часы.
Вокруг была черная, тяжелая, напряженная тишина. И в этой тишине казалось, что часы Кухарчика не тикают, а грохочут. Кроме часов слышно было наше дыхание.
У Кужейки дыхание было свистящее. Известное дело — астма!.. Время от времени поскрипывал стояк. Иногда осыпалась угольная крошка с кровли или с отбоя. Ее шорох был для нас страшнее сильнейшего грохота. Минуты тянулись часами.
Десять перемычек уже разобрано. Значит, дым сюда не дойдет, ведь ему открыта более короткая и удобная дорога — к вентиляционному стволу. По всей вероятности, спасательные команды стараются нас выручить…
Ну а мы что должны делать?
Никто из нас этого не знал. Старый Кужейка поднял лампу и посветил мне в лицо. Взгляд у меня был твердый и злой. Остружка, Пасербек и Кухарчик тоже ждали моего слова.
— Почему ты молчишь? — спросил Кужейка.
— Почему ты ничего не говоришь?
— Не свети мне в глаза! — сказал я, взяв себя в руки, и отвел от лица лампу. — Что теперь будет? Да ничего!
— Как ничего? Сдохнем!
— Еще не пришло время издыхать!
— Наползет дым… — прошептал Остружка.
— Не должен наползти!
Пока я разговаривал с Кужейкой, остальные поднялись и тоже смотрели мне в глаза. Я понимал, что в их сердца проникает страх и они ищут у меня защиты. И я подумал: если мне удалось силой взгляда усмирить самого дьявола, то уж как-нибудь я развею страх у моих товарищей. И они сели, внешне вроде бы успокоившись. Я взглянул на свои часы. Два часа пополудни. Значит, мы здесь уже восемь часов. Интересно, что с группой Вилька? Они отрезаны так же, как и мы. Если Вильк догадался разобрать перемычки у входа в штрек, как я это сделал, то они находятся в таком же положении, как и мы. Сидят в забое и ждут спасения.
Да! Сидят в забое и ждут спасения. Однако придет ли спасение вовремя? Так я тогда думал и заставлял себя не поддаваться страху. Это было нелегко. И я боялся, только мне нельзя было это показать. Иначе люди сошли бы с ума.
Я был уверен, что спасательные команды отправились нам на выручку, давно уже отправились, только им трудно пробираться через линию огня. Я не мог понять, чем вызван пожар. Либо подкачал трансформатор, либо стерлись оси у транспортной ленты и загорелась резина. Судя по дыму, это, пожалуй, горят не ленты. Скорее, это чад горящего масла и запах гари. И, значит, дело в трансформаторе!
Когда мы разбирали десятую перемычку, я сказал, что этого достаточно. Для чертова дыма теперь открыт кратчайший путь, и он может свободно тянуться в вентиляционный ствол. Лишь бы не выключили вентилятор!..
Известно, если вентилятор работает, внизу чувствуется движение воздуха. И пожару легче распространиться вширь. Однако можно ведь перекрыть место, охваченное огнем.
Я ничего не мог придумать, не мог собраться с мыслями. В одном я был уверен: спасательные команды стараются нас выручить. Но если они не придут вовремя, дым и чад доберутся до забоя, и тогда…
Снова наступила тишина. Люди сидели, глубоко задумавшись. Я знаю, о чем думал каждый из них. Кужейка жалел, что отказался выйти на пенсию, когда ему советовал управляющий. Остружка, пожалуй, ни о чем не думал, кроме одного — каким образом спасти свою жизнь. Пасербек извергал проклятия и чертыхался, потом замолчал и стал шагать взад-вперед по штреку.
— Я еще и не жил-то, а теперь тут подыхай! — вдруг вырвалось у него, и он стал кусать пальцы.
— Не распускай, дурак, нюни! — сказал я ему строго.
— Вам-то что! — огрызнулся он. — Вы старый дед, у вас жизнь позади, а я молодой…
— Вонючий мозгляк! — заорал я. — Кто тут говорит о смерти? Чуть огонек занялся в выработке или еще где-нибудь, ты сразу в штаны наложил! Да ведь мы тут в безопасности, дым сюда не дойдет! А воздуха нам хватит, пожалуй, на неделю!.. И до того времени нас спасут!..
Эти слова я произнес очень уверенно. Так, будто я, к примеру, говорил о том, что мне, мол, докучает блоха, но я ее поймаю. Пасербек поглядел на меня. Я собрал все силы и глядел в его перепуганные глаза. Я поднял лампу.
— Вы так думаете? — спросил он. По его тону я почувствовал, что он мне поверил.
— Сопляк! Неужели я трепаться буду? — грубовато ответил я. Успокоившись, он сел.
Я посмотрел на Кухарчика. Он съежился. Подбородком уперся в колени. В тусклом свете двух ламп он был похож на роденовского «Мыслителя», копию которого я видел, кажется, во Флоренции… Да не важно где.
Я знал, что он думает об Ильзе и о голубях. А скорее, только об Ильзе. Из его рассказа я понял — Ильза занимает в его жизни главное место. И теперь его мучили мысли о том, что будет, если Герберт узнает, что Ильза стала приемной дочерью брата. Зря он здесь проболтался. Еще разнесут по свету… Могут разнести, если мы выйдем отсюда. Мало-помалу я начал терять надежду.
Я посмотрел на часы.
Уже десятый час мы сидим тут, отрезанные от мира пожаром. Проклятая тишина!.. Даже в ушах звенит! Дзинь, дзинь, дзинь!.. Словно кто-то звонит отходную на башенке кладбищенской часовни.
— У вас тоже звенит в ушах? — нарушил тишину астматический голос Кужейки.
Никто не ответил. Вопрос Кужейки показался глупым. Все сидели молча и слушали, как тишина вызванивает отходную. Ведь если спасатели не придут — нам конец! Доберется сюда дым — и крышка! Хоть бы по крайней мере не долго мучиться!
И я так подумывал.
Тут у меня мелькнуло подозрение: а вдруг товарищи примирились с мыслью, что помощь не придет? А ведь они знали, так же хорошо, как и я, что спасатели пробиваются в черном удушливом дыму — первый идет на ощупь, прокладывает дорогу с помощью кайла. Он обвязал себя канатом, а товарищи прицепились к канату крюками у поясов и идут за ним следом, как «Слепые» Брейгеля. Те держатся за палки, а спасатели держатся за веревку и осторожно ступают. Лампы тускло мерцают в дыму. Старший идет последним и следит. Если канат дернулся — значит, кто-то споткнулся, упал. Либо кто-то из четверки потерял сознание, потому что дым просочился под маску. Старший ждет. Канат натянется — все в порядке. Если повиснет неподвижно, надо отступать и тащить за собой угоревшего. Звать, спрашивать бесполезно — маска глушит голос. Надо проверять руками.
Я представлял себе крестный путь такого отряда. Задыхаются, мокрые от пота — температура все время повышается, сбиваются с дороги, сворачивают, ищут прохода боковыми путями, чтобы попасть в пятый и третий штрек. Потом уходят — больше нет сил. Идет следующая команда. Третья, десятая… И каждая отступает с полдороги.
Но одиннадцатый отряд дойдет — утешал я себя, чтобы не поддаться сомнению. Если не одиннадцатый, так двенадцатый! А вдруг никто не дойдет?
Я уже и сам недоумевал, почему так легко мирюсь с мыслью, будто ни одна команда не дойдет. Удивляло меня и то, что мне без труда удалось подавить бунт моих товарищей. Когда я дал Пасербеку по роже, он сразу замолчал. Все началось с того, что он схватил лампу и, истерично ругаясь, побежал к наклонной выработке. Я догнал его и хряснул в зубы. Он упал, вскочил и кинулся на меня! Точным приемом, которому меня научил японец в Риеке, я свалил его во второй раз и отхлестал по щекам. Он присмирел и вернулся в забой.
Попробовал было взорваться и астматик Кужейка. Проклиная меня и заражая неверием остальных, он схватил лампу и, пошатываясь, двинулся к выработке.
— Вернись, — твердо сказал я и придержал его за руку.
— Пусти, чертова холера! Я не желаю тут издыхать по твоей милости! — кипятился он.
— Да ведь там смерть!
— Дерьмо там, а не смерть! Пусти меня! Пусти!
Я легонько ударил его по лицу. Подействовало. Страх его исчез, вытаращенные глаза перестали бегать по сторонам, он пришел в себя. Я отвел его в забой.
А время шло.
Я поглядел на часы. Было уже четыре часа дня. Товарищи мои съели хлеб, улеглись, попытались уснуть. Один за другим они впадали в дремоту, засыпали.
Я представлял себе: вот спасательные команды продираются по вентиляционному стволу. Другим путем им, пожалуй, не пройти к нам и к Вильку, в пятый штрек. Хорошо по крайней мере, что Кухарчик догадался метить дорогу. Нарисовал на листке бумаги стрелку и всунул в щель в стояке. Листок белый, должен броситься в глаза спасателям. Листок им скажет, где нас искать.
Потом мы укладывали на пласте рубашки, пиджаки и башмаки. Рукава рубашек и пиджаков указывали направление.
В конце концов все заснули, а мне пришлось дежурить. Кужейка лежал, свернувшись калачиком, и тяжело дышал.
Остружка растянулся на спине и захрапел. Пасербек спал спокойно. Кухарчик что-то бормотал сквозь сон.
Я снова проверил время. Семь часов вечера. Иначе говоря, прошло уже двенадцать часов, как мы отрезаны от мира. А мне казалось, будто время остановилось и стоит, словно спешить ему некуда. Неужели существуют два вида времени?
«Дух гор глаза мне межит!» — подумал я. Моя мать всегда так говаривала, когда ее одолевал сон. Теперь мне тоже дух гор межил глаза. Веки отяжелели, я с трудом поднимал их. Уселся поудобнее. Горели две лампы, прикрепленные крюками к стоякам. Звенела тишина. Такая тишина усыпляет.
В этой проклятой тишине, нарушаемой только дыханием спящих, легоньким потрескиванием стояков и балок, шелестом скатывающихся камушков и другими странными звуками шахты, казалось, громче всего стучали часы Кухарчика.
Я отгонял от себя сон, ведь я обязан был бодрствовать, но сон наступал все сильнее, сладостным грузом ложился на веки. Даже не знаю, как получилось, но я заснул.
Приснился мне Ондрашек. Будто сижу это я в корчме и смотрю, как он танцует со своей милой. И все его разбойники тут, тоже с девушками, а потом Ондрашек переворачивает кружку кверху дном. Видно, приближались дозорные! А Дорота, милашка самого атамана, запустила руку в карман передника, схватила горсть мака и давай рассыпать вокруг. Все заснули — музыканты, разбойники, даже еврей-корчмарь захрапел возле бочки, из которой цедил в кувшин вино для разбойников. Все крепко спали, вино лилось из бочки в подставленный кувшин, переливалось, и мне было жаль вина. Мне хотелось подойти к бочке и завернуть кран. Но я не мог встать.
В конце концов мне удалось хоть и не встать, но поднять отяжелевшие веки. Сперва с удивлением, потом с ужасом я увидел, что нет Кухарчика. Остались его часы, одна горящая лампа и три спящих товарища, а Кухарчика нету!
Я вскочил, потому что уже успел раскумекать, что тут к чему. Бужу своих товарищей.
— Вставайте, черт вас подери, Кухарчик полез в дым! — кричал я.
Они вскакивают, протирают глаза, но никак не проснутся. Я пинал их ногами, бил кулаком, чтобы расшевелить. Потом зажег три лампы и приказал бежать следом за мной. Мне было все ясно. Пока я спал, страх попутал Кухарчика. Мы бежали пригнувшись, потому что кое-где кровельные крепления были поломаны и коленом торчали над нами. Можно было врезаться головой в такое проклятое колено. Гулким эхом отдавались наши шаги. Свет ламп колебался, и вокруг нас прыгали уродливые тени. До десятой перемычки оставалось около трехсот метров. Штрек здесь имел небольшой изгиб, так что мы не могли увидеть свет от лампы Кухарчика. Миновали поворот — есть свет! Мутный, но есть!
Я бежал впереди. За мной Пасербек. За ним Остружка. За Остружкой далеко позади — Кужейка. Известное дело — астма!..
Вдруг свет лампы Кухарчика стал еще больше мутнеть, и я понял, что он лезет в дым.
— Кухарчик! Кухарчик! — звал я. Свет рыжел, расплывался в черноте.
— Кухарчик!.. Ильза!.. — крикнул я, что было мочи. Святое, магическое слово! Ильза! Пятно остановилось, постепенно проясняясь. Я бежал, уже почти не дыша. Лишь бы поспеть вовремя, пока Кухарчик не отравился! Я добежал до черной, клубящейся стены дыма. Дым вырывался из штрека и полз к перемычке. К десятой перемычке. В дыму, совсем рядом с его волнистыми границами, я разглядел Кухарчика. Он шатался.
— Ильза, Кухарчик!.. — Я уже не кричал, а ревел.
И он отступил. Я видел! Он отступил, как бы собрав остаток сил, с минуту шатался, потом рухнул. Лампа выпала у него из рук и погасла. Я поставил свою лампу на породу, набрал воздуха и прыгнул в дым. Меня обдало его горячим дыханием. Я нагнулся, схватил Кухарчика за ноги. Потянул его из дыма. Все еще не дыша, чтобы не набрать в легкие смертельный угар. Кто-то подбежал, помог мне. Это был Пасербек. Мы выволокли Кухарчика. Потом и остальные подоспели, вчетвером мы отнесли его подальше от десятой перемычки. Там уже был сносный воздух, хотя чертовски пахло копченым мясом.
Угорел он все-таки, дьявол, и мы долго ждали, что будет. Донесли его до забоя. Если у него начнется рвота — все в порядке. Если нет — его песенка спета.
Началась рвота. Я поддержал его голову. Теперь уже все в порядке. Кухарчик спасен!..
— Дурень ты, дурень! — добродушно выговаривал я ему, когда он давился, стонал и задыхался. Все наклонились над нами и таращили в удивлении глаза.
Потом я уложил его. Под голову подсунул пиджак. Он тяжело дышал, но уже был в сознании. Глаза у него были закрыты.
— Спасибо тебе, — через силу пролепетал он.
— Лежи, чертов дед, и не скули! — дружески обругал я его — Ведь тут речь идет об Ильзе! — добавил я.
— Ильза! — умиленно прошептал он, и из-под опущенных век выползли две крупные слезы.
— Ну, видишь, чертяка! — ворчал я.
— Ильза… Ильза… — с трудом бормотал он.
— А теперь лежи тихо! И вы тоже! — прикрикнул я на всех.
Меня рассмешила их покорность. Они послушно легли на свои жесткие постели, вертелись, переворачивались с боку на бок и затихли, как примерные дети.
Я снова поглядел на часы.
С того момента, как мы спустились, прошло пятнадцать часов! Пятнадцать часов нас отделяет от мира бушующая стена пожара!
А их все нет и нет! Может, спасательные команды уже отступили? Может, через минуту остановят вентилятор — и тогда смерть?.. А, пусть все катится к черту!..
Не хотелось мне умирать в этом проклятом штреке, как крысе, запертой в коптильне! У меня позади бессчетное множество приключений, смерть не раз заглядывала мне в глаза, и всегда я оставался цел и невредим. А теперь мне предстояло медленно издыхать в дыму! Да к черту все это!
Я злился до бешенства.
То, что Кухарчик поддался страху и полез в дым, я понимал. С таким страхом, страхом беспомощности, я не раз сталкивался хотя бы на итальянском фронте! Или в концентрационном лагере! Такой страх лишал человека разума, сводил с ума.
Бедняга Кухарчик убедил себя, будто спасется от смерти, пройдя сквозь дым. А впрочем, черт его знает, что он думал! Скорее всего, вообще не думал!
Людей, казалось, доконало это происшествие. Они снова постепенно засыпали. Теперь я уже был уверен, что никто из них не станет безумствовать. Три лампы я погасил, две оставил и подвесил их на крюках к стоякам. Мрак уплотнился и обступил нас черной стеной.
Я насторожился, потому что придавившую нас тишину прорезали еле уловимые звуки. Я стал искать причину удивившего меня шума и обнаружил, что Остружка лежит на спине, сложив руки на животе, словно для молитвы, и губы у него шевелятся. Я напряг слух — молится!.. Пускай его молится!
Чтобы не уснуть я встал, взял лампу и не спеша пошел в глубь штрека. Я подумал: пойду медленно, очень медленно, пока не дойду до десятой перемычки. Проверил время. Мы тут уже шестнадцать часов без нескольких минут.
Я шагал, пригнувшись, и тянул носом воздух. Чистый-то чистый, только пахнет, как в коптильне. Неприятный этот запах усиливался по мере приближения к десятой перемычке. А может, надо было разобрать перемычку в одиннадцатом ходе?
Я дошел до перемычки и остановился. Дым полз, как мерзкий гад. Черный, свернувшийся в клубок, омерзительный гад! Значит, где-то в выработке еще горит! Я подумал: а пожар-то, должно быть, большущий!
И пока я стоял перед живой стеной дыма, вползающего в тоннель, меня вдруг стало одолевать странное желание успокоиться раз и навсегда, войти в полосу дыма и покончить с собой.
«Дурак! Дурак!» — мысленно ругал я себя.
Я услышал за спиной шаги. В глубине штрека увидел свет, плывущий из забоя. Что за черт? Неужели опять кого-нибудь обуял страх?
— Кто идет? — крикнул я.
Человек с лампой не ответил. Свет медленно приближался. Передо мной стоял Кухарчик.
— Что вы тут делаете? — неуверенно спросил я, заподозрив, что он собирается вторично лезть в дым.
— Ничего! Захотелось быть с вами… Так как-то легче на душе… Знаете, это я из-за Ильзы… Как вы думаете. Рыбка… — Он не закончил, потому что мы услышали какой-то размеренный, очень слабый треск из самой гущи дыма.
— Что это? — спросил Кухарчик.
— Не знаю! Пожалуй, спасательная команда!
— Иисусе! Мария!
— Тише, тише! Может, и не они…
Он затих, подался вперед, приложил к уху ладонь и слушал. Я сделал то же самое. Треск приближался, явно приближался, становился все отчетливее, громче! Значит, все-таки люди! Спасатели!
Нас лихорадило от волнения. Мы напряженно ждали. Хотя штрек здесь прямой, свет ламп мы не увидим, они утонут в дыму. Ведь люди идут на ощупь. И снова мне вспомнились «Слепые» Брейгеля. К черту Брейгеля!
Вот! Из черноты дыма медленно вылущивается пятно света. Потом другое, третье… Первое пятно растет, меняет цвет. Грязный темно-коричневый цвет превращается в рыжий, потом в желтый… Из дыма вынырнул человек в маске, за ним второй, третий, четвертый, пятый… В масках они выглядели, как чудища с длинными свиными сморщенными рылами. Вместо глаз — выпуклые стекла. Держатся за канат. Идут, словно не веря, что выбрались из дыма. Видно, что они страшно измучены.
Наконец вышли, остановились возле нас. Первый поднял лампу и осветил нас. Потом медленно отстегнул ремешки на затылке и снял маску. Вспотевшее человеческое лицо. Губы стиснуты, в глазах упорство.
— Живы? — спрашивает, и голос у него какой-то хриплый.
Остальные спасатели тоже снимают маски.
— Живы? — восклицает кто-то из них.
— Живы! — ответил я. — Все живы!..
— Черт подери, а мы думали, что не дойдем! Мы уже двадцатая команда. Все отступили…
— Но нам проложили дорогу! — Это заговорил старший. Лицо молодое и гордое. Замечательное человеческое лицо! — А где все ваши? Должны быть еще трое!
Они в забое. А Вильк из пятого штрека?
Их спасла тринадцатая команда часа четыре назад! Ну идемте! У нас для вас аппараты и маски… — добавил он и пошел вперед. За ним спасатели. Мы стояли, будто зачарованные, не веря своим глазам.
— Приятель! — шепнул Кухарчик. — Вот, держи! Возьми! — и стал совать мне в руку свои часы.
Я отбояривался, но он настаивал:
— Возьми, дружок! За Ильзу! Возьми!..
Я взял, и теперь часы Кухарчика — одна из семи удивительных памяток — тикают в шкафу среди своих собратьев.
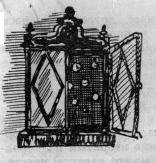 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |