"ПАРИКМАХЕРСКИЕ РЕБЯТА. Сборник остросюжетной фантастики" - читать интересную книгу автора (Скаладинс Ант, Гимадеев Станислав, Етоев...)
Александр ЕТОЕВ В СКАЗКЕ МОЖНО ОКАЗАТЬСЯ…
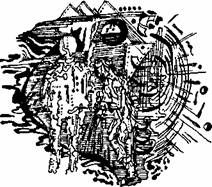 |
На площади Дантеса посередине стоял высокий, метра под два; цельночугунный красавец в кавалергардском мундире. Вокруг было пустынно, лишь стайка городских голубей вспархивала лениво и, покружившись над выпуклой мостовой, с шумом шла на посадку. На памятник голуби не садились.
От площади мы пошли по неширокой улице, конец которой терялся в цыганской пестроте стен, в изломах далеких крыш и пепельных лохмах текущего с неба тумана.
Я не смог прочитать название улицы — все таблички были густо замазаны черной блестящей смолой. Дома стояли по сторонам плотно — мышь не проскочит, и странно — по одной стороне все они были высокие, даже порой казалось, что их стены загибаются книзу и, наклоняясь над улицей, высматривают что-то на мостовой. На другой стороне, наоборот, дома стояли как на подбор низенькие, двух-трехэтажные, и угодливо, по-человечьи щурились маленькими оконцами в тени высоких каменных покровителей.
— Т-с-с! — сказала Маришка, когда мы проходили мимо большой темной громадины. — Здесь опасно, молчи.
И словно в ответ на ее тихий голос из окна на втором этаже вылетела круглая двухпудовая гиря. Она упала в шаге от нас, и асфальт треснул и провалился, обнажив глину, перемешанную с песком. Из трещин во все стороны побежали муравьи.
От неожиданности я подался в сторону, прикрывая собой Маришку.
Но из пустого проема окна ничего больше не вылетало.
— Я же говорила, скорее…
Мы припустили бегом и миновали опасное место. Бежали мы недолго, но я задыхался. Воздух в городе был какой-то другой — и пах по-другому, и был непривычно густ. К такому я не привык. Он не проходил в глубину, а набивался в горле, и во рту после каждого вдоха оставалась сухость и горький сернистый вкус. Мне все время хотелось сплюнуть, но при девочке я не мог.
— Сюда, сюда, ну что ты, как маленький, — сказала Маришка, когда я, замедлив шаг, хотел было отдышаться, и оттащила меня за рукав к самой стене дома, — не видишь, что ли, там — дядька.
Куда Маришка показывала, стоял длинный худой человек. Стоял человек неестественно прямо, старался тянуться вверх, и без того вытянутое его тело казалось натянутым, как басовая струна — вот-вот оборвется.
Человек был в солдатских, сильно поношенных сапогах и широких штанах, затянутых на животе ремнем. Поверх расшитой косоворотки висел самый обыкновенный пиджак, а в руках дядька держал бинокль, сильно вдавливая его в глаза.
— Пригнись, если увидит, придется уносить ноги.
— Маришка, кто он такой? Почему у него бинокль?
— Т-с-с, молчи. Он может услышать. Это, — Маришка понизила голос, — Глаз Улицы.
— Что? — Я ничего не понял. — Какой улицы? Этой? А почему — он человек?
— Да не человек он, не человек. Не видишь, что ли, не человек, а дядька. Разве такие человеки бывают? Насмешил…
Я хотел присмотреться к нелепой фигуре внимательней, но девочка не дала. И откуда взялась сила в ее слабой детской ручонке? Она тянула меня вперед, подальше от уличного стража, и я видел, я чувствовал, как запястье ее руки побелело, сделалось твердым и тонким от напряженья, а сама она как-то сгорбилась, перегнулась вперед и была похожа сейчас на маленькую испуганную старушку.
Дядька остался позади. Нас он не заметил. Хотя — или мне показалось — но в блестящем кольце окуляра распух на мгновенье и тут же опал и исчез черный, как дуло, зрачок.
— Ты вроде и большой, а как маленький. Все учить приходится. Ну куда же ты, куда? Аи!
Она чуть не плача отталкивала меня от небольшой грязной лужицы, в которую я случайно едва не ступил. Маришка сильно дышала и била меня своими маленькими кулачками. Я был выше ее, и удары приходились мне на уровне пояса. Поэтому я осторожно удержал ее руки в своих.
— Маришка, я только что приехал, ты на меня не сердись. Я в вашем городе первый раз и мало чего знаю.
Кое-что я все-таки знал.
И до встречи с девочкой, когда меня на какой-то из улиц оглушила, придавила к стене лавина нечеловеческих звуков. Яростных, злых — словно сумасшедший оркестр по команде безумного дирижера вдруг ударил не в лад, засвистел, затрубил, застучал ногами по клавишам, дождавшись наконец первого случайного слушателя. Там, у стены, эта музыка чуть с ума не свела. Она казалась страшнее стократ еще потому, что звук шел ниоткуда. Он бил прямо из воздуха, из пыльной воздушной каши, которая доверху наполняла улицу.
И после — когда мы шагали рядышком, и я вздрагивал и оглядывался боязливо при каждом Маришкином предупреждении.
Потом-то я попривык, хотя бы внешне не открывая испуга, — все-таки неприлично, взрослый человек, а трусит в присутствии незнакомой девочки.
Но сдерживаться получалось не всегда.
Руки девочки вздрагивали. Я держал их осторожно, боясь причинить ей боль.
— У нас такой город. Он очень опасный, когда не знаешь. Видишь, — она показывала на лужу.
Я присмотрелся, но ничего не увидел. Набежавшая на лужу рябь замутила водяное пятно. Я хотел подойти ближе, но Маришка вцепилась в меня, не давая этого сделать. Наконец я разглядел.
«Нет, к таким сказкам я не привык. В детстве такие сказки мне не рассказывали», — подумал я, сдерживая наступающую на сердце тошноту.
Из лужицы сквозь красноватую муть воды вверх и как будто не на меня смотрело… Лицо, не лицо — что-то страшное, бледное, круглое, словно блин, и с красными немигающими глазами.
«Зима… Ртуть… Иней в холодном погребе, — всплывали из темных углов памяти непрошеные слова, — здесь не сожгут, костров здесь не бывает. Здесь утягивают на дно и замораживают живьем».
— Что… это? — спросил я трудно и тихо, и голос мой был чужой, потому что Маришка взяла мою руку в свою и стала гладить теплой ладошкой мою холодную и неживую.
— Не знаю, я не знаю. В школе нам не говорили. Мальчишки во дворе рассказывают, что это Болотный Хозяин. Но ты не бойся, он из лужи не вылезает, ждет, когда кто-нибудь не заметит и провалится к нему сам.
— И такой в каждой луже?
— Это не лужа, это его дом. Лужи бывают после дождя, они высыхают, и мальчишки пускают в них ореховую скорлупу. А эта не высыхает никогда, потому что Он в ней живет.
— Вообще-то я слышала, — говорила Маришка, когда мы отошли от лужи достаточно далеко, — что наш город построили на болоте. Это было очень давно, меня тогда и на свете не было. И мамы не было… Был один старичок, он и сейчас живет в нашем дворе. От него мальчишки и знают. И про Болотного Хозяина от него.
Стал накрапывать дождь. Шел он нехотя, мелко, не набирая силу. С дождем сделалось холоднее.
Я посмотрел на легкое платье Маришки и стал стягивать с себя старую походную куртку. С ней я не расставался во всех своих путешествиях.
— Надень, — сказал я, — надевай, надевай, простудишься.
— Не простужусь, спасибо. Дождь сейчас перестанет, видишь, там небо голое.
По ее виду и голосу я понял, что куртку она не возьмет. Я посмотрел на небо. И правда, серая муть уходила за ребра крыш, и на улице посветлело. Дождь перестал.
— А ты откуда такой?
— Какой, Маришка?
Вопрос прозвучал неожиданно. Отвечать на него не хотелось.
— Ну, неумелый, нескладный… Ничего не знаешь. Чуть к Болотному Хозяину не попал…
— Таким, наверное, родился. А вообще это очень долго рассказывать. И… трудно.
— Если трудно, не рассказывай. Нам налево.
— А что там?
— Ничего, просто другая улица, А прямо никто не ходит.
Я уже перестал удивляться, но спросил, показывая вперед:
— Там что, что-нибудь вроде этого… Глаза? или Хозяина?
— Нет, — ответила Маришка спокойно, — там Трещина.
— Ага, — сказал я и больше спрашивать не стал.
«Трещина так трещина. Нельзя так нельзя». Спрашивать об очередных ужасах не хотелось. Сердце болело, и очень хотелось домой.
Я посмотрел на часы. До Нулевого Часа оставался час с небольшим.
«Так долго», — подумал я и вздохнул.
Об экспресс-возврате я и думать забыл. Просто не мог подумать, когда рядом со мной Маришка.
— А? — спросила девочка, поворачивая ко мне лицо. — Что ты сказал?
— Ничего. Я хотел спросить, вот ты говоришь, школа. А что, в вашем классе много ребят?
Маришка задумалась. Она наморщила лоб и стала считать, выбрасывая из кулачка пальцы.
— Четыре, три, два, один… В первом классе — четыре, у нас во втором — трое…
Удивившись, я оборвал ее непонятный счет.
— Так мало ребят? Маришка, сколько же всего у вас в школе классов?
— Один. То есть, классов, их пять, но помещение одно. У каждого класса — своя скамейка. Первый — самая длинная скамейка, на четверых ребят. Три девочки и мальчик. У нас — трое. Я к еще две девочки.
— Маришка, — я не дослушал, — а почему?
— Что почему?
— Почему так мало ребят?
— Почему-почему, я говорю, такой город. Трудно жить. А что, у вас по-другому?
— Где… у нас? — кажется, я покраснел.
— Ну… у вас. Ведь ты же сказал, что приехал из другого места.
Смущенный, я пожал плечами и отвечать не стал.
Что я мог ответить этой маленькой незнакомой девочке? Что есть и другие места; где все не так и жизнь идет по-другому? Где не сидят, притаившись в лужах, жадные до живого мертвецы? Где из окон домов не летят в твою голову гири? Ну, скажу, а что дальше? Рана на маленьком сердце? Мечта о несбыточном? А почему о несбыточном? А ты здесь на что?
За разговором и мыслями про себя мы свернули на боковую улицу.
Она шла под уклон, была бугриста и косовата. Ноги все время норовили запутаться в лабиринтах, сложенных из выпирающих невпопад булыжников. Идти было непривычно трудно, а тротуар под стенами тянулся такой узкой до невозможности полосой, что волей-неволей приходилось мучиться, идя по камням.
Метрах в ста впереди виднелось что-то черное и большое. Я пригляделся: опять памятник. Уж очень сильно кого-то одолевала тоска по вечности. Кого? Мертвецов из луж? Или в городе есть и другие хозяева?
— Маришка, а эти памятники, там, на площади, теперь этот — впереди, давно их поставили?
— Их поставили, когда строили город. Очень давно. У нас их много, не только эти. На каждой площади, в скверах, просто на улице, во дворах.
— Даже во дворах? А ты знаешь, кто такой, например, Дантес? Или вон там, впереди?
— Конечно. Мы это проходили в школе, мама нам говорила. Они — герои, те, кто строил наш город. Мы должны ими гордиться и брать с них пример.
Я внимательно посмотрел на Маришку. Лицо ее было серьезным. Я ничего не сказал, перевел взгляд на ближайший дом и увидел на угловом ризалите табличку с названием улицы. Она оказалась незамазанной, чистой, лишь слегка поблекшей от времени.
«Улица Неизвестного солдата» — черные буквы красиво ложились на белую эмаль.
Мы дошли до сквера и остановились у низких кустов кизильника, охвативших памятник плотным колючим кольцом. Прохода в кустах не было.
Я стоял и смотрел, Маришка смотрела тоже, но скорее не из любопытства, а просто из-за меня.
Там, куда мы смотрели, за кизильником, за чугунными столбиками и цепью высился постамент — глыба темного камня, а на глыбу, на ее тесаный верх, была посажена башня танка. Люк башни открыт, из люка смотрит, кося глазами, простолицый танкист без шлема. Как живой.
Он-то, наверно, и есть тот неизвестный солдат, в честь которого названа улица. А на башне красной победной краской написано: «Прага-68».
Голова моя затекла. Маришка, которой наскучило это затянувшееся стояние, уже тянула меня от памятника. Мы оставили солдата в покое и пошли. Пройдя с десяток шагов, я не удержался и оглянулся. Мне показалось, что длинный пушечный ствол немного сдвинулся в сторону и смотрит как раз в самую мою спину, ближе к левой лопатке. И танкист уже не косит глазами, а смотрит прямо и пристально.
«Чепуха, — подумал я, унимая нервную дрожь и невольно убыстряя шаги, — сколько в этом городе чепухи».
Маришка теперь за мной едва поспевала.
— Куда ты так… Погоди…
Не мог же я ей сказать, что испугался памятника. Хорош бы ябыл после такого признания.
— Разбежался чего-то. Вроде и улица не под уклон, а ноги сами бегут.
Улыбка, которую я попытался выжать, наверное, более походила на гримасу уличенного в обмане ученика. Но все же шаг я замедлил.
— Смешной ты… У вас там все такие смешные?
— У нас разные, — ответил я, уже не гримасничая, а улыбаясь нормально.
Я вспомнил, что мы о чем-то не договорили. Помешал памятник. Ах да, разговор шел о школе, и Маришка упомянула маму. Мама…
— А папа? Кто он, твой папа?
Голос Маришки был спокоен, а в глазах я прочитал удивление.
— Папа? Что такое папа?
Я смутился и обругал себя за бестактность. Но все-таки Маришкин вопрос прозвучал странно.
— Ну, папа, твой папа…
— Мой? Я тебя не понимаю. Расскажи, что такое папа.
Ну и задачку задал я сам себе. Но Маришка смотрела пристально и надо было отвечать.
— Папа… Это такой человек, взрослый человек, мужчина…
— Мальчик?
— Не мальчик, мужчина.
Я по глазам видел, что Маришка не понимает. Но как можно не понимать таких элементарных вещей. Есть мама, есть папа, что тут непонятного? А Маришка не понимала.
— Мужчина — это большой мальчик. Вот я — мужчина.
— Ты — папа? — в глазах Маришки горел огонек интереса.
— Да, у меня есть дети.
— Мой папа?
— Нет, Маришка, — я смутился, хотя Маришкин вопрос был по-детски прост и наивен, — я не твой папа.
— А… — кажется, девочка разочаровалась.
— Больших мальчиков в нашем городе нет, — сказала она вполне безразличным голосом, — только маленькие.
— Почему? — я искренне удивился.
Маришка ответила так же безразлично и как-то заученно, словно отвечала вызубренный урок.
— Все большие мальчики строят другой город, еще больше, чем наш. Очень далеко.
Я вспомнил:
— А старики? Ты говорила, что у вас живет один.
Я хотел добавить про гирю. Не старик же ее бросил в нас из окна. Так легко, словно пушинку. И не ребенок. Потом вспомнил этих, Болотного Хозяина и Глаз Улицы, и спрашивать не стал. Мало ли какой нежити не дает покоя проходящий под окнами живой человек.
Маришка ответила:
— Да, старики живут. Они очень старые, их мало. Мама говорила, что они никогда не умирают. Маленькие умирают, а старики нет.
— А мама у тебя кто?
— Она мама.
«Странная у меня спутница. А город у них действительно паршивый. И даже не в памятниках и не в оживающих мертвецах дело. Что-то за всем этим стоит. Что-то большее, чем видится глазами. И глубже, и страшнее. Какой-то излом, «Трещина», — вспомнил я и повторил про себя: «Трещина. На всем, даже на этой девочке».
— А твоя мама, у нее только ты или у тебя есть братик, сестра?
— Что это, братик, сестра?
Опять тупик. Я попытался обойти его стороной.
— В вашем классе, ты говорила, три девочки, у каждой есть мама…
Маришка не дала мне договорить. Она даже рассмеялась от моей глупости. Я заметил, что серебряный ее смех гаснет, едва начавшись. Словно бы маленький колокольчик после первого удара опустили в воду.
Словно она стеснялась своего смеха и, не дав набрать ему силу, глушила его намеренно. Или боялась.
— В классе у нас мама одна. У всех одна.
Маришка говорила, словно выговаривала мне, повторяя на редкость непонятливому ученику само собой разумеющееся. Голос ее при этом сделался нарочито строгим, как у взрослой. Она пыталась нагнать на себя строгости, наверное, повторяя манеры какой-нибудь из своих воспитательниц. Но голос девочки скоро не выдержал этого тона, потончал, и ока спросила уже как обычно: — А что. Сысгет м?м несколько?
— Нет, наверное, не бмвгет.
Мне не хотелось ей говорить, как бывает у нас, в той сказке, из которой я появился. Я бы мог ей рассказа гь многое, но Маришка не была особенно любопытной, да и мне говорить не хотелось. «В чужой монастырь со своим уставом не лезут», — это правило я помнил твердо.
Когда мы проходили вдоль квартала одинаковых, желтых, как зубы курильщика, низкорослых домов, я почувствовал легкий разряд электричества в предплечье правой руки.
«Первое предупреждение, — отметил я про себя, — до Нулевого Часа остается ровно 20 минут».
Время, отпущенное на пребывание в этой сказке мне, праздному наблюдателю, истекало. Через 20 минут тело мое станет прозрачным, растворится в воздухе, словно сахар в воде, и меня здесь больше не будет.
Праздный наблюдатель уйдет из чужой сказки в свою, дверца за ним захлопнется и…
Надо только что-то придумать, чтобы ке напугать ребенка. Куда-то спрятаться, за угол, что ли, уйти или заскочить на минуту в ближайшую подворотню. Только как объяснить все это девочке? Или не объяснять?
Нет, сказать ей надо. Не то — ушел незнакомый дядя в подворотню и исчез. Так нельзя. Наверняка она подумает что-нибудь нехорошее. Испугается, решит, что меня сожрала какая-нибудь местная гадина. Но не объяснять же ей, что время мое на исходе. Что я не волен его продлить. Тут и взрослому-то не объяснишь. Хотя, может быть, ребенок как раз и поймет?
И тут я понял, что думаю не о том. При чем здесь я? Какая разница, как я отсюда уйду — с пушечным громом или беззвучно, как привидение.
Главное — я уйду. Нет, не так. Не зто главное… ОНА ЗДЕСЬ ОСТАНЕТСЯ. Вот самое главное. ОДНА. ЗДЕСЬ. В этом страшном, притворяющемся живым городе, построенном на болоте, кажется, так говорил им старик во дзоре.
Я могу пожалеть о многом. О том, что оказался совсем не там, где хотел. Что в программу вкралась ошибка, и ребята, Гена, Сашок, не знают, где я сейчас. Впрочем, это не страшно, назад я вернусь в любом случае. Я могу пожалеть, что на свою голову познакомился здесь со случайным маленьким человеком. Что взял Маришку себе в провожатые.
Я мог обо всем этом жалеть, но я не мог одного: допустить, чтобы Я УШЕЛ, а ОНА ЗДЕСЬ ОСТАЛАСЬ.
— Маришка, Маришка… — я не знал, что говорить дальше, просто повторял ее имя, почти не скрывая боли.
И в какой-то момент мне показалось, что нужное слово найдено.
Стоит только произнести его вслух, как все проблемы решатся. Все станет ясно, и я уже протянул руки, чтобы взять ее руки в свои.
Девочка на меня не смотрела. Она стояла на выпирающем из асфальта бугре, и голова ее доставала моего плеча. Лицо ее сделалось бледным, она как-то странно прижимала кулачки к горлу, и вся была словно рыбка на высушенном неживом берегу, такая же жалкая, одинокая, и платьице на ней трепетало от мелких набегов ветра.
— Что с тобой, девочка? Ну что ты? — спросил я осторожно, заглядывая ей в лицо. И вдруг понял, что ветра не было. Что это страх живет в складках ее одежды, в ее побледневшем лице, в плотно сжатых у горла кулачках.
Я подошел к ней вплотную.
— Маришка, что случилось? Я здесь. Посмотри на меня, не молчи…
Она молчала, лишь вздрогнула, когда я отнял ее руки от горла.
— Там, — сказала она, и опять ее голос был чужой, наполненный страхом и какой-то усталой покорностью.
Страх ее передался и мне, но там, куда она показала, ничего особенного я не увидел. Все оставалось таким или почти таким, как было. В небе клубилась муть. Ее становилось больше. Серые языки лизали стены домов, краски делались блеклыми, дома одинаковыми. Пустые окна, казалось, начинали оживать, но только казалось — это дрожала в них мутная воздушная пелена. По всем признакам, приближался вечер.
И вдруг я заметил, как вдалеке по улице бежит в нашу сторону худой одичалый зверек. Я догадался, что это кошка. Но очень худая, полуголая, жалкая. Она бежала зигзагами, прихрамывая на переднюю лапу. Даже отсюда было заметно, как труден ей этот бег, как мало сил остается, как сдирается ее шерсть о грубую плоть улицы. Рот зверька разевался беззвучно, оскал рта был страшен и жалок одновременно. Она силилась прокричать о помощи, но звуки, видно, не вылетали из ее обессилевшего тела.
На время я забыл о Маришке, так поразил меня вид приближающегося зверька. Я оцепенело смотрел в его сторону. Ноги мои словно погрузились в вязкую уличную трясину. Только слабый электрический удар — сигнал второго предупреждения да какой-то звук слева заставил меня встряхнуться.
Звук оказался частым дыханием девочки. Она уже не стояла покорно.
Руки ее с силой вцепились в рукав моей куртки, глаза стали узкими, злыми, сквозь дыхание прорывались слова:
— Гадкий, гадкий… Вот ты какой. Гадкий. Я не знала, я думала…
Она заплакала и выпустила рукав.
— Что ты? Что? — я растерялся, я позабыл о кошке.
— Все ты, ты виноват. Не я же…
— Что, Маришка? Почему ты так?
Заплаканные глаза девочки снова смотрели в мутную уличную глубину. Губы ее шептали:
— Невидимка… Там, там… Это он… Это все ты, ты…
Я видел лишь кошку, ее усталый, ее обреченный бег, странные петли, которые она выделывала, приближаясь.
— Мы пропали… Ты пропал. Ты, ты, я не виновата, я послушная, меня мама хвалила…
Голос ее опять заходился в страхе.
— …Он убивает только гадких, плохих… Находит и убивает. А я послушная, мама знает… — Нет, — она уронила голову, — я виновата. Я не верила маме, значит, я виновата. Я думала, невидимкой просто пугают… А еще… Еще я сделала плохо мальчику из первого класса. Я пожаловалась на него маме, и мама на три дня оставила его без еды. Но только я поступила правильно, мама сама велела так поступать. Ведь Сережка бросался землей в памятник и еще показывал мне язык.
Только теперь до меня стали доходить путаные слова Маришки. И петлистый кошачий бег сделался тоже понятен.
Потому что уличная тишина, в которой наши с Маришкой голоса тонули, как малые капли в глухом бездонном колодце, стала рваться, трещать по швам, и сквозь прорехи в ее гнилом полотне полезли новые звуки.
Так мне показалось вначале. Но уже через долю минуты я понял — звук был один. Сначала он прозвучал глухо, прорвавшись сквозь грязную воздушную вату. Потом в нем выделилось железо, и чем громче он становился, тем тяжелей и уверенней было его тягучее нарастание.
Шаги, это был звук шагов. Удар, четкий и клацающий, как затвор.
Сменяющая удар тишина, полная ожиданием выстрела. И выстрел — новый удар.
Шаг — тишина, шаг — тишина… Громче, ближе, неумолимей.
Шаги приближались. Но это были не просто шаги. Человек, один, так не ходит. Такой звук бывает, когда шагают шаг в шаг десять, пятьдесят, сто человек. Словно улица стала огромным, вытянутым в длину плацем, а по нему — чеканя шаг, в ногу — идет нам навстречу невидимое для глаза воинство.
Улица была пуста. Лишь туман завивался вихрями, да хромая кошка, да мы с Маришкой, жмущиеся к сырой стене. И — эти шаги. Невидимое многоногое чудище, которое притворяется одиночкой. Ближе, ближе…
И тут до меня дошло, что кошка не просто бежит в нашу сторону. Она ищет у нас спасения. Вот сейчас — еще каких-то несколько метров — и она бросится к нашим ногам, по-кошачьи моля о помощи. А тот, беспощадный, что вот-вот настигнет зверька, обретет взамен маленького никчемного куска плоти два других, куда весомее и желанней.
Я повернулся назад. Позади были узкие прищуренные глаза над башней и черная точка ствола, нацеленного мне в грудь. Отступать было некуда.
Улица вдруг стала узкой. Дома стояли плотно, безлико, с наглухо задраенными парадными. Туман падал ниже и ниже.
Уже не звук, а дробный тяжелый грохот растекался по телу улицы.
Стекла в домах дрожали, и я видел, как от стены рядом отваливалась мелкими крошками облицовка.
Я напрягал зрение. Я пытался хоть мысленно облечь невидимку плотью. Я не знал что, но был уверен — еще полминуты, минута, и произойдет что-то страшное. Я не хотел, чтобы это произошло.
Не из-за себя, из-за Маришки.
И тут кошка что уже не бежала, а еле-еле ползла и находилась от нас в каких-то пяти-шести метрах, захрипела страшно, не по-кошачьи, и, распластавшись на мостовой, начала судорожно извиваться и выпускать когти. И вдруг — я даже вздрогнуть не успел — как кошки не стало. Я загородил улицу спиной, чтобы Маришха не видела того, что увидел я. Но, кажется, она видела. Вместо кошки на мостовой расплылось широкое ярко-красное пятко с торчащими из него клоками шерсти и черными бесформенными кусками. Это все, что от нее осталось.
Рукавом куртки я отер со лба пот. Рукав потемнел от влаги. И тут я увидел след. Отпечаток широкой подошвы с косыми рубчиками от краев и квадратной вмятиной каблука, больно входящего в землю. Четкий грязно-багровый след, словно бы ногой ступили не в кровавое месиво — останки раздавленной кошки, а в пролитую случайно краску.
След повторился ближе. Четкости в нем поубавилось. Он был уже смазанный, кровь оттиралась грубым наждаком мостовой.
— Вот тебе, вот… — я вздрогнул от крика Маришки и сначала ощутил лишь толчок — несильный, потом еще один — уже сильнее.
Я понять ничего не мог. Потом понял.
— Ты, ты… — задыхаясь, кричала Маришка. Глаза ее были сухими, и маленькие ладони упирались мне в поясницу и выталкивали меня вперед.
Я понял Маришку, но на нее не обиделся. Девочка не хотела умирать.
Она хотела быть живой, заслониться моей смертью от этого страха, от кровавых этих подошв. Вины ее в этом не было. Была слабость, не подлость.
Я сделал полшага вперед и в этот самый момент почувствовал плечом и всем напрягшимся телом, как удары тока забили в меня с четкой размеренной частотой. Наступал Нулевой Час.
«Черт возьми, немного бы пораньше. На каких-то десять минут. Поздно, поздно. Маришка, как же это, девочка моя золотая».
Время упущено. Спастись вдвоем уже невозможно. Слишком близок этот прозрачный мясник, слишком близок…
«Маришка, Маришка, все будет хорошо, я тебя в обиду не дам, мы,,» Я уже кожей чувствовал упругую тяжесть воздуха и кислый противный запах, напоминающий чем-то казарму. Это он, невидимка.
И удары тока становились все чаще. Еще секунда и… Медлить было нельзя. И не знаю, как у меня вышло, но руки уже отжимали от тела легкий корсет со встроенными в него аккумуляторами. А потом эти же руки с силой вонзили зацеп прибора в невидимую гору, нависшую над нашими головами и грозящую смертельным обвалом.
Словно в бреду я услышал легкий хлопок, так вылетает пробка из бутылки с шампанским. Нулевой Час пробил. Наступила пьянящая тишина. Улица снова была пустынной, как будто ничего не случилось. Лишь кровавое пятно раздавленной кошки напоминало о миновавшем нас ужасе.
Стало тихо. Маришка молчала. Нет, шептала что-то чуть слышно, словно бы шелестели листья в далеком саду. Да это я сам, не Маришка, мои губы повторяют, словно молитву: — Ребята, простите меня, Гена, Сашок… Вы умные, вы умелые. Вы там справитесь, сможете за себя постоять. Вас много, Гена, Сашок…
Как-то быстро стемнело. Туман прилипал к лицу. Дома молчали, как большие мертвые рыбы, и в окнах не было света.
Я обернулся. Неизвестный солдат слипся с клейкой уличной темнотой и был едва различим. Смертельная точка танкового ствола вообще исчезла в тумане. Я погрозил кулаком в неясный ком позади. Потом сказал тихо; «До встречи». Маришка меня услышала, но ничего не сказала. Наверное, думает, глупая, что я на нее в обиде.
— Ну что, Маришка, поздно уже. Веди меня к вашей маме. Мне очень надо с ней познакомиться. Очень…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |