"Возраст не помеха" - читать интересную книгу автора (Уиллис Уильям)
I
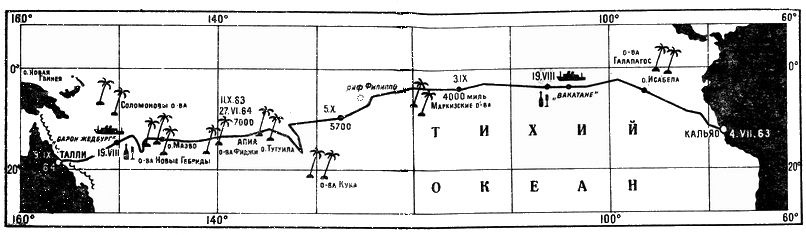 |
Когда мне было четыре года, я как-то раз ослушался матери — она строго-настрого запрещала мне уходить далеко от дома — и дошел до порта.
Там я впервые увидел на серой глади Эльбы суда. С тех пор ноги неизменно несли меня в эту сторону помимо моей воли. Жили мы тогда далеко от порта, и самой старой части Гамбурга, в мрачной, затхлой квартирке. Чтобы свести концы с концами, отец и мать работали с утра до позднего вечера. Меня, естественно, оставляли на улице.
Каждое утро мать умывала меня, кормила, клала мне в карман ключ от входной двери и, целуя на прощание, наказывала, чтобы я играл с детьми возле дома. Иначе, говорила она, я попаду под копыта ломовых лошадей, утону в канале — одним словом, меня постигнет несчастье. Стоило матери перешагнуть через порог, как я забывал все ее наставления и немедленно пускался в путь, всегда в одну и ту же сторону — к порту.
Шел я кривыми переулками вековой давности, мощенными булыжником. По обеим сторонам жались, словно поддерживая друг друга, дома с высокими фронтонами и крошечными дверьми и оконцами. Каждый этаж немного выдавался над предыдущим, так что наверху, высоко над землей, дома почти смыкались, напоминая старух в чепцах и поношенных платьях, которые, склонившись друг к другу, шепчутся о минувших временах. В каждом доме был погреб [1], и там ютились люди. Некоторые из них держали лавчонки, где торговали овощами, углем, дровами... В штормовую погоду морской прилив нередко заставлял Эльбу выходить из берегов, она затопляла погреба, и их обитателям приходилось спасаться бегством.
За лабиринтом переулков начинались широкие улицы. По ним везли грузы к порту и каналам и обратно. Лондон, Антверпен, Гамбург и Гонконг были в то время главными портами Европы и Азии. Вдоль каналов стояли такие же дома с высокими фронтонами, в них находились склады. На всех этажах сновали грузчики, при помощи ручных лебедок они подымали наверх из лихтеров [*] и барж мешки и тюки. Складские помещения тянулись и по обеим сторонам каждой улицы. У их дверей обычно стояли огромные фургоны. В ожидании, пока их разгрузят или нагрузят, могучие ломовые лошади били коваными копытами или спокойно жевали овес в подвязанных к мордам торбах. А мимо нескончаемым потоком шли фургоны, их тянули гигантские, как мне тогда казалось, кони с пышными гривами и хвостами и пучками волос над копытами. Возчики перекликались со своих высоких сидений или весело щелкали кнутами. Они грозно цыкали на меня, когда я перебегал дорогу под самыми копытами лошадей. Как восхищался я этими лошадьми в упряжи с медными кнопками, их железными мускулами, их могучими ногами, напрягавшимися в отчаянной попытке найти опору на мокрой или обледенелой мостовой и сдвинуть фургон с места!
Но вот я пересекал последнюю улицу и выходил на каменную набережную порта на берегу Эльбы. Передо мной открывалась река, на целые мили покрытая судами. Их трубы извергали клубы черного дыма и белого пара. Плавно подымались они к серому небу под нескончаемые гудки буксиров с цепочкой барж, оставлявших за собой полосу пены, и под равномерный громкий гул больших пароходов, которые снимались с якоря или входили в порт. Вдали виднелись высокие мачты и реи совсем иных кораблей, сгрудившихся на отведенном им месте. Потом я узнал, что это парусники. Больше всего времени я проводил возле них. Может быть, меня привлекало то, что они, высокие и таинственные, стояли в стороне от своих собратьев, там, где дым не загрязнял небо.
Расхаживая по набережной, я вдыхал все запахи Земли, и они пробуждали во мне удивление, тоску, а часто и голод. Суда доставляли в порт апельсины из Испании и Италии, бананы и ананасы с острова Мадейра и из Вест-Индии — эти фрукты были моим родителям не по карману; кофе из Бразилии — его сгружали на фабрики, находившиеся тут же на берегу, там его поджаривали, от чего окрестности наполнялись ароматом, и расфасовывали.
Другие суда привозили сушеную рыбу из Скандинавии и Канады, кожу из Аргентины, короткие толстые бревна тикового, железного и красного дерева. Больше всего мне нравились сосновые бревна и доски из Финляндии и России, пахнувшие северным лесом. На них нередко еще оставалась толстая кора. Я отламывал кусочек и уносил с собой, и тогда мне казалось, что я в сосновом бору, о котором рассказывала мать. Ее отец был лесничим в каком-то неведомом лесу в Богемии, где водились олени, медведи и волки. В холодные зимы волки нападали на проезжавших крестьян и даже забегали в занесенные снегом деревни.
Я видел людей, от чьих мускулов зависела вся жизнь порта, грубоватых сильных мужчин с обветренными лицами и могучей грудью. Разговаривали они громко, почти кричали. Подолгу смотрел я, как они работают, обливаясь потом от напряжения и сгибаясь под тяжестью груза, заглядывал в открытые двери пивных — подобревшие, они стояли со стаканом в руке в полутемной от дыма комнате, заполненной гулом голосов. Эти люди мне нравились, казались добрыми, дружелюбными. Мне нравились даже их движения и голоса, а больше всего их сила и ловкость. Иногда они бросали добродушное или резкое слово мальчишке, который путался под ногами или смотрел на них, завороженный, словно стараясь что-то разглядеть. Я слышал, как они ругаются, но не понимал значения слов. Они казались мне неотъемлемой частью их жизни, наполненной тяжким трудом. А вообще-то их язык был мне понятен — я научился ему у мальчишек на улице. На нижнегерманском диалекте говорили не только в порту и на судах, но и на всем побережье Северного моря. По сути дела, это современный голландский, очень близкий к скандинавским языкам, особенно к датскому и норвежскому. Для моих родителей эта речь была чужой. Отец, тот хоть немного понимал ее, но мать не знала ни слова. Чистокровная чешка, она родилась в Центральной Богемии и только в пятнадцать лет выучилась немецкому. Если я по рассеянности произносил несколько слов на нижнегерманском диалекте, она смотрела на меня так, словно я внезапно заговорил по-китайски.
Ни мать, ни отец — он родился в Саксонии, в Ганновере, — никогда не видели моря, хотя от Гамбурга было всего лишь шестьдесят миль до Куксхафена, около которого Эльба впадает в Северное море.
В порту, где слышалась речь всех стран мира, я провел все свое раннее детство. Целыми днями бродил я там, летом — под палящими лучами солнца, зимой — по снегу и льду, чаще всего в промокших башмаках, не чувствуя от холода рук и ног. Только вечером я вспоминал, что надо идти домой. Голода, вернее, мучительного голода я не испытывал: у нас в семье не привыкли есть много и умели не хныча переносить трудности. Не припомню, чтобы я тогда хоть раз присел отдохнуть от непрерывной ходьбы.
Я становился старше, сильнее, воображение уводило меня все дальше. Однажды я уселся в лодку грузчиков и отвязал ее от причала. Нечаянно я уронил одно весло в воду, и лодку понесло течением. На берегу заметили, в каком беспомощном положении я очутился, известили полицию, и за мной пошел полицейский катер. В полиции я не смог сказать, на какой улице живу, и меня не отпустили домой. Вечером прибежала моя мать. "У меня сын пропал", — плакала она, уверенная, что я утонул или попал в другую беду. "Он здесь, — буркнул бородатый сержант, — чуть было не уплыл в Америку. Привязывали бы вы его, что ли..."
Может быть, моя мать понимала, что свою непоседливость я унаследовал от нее. Она пешком пришла из богемской деревни в Вену, а оттуда в Гамбург, там-то она и встретила моего отца. Помню, как я сидел у нее на коленях и слушал рассказы о ее детстве, об императорской Вене, о красивых вещах, которые она видела. В такие минуты на ее лице отражалась тоска по дальним странам. Мы великолепно понимали друг друга, составляя чудесную пару — оракул и провидец со своим последователем. Мать моя была стройная женщина небольшого роста, на вид мягкая и даже покорная судьбе, но в важных вопросах она проявляла несокрушимую волю, а когда раздражалась, то и вспыльчивость. Она обладала необычайной энергией и настойчивостью, была очень вынослива, двигалась быстро и грациозно.
Недалеко от нашего дома находился Музей изобразительных искусств. Однажды в воскресенье мать сводила меня туда. Я увлекался рисованием, и она решила показать мне картины. У самого входа стояли античные скульптуры. Красивые фигуры из мрамора так понравились мне, что мать с трудом оторвала меня от них. Долго не мог я забыть прекрасные скульптуры, под этим впечатлением у меня впоследствии появилось желание иметь такое же тело. Я часто забегал в музей и уходил оттуда переполненный радостью.
Когда мне исполнилось шесть лет, меня отдали в школу. Перед этим мы переехали на другой конец города, за много миль от порта, и моим странствиям пришел конец. Шесть дней в неделю я ходил в школу, занятия длились долго, уроков задавали много и спрашивали строго. Учителя — все молодые мужчины — нередко прибегали к розге. Несколько раз и я ее попробовал, хотя пострадал не сильно. Отец иногда порол меня, и я научился смягчать боль от ударов, выпрямляясь в ту самую долю секунды, когда розга опускалась на мою спину. Отец однажды пожаловался матери, что единственный способ причинить мне сильную боль — это привязать меня. В школе же пороли безжалостно, и на спинах тех, кто не умел изловчиться, на многие недели оставались глубокие рубцы.
В первый год учебы я пристрастился к рисованию и регулярно ходил в музей естественной истории срисовывать животных. Иногда я копировал картины в Музее изобразительных искусств. Рисовал я только карандашом, краски мне не нравились. Впоследствии меня привлекло тело и лицо человека, особенно с героическими чертами или с проявлениями карикатурности.
В школе я на первых порах из-за близорукости носил очки. У меня была врожденная болезнь глаз, которую лечили чуть ли не с самого моего рождения. Мать однажды склонилась над моей колыбелью и улыбнулась мне прямо в лицо, но не увидела никакой реакции. Она испугалась и сделала еще несколько попыток заставить меня улыбнуться, но все было напрасно. Она схватила меня на руки и выбежала из дома, крича, что ее ребенок ослеп. В больнице выяснилось, что лекарство, которым меня лечили, было вредно для зрения. Лечение переменили, но нанесенный ущерб оказался непоправимым, и глаза так и остались моим слабым местом.
Около года я покорно носил очки, но они мешали мне драться и играть с товарищами. В конце концов я стал надевать их только на уроках, скрывая это от матери. Ей казалось, что очки придают мне достойный и умный вид — она всегда мечтала, чтобы я стал ученым.
В девять лет я внезапно проявил способности, поразившие моих учителей. Мне дали стипендию в частной еврейской школе повышенного типа. Она находилась на самой окраине города, недалеко от излюбленного мною порта. Добираться до нее надо было несколькими трамваями, с пересадками, а часть дороги можно было проделать на пароходике, перевозившем пассажиров через Альстер — большое искусственное озеро в центре Гамбурга, окруженное виллами, особняками и садами.
Семья наша по-прежнему жила скудно, и мне приходилось, сойдя с трамвая или пароходика, проделывать остальной путь пешком — на это уходило около часа. Обратно я всю дорогу шел — целых два часа шагал я по городу со связкой книг под мышкой. Раньше мне вообще не давали ни гроша на расходы, теперь же перед уходом в школу я, кроме хлеба с маслом, получал еще мелочь на проезд. Случалось, что денег в доме не было, тогда я вставал раньше и шел пешком.
Моя жизнь складывалась теперь из занятий и продолжительных хождений в школу и обратно. Больше ни на что времени не оставалось. Требования учителя предъявляли высокие, я же был честолюбив, да и хотел учиться. Занимались мы, как и в первой ступени, шесть дней в неделю, уроки кончались еще позднее, и на дом задавали больше. Преподавали нам серьезные учителя, пожилые люди в очках, с длинными седыми бородами.
Мне нравилось ходить пешком. Утром я торопился по запруженным людьми улицам, бежал, если опаздывал, а днем шел по берегу Альстера, любуясь зелеными лужайками и деревьями. Я почти не отрывал глаз от широкого озера, летом сверкающего синевой под лучами солнца, а зимой покрытого льдом с нанесенными ветром тут и там снежными холмиками, которые придавали ему сходство с кладбищем. В непогоду, когда по мрачному небу низко мчались тучи, а пена и брызги скрывали из виду противоположный берег, я шел совершенно один. Раз в неделю я возвращался домой позднее обычного, после урока рисования. Занятия с подающими надежды учениками со всего города вел учитель Шварц — красивый человек с румяным лицом и белоснежной бородой. Мне он уделял особое внимание. В школе мы занимались английским и французским языками, не говоря уже о немецком и других дисциплинах, входивших в программу школ повышенного типа. Больше всего мне нравилась история, по этому предмету я неизменно шел впереди всех в классе.
Первой книгой, которую я одолел ценой мучительных усилий, со слезами на глазах, то и дело прибегая к помощи матери, был "Робинзон Крузо". За ним последовали "Зверобой" и "Последний из могикан" Фенимора Купера. Со временем я увлекся приключенческой литературой, особенно морской тематикой. Одним из моих любимых писателей стал капитан Марриет. "Три мушкетера" я проглотил залпом, та же участь постигла книги о путешествиях и открытиях. Книги я брал в публичной библиотеке, мимо которой проходил каждый день, или приобретал в букинистическом киоске неподалеку от школы в обмен на уже прочитанные дешевые романы. Шагая по берегу Альстера, где не было движения и прохожих, я на ходу зачитывался рассказами о Баффало Билле, Джеке из Техаса и других героях, сражавшихся против индейцев и обладавших удивительной способностью выходить живыми из приключений, от которых кровь стыла в жилах.
Чем старше я становился, тем больше занимался своим физическим развитием. Мне хотелось не только быть сильным, подвижным, гибким, но и уметь переносить голод, жару, боль, любые трудности. Я восхищался смелостью и мужеством древних спартанцев и североамериканских индейцев, которые в юности стойко переносили суровые и мучительные испытания.
В четырнадцать лет я познакомился с соседом, рабочим парнем старше меня на три года. Он увлекался борьбой и тяжелой атлетикой. Борьба всегда мне нравилась, и я с радостью принял его предложение позаниматься со мной. Тренировались мы в комнате, на полу, а по воскресным дням в хорошую погоду уходили в лес и выбирали там подходящую полянку. Домой мы возвращались только вечером, с ссадинами на руках и ногах, а иногда и с подбитым глазом. Как-то раз я принял участие в соревнованиях и выиграл сборник статей о здоровье. В одной статье говорилось о том, как важно глубоко дышать. Я поверил, что это и в самом деле имеет решающее значение, и начал упражняться, когда шел в школу и обратно. В конце концов глубокое дыхание стало для меня привычкой.
На нашу семью неотвратимо надвигалась катастрофа. До выпускных экзаменов оставалось всего лишь полгода, но дела складывались настолько плохо, что я был готов бросить школу и начать работать. Мать об этом и слышать не хотела. "Без экзаменов у тебя нет будущего, — говорила она, — закончишь школу, получишь диплом и тогда делай что хочешь". Уже было решено, что я буду учиться рисовать и стану карикатуристом. В классе я все время шел третьим, свободно читал по-английски и по-французски стихи и прозу и без труда прочел в оригинале "Карл XII Шведский" Вольтера.
Я остался в школе, как хотела мать, сдал экзамены и поступил в художественное училище. Преподаватель рисования Шварц не сомневался, что мои карикатуры быстро получат признание, и предсказывал мне большое будущее. Используя свои связи среди художников Гамбурга, он добился для меня стипендии. Я был самым молодым студентом училища, все мои товарищи приближались к двадцати годам.
В это время несчастье, назревавшее годами, произошло: мои родители разошлись, и наша семья осталась без средств к существованию. Видно, моей мечте стать художником не суждено было сбыться. Не мог же я продолжать жить на иждивении матери, у которой было еще двое сыновей — двух и трех лет! Надо было бросать училище. Несколько раз я посылал свои рисунки в толстые юмористические журналы типа "Симплициссимус", но они неизменно возвращались обратно. Мать, никогда не терявшая мужества, уверяла, что мы что-нибудь придумаем и я смогу учиться, но мною овладело отчаяние. Столько лет я мечтал об одном — стать художником, и вот теперь все рушилось! Судьба матери и братьев была важнее моего будущего. Если бы только я мог сразу начать зарабатывать! Ведь даже найди я место ученика, первое жалованье я принес бы домой через много лет.
Однажды незаметно для себя я очутился в старинной части города, где мы когда-то жили. Медленно брел я по улицам, словно ожидая, что они вернут мне безмятежное настроение моих детских лет. С виду все осталось прежним, но казалось мне каким-то холодным, обветшалым, прозаичным, лишенным надежды, как я сам. Я шел по набережной, глаза мои скользили по судам и баржам, уши вбирали грохот проезжавшего мимо транспорта, но я сознавал одно: семья наша распалась, мечтам моим не суждено сбыться. Где же выход?
Я миновал дом, фасад которого украшала вывеска: "Инспектор но найму и увольнению моряков торгового флота". Она указывала на подвал, куда вели заплеванные узкие ступеньки с выбоинами, покрытые мусором. Об инспекторах я читал в книгах. Может, именно в таких местах они вербуют матросов? И тут меня осенила мысль: сойти в подвал и попроситься юнгой на корабль.
С бьющимся от страха сердцем я неуверенно спустился вниз и взялся уже за тяжелую ручку двери, но тут решимость покинула меня. Наконец я медленно приоткрыл дверь и снова замер.
— Ну, что там такое? Давай заходи! — раздался резкий голос.
Я вошел в комнату с низким потолком. На видном месте сидел седой человек с худощавым лицом. Он мне сразу не понравился.
— Не возьмете ли вы меня юнгой на корабль? — спросил я тихо.
Он внимательно оглядел меня.
— Для тебя нет ничего подходящего. Юнг я беру из сиротских приютов. Они ходят на лихтерах по Эльбе и каналам. Судами я не занимаюсь.
И он повернулся ко мне спиной.
На улице, залитой солнцем, меня охватило радостное ощущение — будто я только что избежал страшной опасности. Плавать по каналам и рекам на лихтере, вдыхать дым буксира, который его тащит, приставать к складам и мрачным фабрикам... Мне вспомнились книги и стихи, картины и мольберты в художественном училище, преподаватели, студенты, молодые мужчины и женщины, которые уже зарабатывали на жизнь. Наняться ради заработка на лихтер — это слишком. Иногда я видел на проходивших мимо лихтерах жен капитанов, порой даже с детишками, развешенное белье. Может, меня заставят стирать или нянчить детей, следить, чтобы они не упали в воду? Лучше уж стать посыльным в магазине и развозить покупки по домам на трехколесном велосипеде с огромным ящиком сбоку. Правда, для этого нужны сильные ноги, чтобы в дождь, снег, гололед гнать машину по оживленным улицам. Я знал одного посыльного. Парнишке было семнадцать лет, но ростом и силой он не уступал взрослым. Отец хотел, чтобы я поступил на такую работу. Он даже сказал матери, что знает магазин, где меня возьмут по его рекомендации.
Я прошел мимо кафе с выставленными на тротуар столиками. За одним сидел перед кружкой пива молодой матрос в кепке и куртке горохового цвета. Рядом на полу стоял его вещевой мешок. Густой загар покрывал лицо матроса — он, видно, только что сошел с корабля. Я остановился и стал рассматривать парня, словно это имело для меня важное значение. У матроса был вид счастливого человека — глядя на оживленную набережную, он радостно улыбался. Мне казалось, что мы давным-давно знакомы. Меня тянуло подойти, поговорить с ним о судне, на котором он плавал, о море. Я не сомневался, что он прибыл на одном из тех огромных парусников, что бороздят все моря и бросают якоря в далеких чужеземных портах. Но я так и не решился обратиться к незнакомому человеку. Мне было только пятнадцать лет, я был застенчив и наивен, не привык действовать самостоятельно и только в художественном училище начал понемногу проявлять себя. С тяжелым сердцем побрел я дальше.
В тот же вечер, когда мои братья улеглись, я сообщил матери, что решил отправиться в море и ничто не остановит меня. Я рассказал ей об инспекторе из подвала, обо всем, что передумал за день. Иного выхода нет, говорил я, если только она не хочет, чтобы я стал посыльным. Работать я буду на совесть, скоро меня сделают матросом на паруснике — о другом судне я, конечно, и слышать не хотел. Я стану хорошо зарабатывать. Отец одного моего товарища по школе был матросом, он хорошо одевался и смог отдать сына в дорогую школу. Только после долгих уговоров мать согласилась отпустить меня и даже обещала похлопотать, чтобы меня взяли на большой парусник.
Через неделю она сообщила радостную весть: ей обещали для меня место на судне фирмы "Шмидт и компания", если только я пройду медицинский осмотр.
— Ну, это пустяки, — сказал я. — Я ведь никогда не болел.
— Главное, чтобы зрение было хорошее, — заметила мать, вручая мне два бланка: один — для окулиста, второй — для терапевта.
Как я уже говорил, глаза всегда были моим слабым местом, а годы, проведенные над книгами, зубрежка перед выпускными экзаменами, рисование в художественном училище, иногда при плохом освещении, вконец испортили мне зрение.
В день осмотра я несколько раз прошелся мимо дома окулиста, прежде чем набрался смелости подняться по лестнице и позвонить. Если меня забракуют, придется идти в посыльные, иного выхода нет.
Дверь открыла медицинская сестра. Она попросила меня обождать в приемной — там уже сидел один человек — и ушла. Я сел, но тут же вскочил и в волнении начал шагать взад и вперед. В открытую дверь была видна другая комната — судя по разложенным инструментам, кабинет врача. Я заглянул в него. На стене напротив двери висела таблица с рядами букв. Чем ниже находился ряд, тем они были мельче. От двери я различал буквы только первого ряда. Тут меня пронзила мысль, что по этой таблице проверяют зрение. Значит, я не смогу ее прочесть! От ужаса мое сердце почти перестало биться. Я вошел в кабинет и, замирая от страха, что в любой момент может появиться сестра или врач, выучил буквы наизусть. Натренированная за годы учения память усвоила их без труда. Затем я отошел к двери и, проверяя себя, несколько раз повторил порядок букв.
— Как вы волнуетесь! — сказал человек, ожидавший в приемной.
Я молча взглянул на него — скажи я хоть слово, я бы тут же запутался в буквах. Но вот сестра пригласила его в кабинет. Вскоре он вышел, настал мой черед. Мне казалось, что стук моего сердца отдается даже в глазах.
— Страдали глазными болезнями? — спросил врач.
— Нет, — ответил я.
— Глаза у вас слегка воспалены.
— Я много занимаюсь и рисую.
— Хорошо, перейдем к таблицам.
Я прочел буквы без запинки, но без излишней спешки, и окулист выдал мне нужную справку.
Оказавшись на улице, я вне себя от радости сделал какой-то невероятный пируэт и бросился к жившему поблизости врачу за справкой об общем состоянии здоровья.
— Никогда не хворал, доктор! — сообщил я развеселым тоном. — Даже простудой!
— Корь была?
— Не припомню!
Доктор рассмеялся...
До сих пор не могу понять, как моя мать ухитрилась собрать одежду, необходимую для юнги. Знаю только, что она не раз ходила в ломбард. Туда перекочевали немногие оставшиеся у нас от лучших дней вещи — полотняные простыни, например. Та же участь постигла перины из мягчайшего гусиного пуха — мать собирала его еще в Богемии, — теплого и легкого, как солнечный луч, ничуть не уступавшего гагачьему. Наконец осталось раздобыть только сундучок — он также входил в число необходимых вещей. После длительных поисков мы разыскали подходящий в лавке старьевщика в порту.
Старьевщик вытащил сундучок из груды других вещей, чтобы мы могли как следует его рассмотреть.
— Будешь сидеть на нем, — сказал он. — На паруснике небось стульев нет. Сундучок этот видал виды, недавно обогнул мыс Горн. Крепыш... Сейчас уже таких не делают.
— Он такой старый, — заметила моя мать, стараясь сбить цену.
— Старый-то старый, да я и отдаю его задешево, чуть ли не себе в убыток. Уж больно он много места занимает, мне лишь бы от него избавиться.
— Вид у него потрепанный...
— Загляни внутрь — он не хуже нового. В самый раз на нем сидеть во время качки. Он и в самом деле немного потрепан, но если твой сынок помотается по кубрикам, как этот сундучок, он тоже малость поизносится. Покрась его — и он новому не уступит. Зачем же тратиться на новый, если твой сынок в первом же порту может сбежать с корабля? А когда ночью спускаешься по веревке вниз, сундучок с собой не захватишь.
— Мой сын не сбежит, — поспешила вставить мать.
— Это как сказать, — хитро улыбнулся старик. — Кто его знает, что он там без тебя выкинет. Бери, голубушка, этот сундучок, и он послужит твоему сынку, пока тот не станет капитаном. А он станет, это уж точно, я по его глазам вижу. В придачу я, так и быть, дам вещевой мешок — на нем, правда, есть заплатки, но какая разница? Мешок пригодится, когда твой сынок задумает бежать, он сложит в него свое имущество и сбросит в лодку, никто и не услышит.
— Говорю вам, мой сын не убежит, — сказала мать и вытащила деньги, чтобы расплатиться.
Теперь оставалось получить официальное разрешение на плавание от отца, а это было нелегко. Мой отец по-прежнему настаивал, чтобы я пошел в посыльные и сразу начал зарабатывать. Он задумал это еще до того, как ушел из дому, а до официального развода его слово было для нас законом. Мать с трудом уломала его, нехотя подписал он бумагу.
— Больше я его знать не желаю, — с горечью сказал отец. — Ничего путного из него не выйдет — вот увидишь.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |