"Фабиола" - читать интересную книгу автора (Уайзмен Николас)
XIX
День, назначенный для обнародования указа против христиан, наступил. Корвину приказано было вывесить эдикт в обычном месте Форума, близ куриального кресла, где всегда выставлялись указы римских императоров. Он понимал всю важность такого поручения, ибо из Никомидии пришло известие, что там солдат-христианин мужественно сорвал подобное объявление, за что и был казнен лютой смертью. Корвин принял все меры, чтобы в Риме не могло случиться ничего подобного, ибо тогда он мог опасаться и за собственную голову.
Постановление было написано огромными буквами на пергаменте, прибитом к большой доске. Доску укрепили на столбе ночью, когда на Форуме не было ни одного человека. Таким образом, все пришедшие утром на Форум должны были прочесть указ и начать преследование христиан. Чтобы предупредить всякую попытку сорвать указ, Корвин приставил возле него часовых, выбранных из варварских когорт. Эти когорты составлялись из германцев, фракийцев, сарматов, дакийцев, огромный рост и сила которых устрашали римлян. Они почти ни слова не знали по латыни. Во времена упадка империи варвары повиновались Риму и служили орудием деспотизма языческих императоров. На них опирались Тиберий, Нерон и другие знаменитые римские тираны, которым любая жестокость казалась позволительной для удержания народа в повиновении и страхе. Варвары были поставлены на всех углах Форума с приказанием убивать всякого, кто осмелится пройти в него без пропуска. Для того, чтобы ни один христианин не мог туда пробраться, Корвин выбрал паролем слова: «Нумен императорум», «божественность императоров». Он знал, что ни один христианин не решится произнести эту фразу, считая ее богохульством, ибо божественность христиане признавали за единым Богом и, почитая императоров, как установленную власть, отказывались воздавать им божеские почести.
Около доски с эдиктом Корвин поставил часового, выделявшегося своим огромным ростом и страшной силой даже среди соплеменников. Он приказал ему не допускать к доске никого, ни под каким видом и попытался втолковать солдату, что тот должен убивать каждого, кто осмелится близко подойти к доске. Солдат, полупьяный от пива, которое он потягивал всю ночь, согреваясь от дождя, закутался в плащ и ходил взад-вперед перед доскою; частенько он останавливался, брал фляжку и отхлебывал из нее.
В это время старый Диоген и два его молодых сына услышали легкий стук в дверь своего дома. Они быстро отворили ее, и перед ними предстал Панкратий и Квадрат, центурион Себастьяна.
— Мы пришли к тебе поужинать, — сказал центурион, — пусть твои сыновья сходят в город и купят чего-нибудь съестного. Вот деньги; только пусть купят хороший ужин и хорошего вина.
Один из сыновей Диогена отправился, а Панкратий и центурион сели рядом со стариком.
— У нас до ужина есть еще дело, — сказал центурион, — мы сейчас уйдем и скоро вернемся. Панкратий был молчалив и задумчив.
— Ну, что ж ты приуныл? — сказал центурион. — Не сомневайся, сделаем все, как нужно.
— Я не сомневаюсь и не унываю, — сказал Панкратий, — но я не могу не признаться, что ты сильнее меня. Да, я знаю, что ты одарен такою энергией, что можешь все вытерпеть. А я... только желаю этого, но не знаю, смогу ли? Сердце мое жаждет дела, но я боюсь, что у меня не хватит мужества.
— Если есть сильное желание, то найдется и мужество, — сказал центурион, — Бог даст нам силу и мужество. Ну, вот так закутайся в плащ и концом его прикрой лицо, да хорошенько! Ночь темна и сыра. Диоген, положи дров в огонь, чтобы мы могли согреться, когда вернемся, а мы вернемся очень быстро. Не запирай дверей.
— Идите с Богом, — сказал Диоген, — что бы ни затеяли, я знаю вас, — дело это хорошее.
Квадрат также закутался в свой военный плащ, оба вышли из дома и по темным улицам квартала Субурры быстро направились к Форуму. Едва они исчезли из поля зрения Диогена, следившего за ними, как подошел Себастьян и спросил Диогена, не видал ли он Панкратия и Квадрата. Себастьян догадывался об их намерениях и боялся, чтобы они не попали в беду. Диоген ответил, что они ушли, но обещали вернуться очень скоро. Действительно, через полчаса дверь быстро отворилась. Панкратий вбежал в комнату, а Квадрат, вошедший за ним, принялся крепко-накрепко запирать за собою двери Диогенова дома.
— Вот он! — вскричал Панкратий, радостно показывая кусок пергамента.
— Что это? — спросили в один голос Себастьян и Диоген.
— Эдикт, великий эдикт! — ответил Панкратий с необычайным воодушевлением. — Глядите: «Наши властители, Диоклетиан и Максимиан, непобедимые, мудрые, великие, отцы императоров и цезарей» и так далее... Вот куда ему дорога!...
И Панкратий бросил эдикт в огонь. Сыновья Диогена подбросили хворосту; пламя вспыхнуло, и в одно мгновение огонь охватил твердые куски пергамента; сперва он побежал по ним легкими струйками и яркими вьющимися змейками; потом вспыхнул пламенем и вдруг все стихло; послышался легкий треск, клочки пергамента свернулись стружками, черные буквы побледнели, побелели, и наконец, совсем исчезли.
Себастьян грустно и задумчиво смотрел, как огонь пожирал эдикт, осуждавший на мученическую смерть стольких невинных людей.
Он знал очень хорошо, что если будут открыты виновники кражи указа и присутствовавшие при его сожжении, то их ждет самая ужасная, самая жестокая смерть. Он верил, что умереть за правое дело благородно и почетно, и не решился упрекнуть юношу за его смелый поступок, грозивший им всем неизбежной смертью.
Между тем успокоившийся Панкратий сел ужинать с сыновьями Диогена. Завязался веселый разговор. Когда Панкратий встал из-за стола, Себастьян простился с Диогеном и его сыновьями и вышел вместе с Панкратием, не позволяя ему идти мимо Форума. Они сделали большой крюк и благополучно дошли до дома Панкратия. Себастьян облегченно вздохнул и направился к себе.
На другой день рано утром Корвин отправился к Форуму. Он пришел в неописуемую ярость, негодование и испуг при виде голой доски. Словно для того, чтобы окончательно вывести его из себя, около гвоздей остались висеть еще два-три клочка. Он в бешенстве бросился на германца, но свирепое выражение лица тупоумного гиганта остановило его. Корвин, как мы уже знаем, не отличался особой храбростью. Однако, несмотря на свою трусость, он с яростью закричал солдату:
— Негодяй! Пьяница! Тупоумный! Гляди сюда! Где эдикт?
— Тише, тише, — флегматично ответил огромный сын севера. — Разве ты его не видишь, вот он! И он указал на доску.
— Да где же, — закричал Корвин, — покажи мне, безмозглый, где он?
Тевтон подошел к доске и пристально на нее уставился. Осмотрев ее с одного бока и другого, сверху и снизу, он сказал спокойно:
— Так ведь вот же она, доска, здесь!
— Доска тут, болван, ну, а где же надпись, объявление, эдикт?
— Говори толком, — сказал солдат. — Ты дал мне стеречь доску — вот она; а что касается до надписи, я читать не умею и ни в какую школу не ходил. Этого дела я не знаю. Всю ночь лил дождь, видно, он ее, надпись-то, измочил и стер.
— А ветер разнес клочки пергамента? — подхватил с гневом Корвин, — так что ли по-твоему?
— Так, — сказал тевтон равнодушно.
— Да разве я шучу с тобой, негодяй! Отвечай мне: кто приходил сюда ночью?
— Приходили двое.
— Кто двое?
— А кто их знает! Наверное, два колдуна Глаза тевтона блеснули недобрым огнем. Он начинал понемногу сердиться Корвин заметил это и присмирел.
— Ну, добро, добро: скажи мне, что за люди приходили сюда и что делали?
— Один из них ребенок — маленький, тоненький, худенький; его и от земли почти не видать. Он бродил около куриального кресла и, верно, унес то, что ты спрашиваешь, пока я занялся с другим.
— А кто был другой? Какого рода человек? Солдат, казалось, воодушевился; он начал говорить быстрее и решительнее.
— Другой! Да такой силы я еще не видывал!
— Откуда ты это знаешь?
— Сначала он подошел ко мне и заговорил ласково, приветливо, спросил, не холодно ли мне, не устал ли я, стоя тут целую ночь Дело уж шло к утру. Я вдруг вспомнил, что мне приказано бить всякого, кто подойдет. Я тотчас сказал ему, чтоб он шел прочь, а не то я проткну его копьем.
— Хорошо! Так надо! Ну, и что же он?
— Я отошел шага на два и потряс копьем; а он вдруг бросился на меня, вырвал у меня из рук копье, переломил его на своем колене, как ломают тростник, и закинул лезвие в одну сторону, а древко — в другую. Вот смотри, лезвие воткнулось в землю в нескольких шагах от меня.
— И ты не наказал его за наглость? А где же твой меч?
Германец, на лице которого опять была написана полнейшая невозмутимость, спокойно показал на соседнюю крышу и холодно произнес:
— Меч он туда забросил; гляди, лежит и теперь на черепичной крыше, вот там! Эк, куда он хватил-то! — прибавил он не без простодушного удивления.
Корвин взглянул и действительно увидал на крыше большой и тяжелый меч германца.
— Да как же ты отдал его, безмозглый?
Солдат покрутил усы с недовольным видом и произнес:
— Отдал! я не отдал. Кто его знает, как он взял его, да и забросил. Тут не обошлось без нечистой силы.
— Сила-то тут есть, да не та, тут сила твоей непроходимой глупости, — сказал Корвин с досадой, которой сдержать не мог. — Ну, а потом что?
— А потом мальчишка, который бродил около столба, отошел, и молодой силач оставил меня и ушел с ним. Оба точно сгинули в потемках.
«Кто это сделал? — думал Корвин. — Не всякий мог решиться на такую дерзкую проделку». И, обратясь к германцу, он вдруг закричал:
— Почему же ты не поднял тревоги, не разбудил стражу, не бросился в погоню?
— За кем это? За ними-то? Да кто их знает, кто они, может колдуны. Мы с колдунами драться не беремся. Кроме того, доска цела; мне дали стеречь доску — вот она!
— Варвар тупоумный, — пробормотал Корвин, — ничего не втолкуешь в его пустую голову. Ну, товарищ, — продолжал он вслух, — это дело недоброе и обойдется тебе недешево; разве ты не знаешь, что совершено преступление?
— Преступление? Как так? Надпись, что ли, преступление?
— Не надпись, а то, что ты недосмотрел, позволил подойти к доске людям, не знавшим пароля.
— А с чего ты это взял? Они подошли и сказали пароль.
— Как сказали? — воскликнул Корвин.
— Да так сказали.
— Стало быть, они нехристиане?
— Этого я не знаю, они подошли и громко сказали: «Номен императорум»[7]
— Как?
— «Номен императорум».
— Ах ты, несчастный! — закричал Корвин. — Да ведь пароль был не тот. Пароль «нумен императорум», то есть «божественность императоров».
— Ну, уж этого я не знаю. Я не мастер говорить по-вашему; «номен» или «нумен» — по-моему, все одно.
Корвин задыхался от бешенства. Он упрекал себя, зачем поставил на часы идиота-варвара вместо умного и ловкого преторианца.
— Тебе придется ответить за это перед начальством, — сказал Корвин глухо, — а ты знаешь, что оно тебе не спустит.
— Хорошо, хорошо, только и ты и я равно подначальны и, стало быть, равно виноваты. Корвин побледнел и растерялся.
— А коли виноват, — продолжал германец, который оказался не столь глуп, как думал Корвин, — так сам и выкручивайся. Спасай меня и себя. Ведь тебе будет хуже, чем мне. Надпись поручили тебе, а мне поручили доску. Доска ведь вот она! Целехонька!
Корвин задумался.
— Вот что, — наконец сказал он, — беги и спрячься. Никому не показывайся несколько дней, а мы скажем, что на тебя напала ночью толпа, что ты защищался и, вероятно, тебя убили. Сиди дома, а я уж достану тебе пива вволю.
Солдат не стал долго раздумывать и тотчас ушел. Через несколько дней на берегах Тибра было найдено тело германца. Предположили, что он был убит в ночной схватке в каком-либо загородском кабаке, и дело предали забвению. Как это случилось, мог бы рассказать Корвин. Покидая Форум, он внимательно осмотрел доску, столб, на котором она висела, и землю вокруг. Он нашел только небольшой нож, который, как ему казалось, он где-то видел, и заботливо спрятал его, силясь припомнить, у кого именно он его видел.
Когда настало утро, народ толпой повалил к Форуму. Все хотели собственными глазами увидеть страшный декрет, но обнаружили только голую доску. Впечатление, произведенное на толпу, было различным. Одни возмущались дерзостью христиан; другие потешались над теми, кому поручено было вывесить эдикт; некоторые не могли не удивляться мужеству христиан, но большинство осыпало их ругательствами и распалялось против них еще большей ненавистью.
Во всех публичных местах, в банях, в садах только и говорили, что о пропаже эдикта. В банях Антонина, где собиралось высшее римское общество и молодежь, также велись оживленные разговоры.
— Какая дерзость, — говорили светские щеголи и важные лица , — украсть декрет!...
— Да это что! Убить бедного солдата — вот дерзость, достойная одних христиан! Чем виноват солдат? Он исполнял свой долг, его приставили охранять эдикт, он и охранял его.
— Неужели убили? — восклицал женоподобный молодой патриций, постоянно любовавшийся собою и своим нарядом.
— Как же, убили... тело нашли... весь изранен, смотреть страшно! Какое зверство!
— И какая низость! Сто на одного! Одни христиане способны на такую низость.
— Они на все способны. Не будет здесь ни спокойствия, ни благоденствия, пока не истребят их всех до единого.
— Травить их зверями! — завопил один.
— Жечь на огне! — крикнул другой.
— Резать, где бы ни попались! — подхватил третий.
— И все это было не так, — важно произнес пожилой человек с надменным лицом, стоявший в стороне, — тут было не нападение, а колдовство. Мне рассказывал очевидец, что к солдату подошли две женщины; он пронзил одну из них мечем, — меч прошел сквозь нее и не ранил; тогда он, испугавшись, — да и кто бы не испугался! — обернулся к другой и пустил в нее свое копье. Копье прошло насквозь через ее тело и полетело дальше. Тогда эта женщина бросила в лицо солдата горсть какого-то зелья, и солдата понесла по воздуху невидимая сила. Она занесла его далеко на крышу одного храма, и нынче утром его нашли там спящим на самом ее краю. Я уж не знаю, как это боги спасли его от смерти. Одно движение, и он бы упал и разбился. Добрые люди, увидев его утром, приставили лестницу, влезли на крышу и осторожно разбудили его. Солдат рассказывал все сам. Один мой приятель видел лестницу, по которой он благополучно слез. Ну, не позор ли, что этих колдунов еще не истребили, и что они могут проделывать такие штуки? После этого никто не может ощущать себя в безопасности, ни вы, ни я...
— Странное дело, — шептали другие.
— А я в это не верю, — сказал какой-то пожилой человек. — Все это сказка.
— Как сказка! Мой приятель видел своими глазами лестницу! — возразил с досадой пожилой.
Видеть лестницу не мудрено, и я нынче видел лестницу, но из этого не следует, что можно верить в колдовство... Но я веду речь не к тому. Вот результаты, к которым пришли, благодаря нашему равнодушию к общественным делам. Христиане воспользовались этим, забрали все в свои руки и вертят всем; все себе позволяют. Их везде много — и в армии, и в обществе, и в провинциях! Таких интриганов трудно найти. Кальпурний! Ты все хорошо знаешь, ты человек ученый: скажи, ведь ты не веришь колдовству?
— Но мой приятель видел все своими глазами!... — воскликнул пожилой.
— Видел лестницу!... Знаем, знаем, — сказал, смеясь, молодой щеголь, и толпа расхохоталась. Пожилой передернул от досады плечами и бросил на все общество взгляд, исполненный глубочайшего презрения.
— Я думаю, — сказал Кальпурний, — что нельзя совершенно отвергать колдовства. Чтобы унести солдата по воздуху, надо только отыскать пригодную для этого траву; в известное время года и при известной погоде надо истолочь ее в ступке, приговаривая магические слова, и смешать с аэролитом, упавшим с неба камнем. Тогда человек, которому бросят в глаза этот порошок, полетит, как аэролит. Колдуньи в Фессалии (это известно даже в простонародье) летают по воздуху. Первые христиане, как я уже говорил не раз, родом из Сирии, которая исстари славилась колдовством и колдунами. Неудивительно, если они и здесь при помощи злых духов совершают разные злодеяния!
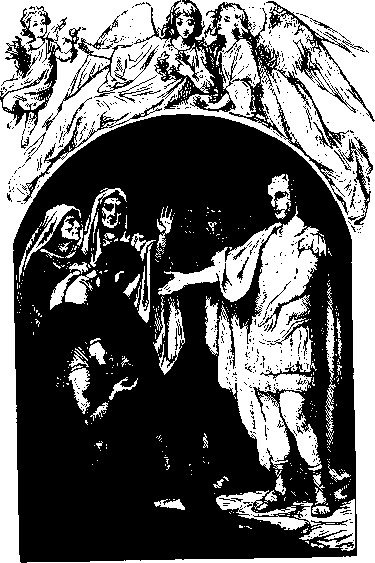 |
— Неужели все христиане колдуны? — спросил кто-то из толпы.
— Конечно колдуны, в этом и заключена их страшная сила. Посмотрите, каким почтением пользуются их жрецы, а почему? Все они колдуны. Заметьте, что у них установлено равенство между всеми: раб и патриций равны, а почему? Оба колдуны и, следовательно, обладают одинаковой силой.
— Какой ужас! — сказали одни.
— Как возмутительно! — прибавили другие.
— Какая низость! — закричали в один голос молодые щеголи.
— Раб и патриций равны! Да это безнравственно!
Теперь понятно, почему божественный император издал против них строгий, но справедливый эдикт, — сказал Фульвий.
— Они достойны самых суровых наказаний, верно, Себастьян?
— Фульвий пристально посмотрел на только что вышедшего из бани Себастьяна. Себастьян нисколько не смутился и холодно отвечал:
— Если христиане колдуны и преступники, если они злодеи и изменники, то они достойны наказания, но и в этом случае, по-моему мнению, им надо предоставить некоторые права.
— Какие же? — спросил Фульвий с иронией.
— Я бы хотел, чтобы те, которые обвиняют их, доказали, во-первых, их преступления, потом я бы хотел, чтобы обвиняющие их не были сами ни убийцами, ни ворами, ни развратниками, ни пьяницами. Что касается меня, я знаю, что несчастные христиане, которых так позорят, не виноваты ни в чем подобном.
Ропот негодования раздался в толпе. Фульвий покраснел от злости, но спокойный, светлый взор Себастьяна, его звучный голос, благородная осанка обезоружили его. Толпа, встретившая слова Себастьяна воплем негодования, тоже стихла Она почувствовала на себе то неотразимое влияние, которое всегда производят люди, говорящие правду.
Произнеся эти слова, Себастьян повернулся и тихо вышел из бань. Он шагал по улицам Рима, не видя и не замечая ничего. «Долго ли нам страдать? — думал он с горечью. — Долго ли выносить клевету и гонения, долго ли бороться с разъяренною толпою? Долго ли слышать обвинения от тех, которые не имеют ни малейшего понятия о нашем учении и о нашей вере, да и не хотят знать, кто мы такие?» В эту минуту он вдруг остановился, вынул из-под одежды какой-то кусок пергамента, прочел и в этот момент вышел за ворота Рима и невольно прошептал: «Боже мой! Опять? И долго ли еще?»
— Добрый человек, — сказал за ним тихий и кроткий голос, — что за дело, что нас еще топчут ногами и бросают в нас грязью? Потерпим еще.
— Спасибо, Цецилия, — сказал Себастьян, — устами твоими, как устами невинного младенца, говорит Христова мудрость. Спасибо тебе, ты поддержала падавший дух мой и пролила целительный бальзам на мое скорбевшее сердце. Но куда ты направляешься и почему ты так спокойна в этот страшный для всех нас день?
— Я назначена проводницею в катакомбы Калликста, — сказала Цецилия. — Если нам суждено погибнуть, помолись за меня; пусть я первая погибну.
Она хотела удалиться, но Себастьян остановил ее и поспешно начал ей что-то объяснять.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |