"В тылу как в тылу" - читать интересную книгу автора (Алексин Анатолий)
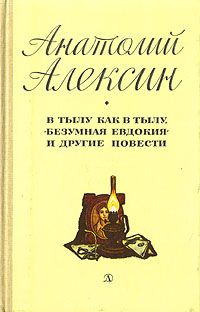 |
Анатолий Алексин В тылу как в тылу
Годы… Они долгие, когда еще впереди, когда предстоят. Но если большая часть пути уже пройдена, они кажутся до того быстроходными, что с тревогой и грустью думаешь: «Неужели так мало осталось?»
Я не был в этом городе очень давно. Раньше приезжал часто, а потом… все дела, все дела.
На привокзальной площади я увидел те же осенние цветы в жестяных ведрах и те же светло-зеленые машины, подпоясанные черными шашечками. Как прошлый раз, как и всегда. Будто не уезжал…
— Куда вам? — туго, с напряжением включив счетчик, спросил таксист.
— В город, — ответил я.
И поехал к маме, у которой (так уж случилось) не был около десяти лет.
В октябре сорок первого мы шли с ней по этой привокзальной площади в темноте, проваливаясь в ямы и лужи.
Мама запретила мне притрагиваться к старомодному, тяжеленному сундуку: «Это не для тебя. Надорвешься!»
Как будто и во время войны одиннадцатилетний мог считаться ребенком.
В канун нашего отъезда всех предупредили, что взять с собой можно «только одно место». Мама выбрала сундук, обвитый железными лентами. В нем согласно домашней легенде когда-то хранилось прабабушкино приданое.
Приданого, видимо, было много, потому что сундук мне казался бездонным. За одну ручку ухватилась мама, а за вторую — Николай Евдокимович. Своих вещей у него не было: за день до отъезда, когда Николай Евдокимович где-то дежурил, его дом разбомбили.
— Хорошо, что у меня нет семьи, — сказал он. — Вещи терять не так страшно.
Свободной рукой мама крепко держала меня за локоть, словно я мог вырваться и удрать.
— Смотрите под ноги! — предупреждал мужчина в брезентовом плаще с капюшоном. Промерзший голос нехотя вырывался из капюшона, как из рупора, и стеснялся своей заботливости.
Николай Евдокимович попросил маму остановиться. Он опустил сундук на доски, сложенные посреди дороги.
Кто-то, шедший сзади, наткнулся на нас и глухо, неразборчиво выругался.
— Простите, — сказал Николай Евдокимович. — Нога разболелась. Если не возражаете…
И присел на сундук. При маме он не мог сознаться, что просто устал.
Он любил маму. Это знали все.
— Ее красота слишком заметна, — постоянно говорил мне отец. И обязательно при этом вздыхал.
Ему хотелось, чтобы мамину красоту никто на свете не замечал. А прежде всего, чтоб о ней забыл Николай Евдокимович.
— Поверь, Алеша, я к нему не питаю никаких… таких чувств, объясняла мама. — Хочешь, поклянусь? Своим будущим и даже твоим!
Мое будущее она оставляла в покое.
— Я к нему ничего не испытываю, — настойчиво убеждала она отца.
— Но он испытывает к тебе. А это, пойми…
— И что же? Бросить его на произвол судьбы? — спросила она однажды.
И резко встала, как бы приняв окончательное решение. Она часто после негромкого разговора так вот вставала, давая понять, что ее аргументы исчерпаны. Голос менялся, становился сухим, словно река, потерявшая свои теплые, добрые воды и обнажившая вдруг каменистое дно.
— Ты умеешь укрощать даже сварщиков и прорабов. Куда уж мне, интеллигенту-биологу? Я сдаюсь! — в другой раз воскликнул отец. И поднял руки вверх.
Такие разговоры возникали у нас дома нередко. Во время одного из них мама сказала отцу:
— Николая в институте звали Подкидышем.
— А где тебе подкинули его?
— Там и подкинули: в нашем строительном. Зачем ты спрашиваешь о том, что давно уж известно?
Мама резко поднялась.
— К сожалению, меня в ваш строительный никто не подкинул, — печально сказал отец.
Он ревновал маму к прошлому. Как, впрочем, и к настоящему, и к грядущему тоже:
— Когда-нибудь ты покинешь меня.
— А о нем ты забыл?
Мама кивнула в мою сторону.
— Ну если… только ради него… Это слабое утешение.
— В какие дебри мы с тобой забрели! И все из-за Подкидыша. Из-за этого безобидного князя Мышкина, — возмутилась мама.
Князь Мышкин, Подкидыш… Это должно было убедить отца, что он в полнейшей безопасности.
С тех пор отец стал называть Николая Евдокимовича только Подкидышем, словно прекратил думать о нем всерьез.
Он был выше Подкидыша минимум на полголовы, а то и на целых три четверти. Не говорил по десять раз в день: «Если не возражаете…» И все же щуплого Николая Евдокимовича, близорукого, в очках с толстыми стеклами, отец, я видел, продолжал опасаться. С моей точки зрения, это было необъяснимо. Еще и потому, что мама, хоть ее и называли красавицей, представлялась мне в ту пору абсолютно пожилой женщиной: ей было уже тридцать семь лет!
На мой взгляд. Подкидыш не мог быть угрозой для нашей семьи. «Ну какая любовь в этом возрасте? — рассуждал я. — Вот у нас, в четвертом классе… Это другое дело!»
Отец думал иначе… Если Николай Евдокимович приглашал маму на вальс, он говорил:
— Она, к сожалению, очень устала.
— Я полна сил и энергии! — заявляла мама. И шла танцевать.
Она привыкла стоять на своем не только потому, что была красивой, а и потому, что работала начальником стройконторы: ей действительно подчинялись сварщики и прорабы.
— Твои про-рабы! — говорил отец, делая ударение на последнем слоге.
Если Подкидыш обнаруживал, что у него «как раз три билета в кино», отец вспоминал, что в этот вечер они с мамой приглашены в гости.
— Меня никто не приглашал! — возражала мама.
Она всегда говорила правду. «Рубила», как оценивал это отец.
А честность тоже разная бывает,
И если доброты ей не хватает…
Отец начал как-то цитировать эти стихи, но запнулся.
— Честность есть честность! — ответила мама. И резко встала.
— Я не щадила тебя, — тихо сказала она, когда отец собирался по повестке на сборный пункт. Или, вернее сказать, на войну. — Я не щадила тебя… Прости уж, Алешенька. Но ты всегда мог быть абсолютно спокоен. Я пыталась воспитывать тебя… Это глупо. С близкими надо находить общий язык. Вот что главное… Ты простишь меня?
— Да, конечно, — ответил отец. — А Подкидыш поедет в одном эшелоне с тобой и Димой?
То, что мы уедем, было известно. Но когда — никто точно не знал.
— Хочешь, мы поедем в другом эшелоне? — сказала мама. Я чувствовал, что она никогда больше не станет резко подниматься с дивана и разговаривать с отцом голосом начальника стройконторы.
— А если другого эшелона не будет? — ответил отец. — Неужели ты думаешь, что я могу рисковать… вами? — Он так сказал. Но мне показалось, что он все же боится нашей поездки в одном эшелоне с Подкидышем гораздо больше, чем идти на войну. Войны он вообще не боялся.
— Обещай мне, что ты будешь спокоен. За нас… За меня! — умоляла мама. — И пиши… Каждый день нам пиши. Не представляешь, как мы любим тебя!
— А ты?
Для отца мамина любовь всегда была дороже моей. Я знал это. И мне не было обидно. Ничуть…
Прощаясь во дворе школы медицинских сестер, где был сборный пункт, отец тихо спросил маму:
— И вагон у вас с н и м… один?
— Мы поедем в теплушках. На нарах, — ответила мама. — Если хочешь, будем в разных теплушках. Только бы ты не думал… Ни одной секунды! До конца войны… До конца нашей жизни.
Она зарыдала. Я тоже заплакал.
— Ну что вы? Я скоро вернусь… — как и все вокруг, обещал нам отец. Это было седьмого августа. — И пусть Подкидыш вам помогает. Рядом должны быть близкие люди…
— Ты можешь быть абсолютно спокоен! — почти крикнула мама. — Клянусь всем на свете. Даже его будущим!
И прижала меня к себе.
Я знал, что хорошее начинаешь гораздо острей ценить, когда оно от тебя уходит. И что наши приобретения становятся в тысячу раз дороже, когда превращаются в наши потери или воспоминания. Эта истина казалась мне раньше лежащей на поверхности, а значит, не очень мудрой.
Но, качаясь на нарах, под потолком, где было много времени для размышлений, я понял, что первым признаком мудрой мысли является ее точность: все, что недавно было обыденным и привычным, стало казаться мне нереальным, невозвратимым. А неприятности и заботы, так волновавшие меня прежде, я не разглядел бы теперь ни в один микроскоп.
Я с нежностью вспоминал о нашем учителе физкультуры, который ничего, кроме тройки с минусом, мне никогда не ставил, и о соседях, которые говорили, что я слишком громко хлопаю дверью и вообще ни с кем не считаюсь. «Ценишь, когда теряешь» — эту истину война все упрямей, с жестокой прямолинейностью вдалбливала мне в сердце и в голову.
Отец заранее объяснил, какие нас с мамой встретят на Урале флора и фауна: он был биологом. Но нас встретил лишь низкорослый, неестественно широкоплечий человек, казавшийся квадратом, завернутым в брезентовый плащ с капюшоном. Из капюшона до нас донеслось хриплое сообщение о том, что «машин сколько есть, столько есть, а больше не будет».
Мои прежние путешествия в поездах всегда были праздником. «Гарантия возвращения — вот что было самым приятным в пути!» — понял я потом, через много лет.
— Что с Москвой? — раздался в темноте голос Николая Евдокимовича. Мы прошлепали по лужам еще несколько шагов. — Неужели все-таки…
— Этого не будет! — Мама остановилась, словно, как прежде, резко поднялась со стула.
И пошла дальше. Мы тоже пошли.
— Я уверен… Я абсолютно уверен! Но мы целый день не слышали сводки Информбюро.
На каждой станции Подкидыш выпрыгивал из вагона на шпалы, на мокрую землю и бежал к газетному киоску или к громкоговорителю, если киоска не было. Узнав, что после упорных боев наши войска оставили какой-нибудь город, он сообщал об этом только в том случае, если его спрашивали. И то очень тихо.
И поглядывал с опаской туда, где лежали на нарах мы с мамой: не хотел нас расстраивать.
Никто не объявлял заранее, долгой ли будет остановка, никто не знал, когда тупо ударятся друг о друга, заскрежещут чугунные буфера и мы тронемся дальше.
— Останется… Где-нибудь он отстанет! — беспокоилась мама. И я этого тоже очень боялся.
В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны больших городов. Она не выпускала мою руку ни на мгновение. Мы искали бывшие вокзальные рестораны, чтобы по талончикам получить там похлебку и кусок хлеба.
«Потерять, оставить, отстать…» — война со всех сторон окружала нас этой опасностью. Но больше всего мама страшилась расстаться со мной. Она даже объяснила, что, поскольку мне всего лишь одиннадцать лет, я вполне могу ходить вместе с ней в туалет. Я воспротивился… И она стала отпускать меня туда на больших станциях с Николаем Евдокимовичем.
Если мы с ним задерживались, она, чуть приоткрыв дверь и глядя куда-то в сторону, испуганно вопрошала:
— Вы там?
Он отвечал:
— Мы здесь!
«Да… какая может быть любовь в этом возрасте?» — утверждался я в своей давней мысли.
Квадратный человек прохрипел из капюшона, точно из рупора:
— Побыстрей шевелитесь! Машины не будут ждать.
Мама покрепче сжала мой локоть.
Девять или десять крытых машин стояли на краю площади. Они сгрудились, как стадо молчаливых животных, пришедшее на водопой.
— Поплотней утрамбовывайтесь, товарищи! — скомандовал капюшон.
Подкидыш протянул маме руку из крытого кузова, но она вначале подсадила меня.
А за нами вскарабкивались и «утрамбовывались» все новые и новые пассажиры из эшелона.
На нарах в теплушке голосов почти не было слышно. Не из-за стука колес, а потому, что растерянность и неизвестность как бы сковали людей.
И в кузове грузовика было напряженно от тишины. — Осторожней, здесь мальчик! — предупредила мама. Ей не возразили. Но и учесть ее просьбу никто не мог. Меня сжимали и утрамбовывали «на общих правах»: мест для пассажиров с детьми в крытой машине не было.
Я подумал, что нужно будет вообще забыть о своем возрасте. Взять и забыть…
Но мама не хотела, чтобы я забывал. В холодном бараке, который обогревался еле мерцавшими печурками, она превратила наш сундук в стол и сказала:
— Здесь ты будешь делать уроки!
Сказала властным голосом начальника стройконторы, потому что меня нужно было встряхнуть и убедить, что все продолжается.
«Комнаты» отделялись одна от другой простынями, бывшими скатертями или портьерами, прикрепленными к веревкам, как выстиранное белье.
Мама узнала, где находится школа, и повела меня туда сразу же, на рассвете следующего дня.
— Ты и так уж отстал от класса! — с упреком сказала она. Будто я отдыхал где-нибудь в пионерлагере или наслаждался выдуманными болезнями, как это бывало в мирное время.
Наше новое местожительство было на берегу уральской реки, названия которой я раньше не знал.
Оборонный завод напоминал человеческий организм, атакуемый перегрузками, но неослабевший: его сердцебиение было слышно всему городу днем и ночью. Вместо кислорода он вбирал в себя электроэнергию, а выдыхал пар и дым. Ему некогда было думать о своем внешнем виде: одежда выцвела, поизносилась.
Мощность этого организма строители должны были увеличить во много раз и в немыслимо короткие сроки. Завод окружали дома из некогда красного, закопченного кирпича; вросшие в мокрую грязь одноэтажные бараки; клуб, называвшийся Домом культуры, и школа, где учились в три смены.
На школе висел плакат «В тылу как на фронте!».
— Ты понял? — спросила мама. — Хотя вообще-то я не люблю этого лозунга: все-таки фронт — это фронт, а тыл — это тыл.
— Но всюду пишут… — попробовал возразить я.
— Мы в отличие от отца, — тоном начальника стройконторы перебила мама, — прибыли в зону безопасности. Чтобы ты мог учиться. В том числе и для этого… Ты понял? Мне некогда будет напоминать.
Маме стало некогда уже с двенадцати часов дня. Ее вызвали в стройуправление и назначили «инженером — руководителем по комплектации и восстановлению оборудования». Название маминой должности было таким длинным, что я испуганно спросил:
— А что это значит?
— Ничего особенного, — ответила мама. — Приходят эшелоны с оборудованием. Надо пристроить его в старых цехах или под навесом, пока не построим новые.
— Каторжная работа, — раздался мужской голос из-за старого, облысевшего ковра с озером и двумя лебедями, отделявшего нас от соседей.
— А вы были на каторге? — спросила мама.
— Пока что не приходилось.
— Откуда же вам известно?
Мама не любила паниковать.
— Да уж знаю! — монотонно настаивал голос из-за озера с лебедями. Правда, дают кое-что пожевать за вредность производства.
— Вот видишь, — сказала мама. — Во всем есть свои светлые стороны.
Она их по крайней мере умела отыскивать.
— Мне придется редко бывать дома, — сказала она через несколько дней. — Эшелоны приходят один за другим. Так что приглашай в гости товарищей. Или товарища… Чтоб не соскучиться.
У нее самой был один только друг. Тот, которого ей подкинули в строительном институте.
— Его и здесь подбросили в мою группу, — сообщила мне мама.
— На каторжную работу? Разве он выдержит?
— Мы с вами в зоне полнейшей безопасности: спим в постели, нас не бомбят. В тылу как в тылу! — ответила она.
— Я хотел сказать… что Подкидыш очень худой.
— А в окопах только богатыри?
Мама вынула из сумки котлеты, завернутые в местную многотиражку: бумагу достать было трудно.
— Вот видишь, дополнительное питание. За вредность производства. Грех жаловаться!
Как и хотела мама, у меня появился приятель: Олег по прозвищу Многодетный брат. У него было две младших сестры. Последняя родилась двадцать второго июня — за год до начала войны.
— Умудрилась! — сказал Олег. — Попробуй теперь порадуйся в день ее появления на свет…
Многодетный брат бегал за «детским питанием», которое, как он говорил, в мирное время и взрослые не стали бы есть.
— Но организм ко всему приспосабливается, — объяснил мой новый приятель.
Олег был старше меня на полтора года.
— В вашем возрасте это много! — уверял Николай Евдокимович. — Вспомни Толстого! «Детство», «Отрочество», «Юность» — так он назвал свою трилогию. Речь идет о разных эпохах человеческой жизни. Если не возражаешь…
Но никакие эпохи нас с Олегом не разделяли. Когда я сказал об этом Подкидышу, он задумался:
— Война вообще объединила людей… хотя вроде бы их разлучила.
Олегу трудно было делать уроки дома.
— Сестры плачут дуэтом.
— Как же ты спишь?
— Организм ко всему привыкает.
Он приходил заниматься ко мне. Но прежде чем сесть за учебники, говорил:
— Я тут немного…
И подметал нашу «комнату», укреплял на веревках «озеро с лебедями», что-нибудь мне пришивал. Две сестры приучили его к труду. Олег выглядел не просто худым, а до крайности истощенным. Поэтому нос и глаза особенно выделялись. Узнав, что отец мой биолог, а раньше преподавал анатомию, Олег сказал:
— Я вполне бы мог стать для него экспонатом!
Он любил подшучивать над своей худобой.
Отец его через двадцать дней после начала войны потерял левую руку и теперь работал в редакции той самой строительной многотиражки, в которую мама заворачивала котлеты. Дома у них была пишущая машинка. Это произвело на меня сильное впечатление.
— Еще одна машинка в редакции… А эту выдали под расписку, — сказал Олег. — Сестры под нее засыпают. Отец начнет печатать правой рукой — и они умолкают. Колыбельная песня! Иногда я помогаю отцу.
— Ты и печатать умеешь?
— А что ж тут такого!
Я торопился к маме. Она очень ждала меня. Это я знал… И мое нетерпение тоже было таким напряженным, что я бессознательно, не отдавая себе в этом отчета, оттягивал встречу. По пути я решил задержаться возле дома, где жил Олег.
Таксист был рассержен непредвиденной остановкой. А когда я вышел из машины и направился к дому, он проводил меня взглядом, полным сомнений: приду ли обратно? Не сбегу ли, не расплатившись?
Чтобы успокоить его, я вернулся и как задаток положил на заднее сиденье букет, купленный на привокзальном базаре.
Потом я вошел в парадное. Все было так же… Только стены покрасили в другой цвет.
Подниматься на третий этаж я не стал: Олега и его родных там уже давно не было. Они уехали к себе домой, в Белоруссию. Мы переписывались…
Я вернулся к машине. И едва успел хлопнуть дверцей, как таксист резко рванул с места. Так он выразил свое недовольство.
Я бы мог объяснить таксисту, что хочу хоть на время вернуть свое прошлое. Но вид его не располагал к откровенности.
В первое же утро после приезда, по дороге в школу, мы с мамой забежали на почту. Отец должен был писать до востребования. Так мы условились.
— Я чувствую: нас будет ждать письмо! — все четырнадцать дней в эшелоне говорила мне мама, без конца перечитывая те письма, которые мы успели получить от отца в Москве.
На почте ничего не было.
— Теперь мы с тобой так и будем жить: от письма до письма, — грустно сказала она. — Надо привыкать. Что тут поделаешь!
Она попросила, чтобы мне выдавали «корреспонденцию», которая будет приходить на ее имя. Мама собиралась, я понял, пропадать на стройке целыми сутками, а почта работала лишь до семи часов.
Когда мы вышли на улицу, мама спросила:
— Тебе кажется, я часто огорчала его?
Я не знал, что ответить. Тогда она продолжала:
— Сейчас страшны только те раны, которые может получить о н. Или получал прежде. От меня, например… Только те раны опасны. А мы с тобой неплохо устроились.
— Хорошо, что он может быть… абсолютно спокоен, — машинально повторил я то, что слышал от нее во дворе училища медсестер, где мы с отцом расставались.
— Спокоен? Разве там, где он… бывает спокойствие? Ты вообще представляешь, что там происходит?
— Представляю.
— Это невозможно себе представить! — Мама резко остановилась, будто демонстративно поднялась с дивана или со стула, как это бывало раньше. Каждый день заходи на почту. Каждый день! Я должна знать, есть письмо или нет.
— Я буду заходить. Обязательно!
Она пошла дальше.
— Я всегда знала, что перенести самую тяжкую болезнь легче, чем переживать болезнь ближнего. Но я не представляла, что это такое беспрерывное ожидание беды. Теперь нельзя давать себе отдыха… ни на минуту!
— Ни на минуту?!
— Чтоб некогда было сходить с ума… — Она вынула из сумочки фотографию, где отец был совсем молодым и веселым. — Он всегда был беззащитней меня. Так казалось в будничной жизни. Мужчины берут на себя самые страшные тяготы века, а зубной боли они боятся. Это известно. Я обязана быть… рядом с ним… Пусть даже здесь!
— И я тоже.
— Нет… Ты ребенок! Мы идем с тобой в школу. Прямо сейчас! Никто не может лишить тебя этого. Детство не повторяется.
— И старость не повторяется.
— Хватит с нее одного раза! А перед Алешей я все-таки виновата.
— В чем?
— Сильнее, чем я люблю его… особенно вот сейчас, любить, мне кажется, невозможно. Он не узнал этого.
— А меня? — тихо и бестактно полюбопытствовал я.
— Это другое. Материнство… выше любви.
Я успокоился.
— Мне всегда хотелось доказать ему… Дать почувствовать, — виновато продолжала она. — Но я не спешила. В педагогических целях. Какая нелепость! Лучше поздно, чем никогда? Нет уж, Дима… С добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата. Ты согласен?
— Согласен.
— Если это случится, я не прощу себе. Нет, не то… Я просто не вынесу.
Через двадцать дней, когда я зашел на почту, где меня уже знали, бледная девушка в окошке на миг оживилась и сказала:
— Сегодня вам есть…
Она перебрала несколько писем пальцами, которые казались очень тонкими из-за припухших суставов. Было холодно, почти как на улице. Руки у девушки, конечно, замерзли, но не покраснели, как мои, а были прозрачными, обесцвеченными.
Она протянула конверт без марки.
Я сразу, не отходя от окошка, разорвал конверт. Вынул листок, на котором было что-то напечатано типографским шрифтом. Только имя, отчество и фамилия отца были написаны чернилами, от руки. Я прочитал раза три или четыре спокойно. И только с пятого раза понял, что мой отец пропал без вести.
На улице ждал Олег. Я выбежал с белым листком в руке. Олег прочитал… Нос его сморщился, словно от внезапного света, глаза стали еще больше, круглее. У него были две младшие сестры — и он умел утешать.
— Пропал? Это слово имеет несколько значений. Ты вспомни… «Пропал» в смысле погиб тут не подходит. Здесь другое значение: он исчез, о нем ничего не знают. И все…
Как старший брат, он умел втолковывать, объяснять.
— А если погиб… так и пишут: «погиб»? — спросил я.
— Так и пишут. Это называется похоронкой. А тут извещение. Неприятное, конечно. Не буду тебя обманывать.
Я знал, что даже родителей он никогда не обманывал.
Взяв у Олега листок, я опять впился глазами в строчки и твердо, до конца осознал, что отца моего уже нет. Совсем нет… навсегда…
Я не заплакал. Но понял, что это значит — «не находить себе места». Вернулся на почту, спросил у болезненной девушки, когда пришло письмо.
— Сегодня, — ответила она. — Ты же вчера заходил.
Потом я, забыв об Олеге, помчался на стройку.
— Ты куда? — услышал я сзади его голос.
— К маме.
— Зачем?
— Показать…
— Да ты что?!
Мы оба остановились. «Я просто не вынесу», — тогда, возле почты, сказала мне мама. Как можно было это забыть?
— Что же делать? — спросил я Олега.
— А где твой портфель?
Портфеля действительно не было.
— Оставил на почте. Возле окошка…
Мы побежали обратно. Портфель уже был за стеклом, на столе у болезненной девушки.
— Ты что-нибудь такое… получил? — спросила она.
В ответ я ничего не смог выговорить.
— Отец пропал без вести, — объяснил ей Олег. — Не погиб… а просто нету вестей. Это же разные вещи.
— Вероятно, — сказала она. — Я не могу здесь больше работать…
И закрыла глаза болезненно белыми пальцами с припухшими сгибами на суставах.
Я вспомнил пальцы отца. Он часто, сидя за столом, перебирал лечебные травы, которые сам же выращивал. Травы были высохшие, напоминавшие сено, а пальцы у отца загорелые, крепкие, но осторожные. Мне чудилось, он боится, что с трав осыплется что-то нужное и они потеряют свою целебность.
Отец был нежным, застенчивым человеком. «Ленинградская интеллигентность'!» — пояснял Николай Евдокимович, хотя сам был закоренелым москвичом.
Отец любил лес, но еще больше — поля и луга. «Высокая, густая трава это здоровье, — говорил он. — Это символ простора и жизни!»
И жизни…
— Ты не прощайся с отцом, — угадав мои мысли, сказал сзади Олег. Пойдем.
Мы вышли на улицу.
— Дай мне конверт, — попросил он.
Я протянул.
Он аккуратно вложил в конверт листок с извещением. И так же неторопливо, обстоятельно отвел ему место в своем портфеле.
— Пусть будет у меня. А то мать найдет.
Я вновь затопал вверх по ступенькам почтового отделения и заглянул в полукруглое окошко.
— Только маме не говорите, что было письмо. Если она зайдет… попросил я девушку, которая все еще не отрывала рук от лица.
На почте никого не было, потому что весь город в это время работал.
— Олег говорит, что отец… еще может найтись…
— Не могу я здесь больше работать, — ответила девушка, должно быть, не веря Олегу.
— На две минуты… Остановитесь, пожалуйста, — опять попросил я таксиста.
Он тормознул так, что я ткнулся в его спину.
Почта была все там же. И из того же окошка выдавали корреспонденцию до востребования. Человек пять стояли в ожидании. Но на их лицах не было нетерпеливой тревоги.
Я издали заглянул в окошко. Конверты перебирала девушка, на которую стоявшие в очереди мужчины поглядывали с интересом. Она стоила этого.
Таксист снова рванул, будто участвовал в мотогонках и ему только что был дан старт.
Мама приходила с работы поздно вечером. А то и под утро… Приподнимала простыню, отделявшую наше жилье от коридора. Другой нашей «стеной» был старый, облысевший ковер… Мама входила беззвучно, но я просыпался. Задавала мне несколько главных вопросов… Прежде чем шепотом рассказать о своих делах, она открывала разбухшую сумку, набитую бумагами и чертежами. Вытаскивала со дна еду, завернутую в газету, и протягивала ее мне. В сумке обязательно стояла бутылка молока, которая тоже полагалась маме «за вредность». Сидя на матраце, я ел хлеб с котлетой и запивал молоком.
— Так поздно ужинать вредно, — говорила мне мама. — Но война все перевернула вверх ногами.
— А ты-то поела?
— Конечно, — отвечала она.
И наспех рассказывала, как ей удалось найти очередное «уютное местечко» для каких-нибудь многотонных «деталей», прибывших издалека. Говорила она еле слышно, но по ту сторону «озера с лебедями» обязательно кто-нибудь переворачивался и вздыхал.
— Все надо принять, выгрузить, рассортировать. Уберечь от дождя и снега, — шептала мне мама, готовясь хоть немного поспать.
Усталой она не выглядела. Даже волосы накручивала на свернутые бумажки и смазывала лицо вазелином:
— Обветрилось… За собою надо следить. А то вернется отец — не узнает!
Нередко она объясняла мне, как важно соблюдать технику безопасности.
— Торопиться, но соблюдать! Если бы это правило существовало там, где отец…
Я в такие минуты закрывал лицо одеялом или говорил, что мне необходимо на минутку во двор.
Каждый раз прямо с порога мама спрашивала:
— На почте был?
— Был.
— Ничего нет?
— Пока нет.
Когда она возвращалась домой пораньше, к нам с другого конца барака заходил Николай Евдокимович.
Мы с ним в два голоса объясняли, что письмо могло затеряться, что путь от фронта до Урала очень далек.
Даже Подкидышу я об извещении не рассказал — это было нашей с Олегом тайной. И еще тайной той болезненной девушки, которая все хотела покинуть свое окошко.
На стройке Николай Евдокимович очень старался облегчить мамину участь.
— Воздухосборники мы с ним комплектуем. И насосы, — шептала мне ночью мама.
— Какие насосы?
— Которые в этом бараке едва ли поместятся. Молоко свое предлагает… А зачем мне? Чтобы стариться, чтобы толстеть? Отец вернется и не узнает! Мы, женщины, куда выносливей, чем мужчины… Я вот ни разу в жизни не была у зубного врача! — Мама сверкнула улыбкой, про которую соседи в Москве говорили, что она «как у Любови Орловой». — Мужчинам нужно гораздо больше калорий!
Наверно, она имела в виду меня.
Николая Евдокимовича маме подкинули, когда он был уже в зрелом возрасте. Много лет он работал на стройках «инженером без диплома»: у него было незаконченное высшее образование.
— Я не хотел закончить жизнь с незаконченным образованием, — говорил Подкидыш, — и в тридцать пять лет поступил на четвертый курс.
Там он встретил маму, которая была моложе его почти на тринадцать лет. Поэтому, я думаю, она называла Подкидыша на «вы». Он в ответ называл ее так же. Отец и по этой причине поглядывал на них с подозрением.
— Почему он не закончил институт в молодости? — спросил я однажды. Плохо учился?
— Ты можешь представить себе, что он плохо учился?! — оскорбилась за Подкидыша мама. — У него были тяжело больные родители: он содержал семью. Тебе это трудно понять.
Своих «стариков» Подкидыш любил беззаветно. Случилось, что оба они были прикованы к постели в течение долгих лет. В их семье все друг за друга болели. Так было в буквальном смысле: когда отца разбил паралич, мать не вынесла горя, и сердечные приступы уже не покидали ее. Врачи и лекарства как бы прописались в семье Елизаровых… Из-за этого Николай Евдокимович не женился. А потом он встретил маму — и остался холостяком навсегда.
— Именно любовь сделала его вечным холостяком… Это выглядит старомодной историей, — при мне сказала маме наша соседка. Она думала, что я, в то время еще первоклассник, ничего не пойму: взрослые нередко на этот счет ошибаются.
— Не называй старомодным то, что тебе недоступно, — ответила мама соседке. — Мы часто смешиваем современность с самими собой. А рыцарство, учти, всегда современно!
Значит, она считала Подкидыша рыцарем… Он им и был. Его родителей похоронили на Ваганьковском кладбище.
— И мое место там, — говорил Николай Евдокимович, будто поскорей добраться до этого места было его мечтой. — Только там… Других пунктов в моем завещании не будет.
Больше всего на свете Подкидыш любил Москву. А потом — мою маму.
Он знал все арбатские переулки, в одном из которых был и наш дом. Он мог безошибочно сообщить, у кого и на сколько дней останавливался Пушкин, где умер Гоголь, а где бывали Веневитинов или Вяземский.
— Ты ходишь на лыжах по Гоголевскому бульвару? Не возражаешь, чтобы мы с тобой как-нибудь погуляли без лыж? Там, ближе к Кропоткинским воротам, есть такие святыни…
— А знаете, однажды зимой я лизнул бронзу на памятнике. Хотел попробовать снег!
— И язык остался на бронзе?
— Лучше бы он взял себе язык Гоголя, чем подарил ему свой! — заметила мама.
— И еще я катаюсь на этом бульваре с гор, — сообщил я Подкидышу.
— Горы!.. — грустно воскликнул он. — Когда-нибудь они покажутся тебе небольшим возвышением. Наши представления со временем так меняются!
— Почему вы говорите об этом с печалью? — спросила мама.
— «Печаль моя светла…» Она вызвана сожалением, что зрелость так точно определяет разницу между горой и холмом.
Пушкина он цитировал постоянно, считая, что поэт сказал все обо всем на свете.
— В моем возрасте это уже можно постичь! — утверждал Подкидыш.
Цитаты он очень естественно вплетал в свою речь, потому что они точно выражали и его собственные суждения.
На фронт Подкидыша не взяли главным образом из-за плохого зрения. Стекла его роговых очков были такие толстые, что я не мог определить, какого цвета у Николая Евдокимовича глаза. Видно было только, что они очень добрые.
Своего «белого билета» Подкидыш стыдился.
— У меня на медкомиссии обнаружили еще кучу болезней, — признался он мне. — Председатель сказал: «Практически у вас здоровы одни только уши». Не возражаешь против такого диагноза? Но Катюше не говори!
Маму он называл Катюшей.
— Не возражаете, чтобы я и завтра заглянул к вам? — спрашивал он у мамы.
— Если мы вернемся с объекта раньше двенадцати ночи, пожалуйста!
— Значит, не возражаете? А то, может быть, я наскучил: столько «сердца горестных замет», — сказал он, я помню.
— У меня «ума холодные наблюдения», поскольку мы должны принять завтра очередной эшелон. У вас «сердца горестные заметы». Получается искомое равновесие.
Назавтра они с мамой, как правило, возвращались позже двенадцати. И на второй и на третий день тоже… А через недельку им вновь удавалось выкроить часа полтора. Я очень любил эти вечера, потому что мы вспоминали о Москве, о мирных годах, казавшихся нереальными, об отце…
Однажды утром, минут в пятнадцать седьмого, когда мама уже собиралась на работу. Подкидыш ворвался к нам без всякого предупреждения.
— Не возражаете? — И сразу вбежал. — Их разгромили под Москвой! Вы это предвидели, Катюша. И говорили об этом… Свершилось!
— А как вы узнали?
— По радио.
— Вдруг теперь… и письмо придет?
— Разумеется… Можно не сомневаться! И ты вставай, — тормошил меня интеллигентный Подкидыш.
А вечером мы собрались, чтобы отметить праздник.
Усталые, серые лица вроде бы оживились — ив бараке стало уютней. Мама всегда была гостеприимной хозяйкой. Если кто-нибудь приходил к нам в Москве неожиданно, без приглашения, она, произнеся в коридоре приветственные слова, не хваталась на кухне за голову, а говорила откровенно:
— Чем уж богаты…
Если у нас оказывался Подкидыш, духовное богатство семьи, естественно, увеличивалось. Он подробно сообщал о том, что было раньше на месте какой-нибудь станции метро или дома, в котором жили наши незваные гости, и те были очень довольны. На стол мама выставляла все, что висело за форточкой, на крючке. И буфет она полностью очищала с таким видом, будто он оставался до краев переполненным. Она отдавала, делилась, но не отрывала от себя.
В тот вечер, в бараке, мама предложила всем «объединить продуктовые запасы», откинуть бывшие скатерти, старые ковры и портьеры, разделявшие нас. Барак сразу сделался длинным, как деревянный туннель. Резали затвердевшие от холода буханки. казавшиеся ненастоящими, бутафорскими; покрывали хлебные куски таким тончайшим слоем масла, что сквозь него ясно просвечивали цвет хлеба и все его поры.
Кто-то принес полбутылки спирта и разбавил его водой до такой степени, что остался лишь запах.
— «Друзья мои, прекрасен наш союз»! — воскликнул Подкидыш. Это прозвучало слишком возвышенно, и я пригнул голову, уставился в пол, как бывает в театре, если на сцене происходит что-то неестественное, фальшивое.
Но в ответ все захлопали. И тогда мама сказала:
— За Москву! И чтобы наши мужья вернулись… — Посмотрела на женщин и поспешно добавила: — Братья и сыновья тоже!
Мне стало страшно. Заныло в животе. Я скрючился, присел на топчан. И тут перехватил пристальный взгляд Николая Евдокимовича. Он пробился даже сквозь толстые стекла очков.
На следующий день, когда я возвращался из школы, Подкидыш ждал меня возле барака. Он отлучился с объекта, что нелегко было сделать. Морозный и сухой воздух потрескивал, точно кто-то баловался деревянным игрушечным пистолетом. Вокруг лежал снег, серый от золы, которую ТЭЦ, работавшая, как и люди, взахлеб, через силу, вываливала на город.
И снова толстые стекла очков, даже заиндевевшие, показались мне увеличительными: Николай Евдокимович хотел проникнуть в глубь моей тайны.
— Он… убит?
— Нет… Я думаю, нет.
— Что было в письме?
— Откуда вы…
— Катюша ничего не узнает, — впервые в жизни перебил он меня. — Но сейчас не скрывай! Что с отцом?
— Пропал без вести.
— «И от судеб защиты нет…» — прошептал Николай Евдокимович.
— Слово «пропал» имеет в русском языке не одно значение, — начал я успокаивать его и себя.
Я озирался, прикрывал рот заштопанной, шершавой варежкой.
— Ты прав, — согласился Подкидыш. — Наверно, ты прав… «Пропал» ближе к слову «потерялся», чем к слову «погиб». А тот, кто потерялся, может найтись. — Он взглянул на меня с надеждой.
— Как мы находим силы? — Подкидыш снял и протер очки. — Где мы находим?
— Организм приспосабливается.
— Весь… Кроме сердца, — ответил он. Съежился и побежал на работу.
«Но ведь мама может послать запрос, — подумал я вдруг. — И ей сообщат».
Она бы давно уж послала, но, как я догадывался, просто боялась, предпочитала неведение. Могла, однако, не выдержать… В каком словаре искал бы я тогда утешительные определения слова «пропал»?
Надо было предпринимать что-то срочное!
Вскоре ко мне пришел Олег делать уроки.
Обычно он торопился, а на этот раз раскладывал тетради и учебники не спеша:
— Отец печатает на машинке — и сестры спят.
— Обе?
— Они все делают коллективно!
— А отец, значит, печатает?
В голову мне пришла неожиданная идея.
— Сотрудников всех призвали, — стал объяснять Олег. — Остался только отец с машинисткой. Она печатать почти не умеет… Но у нее муж на войне. Дети болеют… Карточки получать надо! А печатает плохо. Я и то лучше… Приходится помогать отцу: ему одной рукой трудно.
— А мне ты поможешь?
Я взял Олега за плечи и повернул к себе лицом.
Огромные глаза его еще больше расширились.
— Объясни, пожалуйста.
— Объясню… Только тихо!
— Притормозите еще. Выходить я не буду. Издали посмотрю… — пообещал я таксисту.
Барака, в котором мы жили, уже не было. На его месте был парк, который назывался парком Победы.
«Первую победу, — вспомнил я, — мы отмечали зимой сорок первого именно здесь».
Таксист нажал на газ, боясь, должно быть, что я передумаю и захочу прогуляться по парку.
Сестры Олега действительно засыпали под пишущую машинку. Под эту странную колыбельную песню: организм приспосабливается.
Они умещались на одной тахте, обнесенной со всех сторон аккуратными досками, как забором.
— Это я придумал, — сказал Олег. — А иначе за ними не уследишь: расползутся, свалятся — не отыщешь.
Мать Олега тоже называлась «сестрой»: старшей медсестрой госпиталя, который был в трех километрах от города. — Дома ночует два раза в неделю, — сообщил Олег.
— Взяла бы отпуск. Раз… дочери маленькие…
— Мы уговаривали. Но у нее двух братьев убили.
— Так… быстро? — спросил я.
— Одного в августе на Украине. А другого недавно возле Калинина… Оба моложе ее. Была старшей сестрой в семье, а теперь только в госпитале. Если бы не они, — Олег кивнул на тахту, обнесенную досками, на фронт бы ушла.
— Тебя бы оставила?
— Я же взрослый.
«Тот, кто должен отвечать за других, раньше взрослеет», — подумал я. Меня-то ведь мама считала ребенком.
— Брат ее, который погиб под Калинином, — продолжал Олег, — только что школу окончил. Непонятно, зачем учился. Готовил уроки, как мы с тобой. Мать, я боялся, с ума сойдет. Была старшей сестрой! Понимаешь?
Глядя на него, на старшего Многодетного брата, я пони — Вам бы бабушек с дедушками на помощь!
— Они в Белоруссии остались. В деревне… «Здесь мы родились, здесь мы и будем…» А твои?
— У мамы давно уже нету… А папины в Ленинграде.
— И сам отец был… То есть, я хотел сказать, он тоже из Ленинграда?
— Подкидыш говорит, что «оттуда вся его потомственная интеллигентность».
Олег сел за машинку, медленно застучал, и сестры, которые уже были сонными, сразу затихли.
От имени командира воинской части мы сообщили Екатерине Андреевне Тихомировой, что муж ее, легко раненный, попал к партизанам, в такие места, откуда писать невозможно. И что, как только освободят Украину, сразу придет письмо…
Олег достал со дна ящика, из-под газет, конверт, полученный мною из рук болезненной девушки. Там он его хранил… Мы заменили листок с типографским текстом на тот, который пришел «от командира воинской части». И я спрятал конверт в портфель.
Потом явился отец Олега.
Ни осень, ни зима не смыли, не вывели дождем и морозом веснушки с его лица. А ушанка еле держалась на высоких, жестких волосах, словно на проволочных витках.
Движением левого плеча он ловко сбросил шинель. Плечо как бы обрывалось пустым рукавом, заправленным за пояс гимнастерки.
«Повезло Олегу, — подумал я. — Отца его больше никуда не отправят…» Я сразу же устыдился этой мысли. Но она все равно осталась со мной.
Будто прочитав ее, Кузьма Петрович сказал:
— Зачем демобилизовали? Правую руку вполне можно заставить и за левую потрудиться. Научить и заставить!
Он не гордился своим пустым рукавом, а поглядывал на него со смущением.
Правая рука, чувствуя ответственность и за левую, не знала покоя. Она то приглаживала волосы, которые пригладить было немыслимо, то пробегала по клавишам машинки, точно по клавишам баяна или аккордеона, то перелистывала толстый блокнот.
— Стройматериал для завтрашнего номера! Время такое, что людям беседовать некогда. На лету ловлю факты, заказываю статьи и заметки. Привык уже!
— Организм приспосабливается, — в очередной раз произнес Олег.
— Мирное время в этом полностью убедить нас не может, — ответил Кузьма Петрович. — А война за шесть месяцев доказала, что человек может вынести все. Только зачем ему все выносить?
В раннем детстве Олег называл отца папой Кузей. Дома его и сейчас звали так.
— Радость может быть безграничной, — продолжал папа Кузя. — Я за это! Но беда… Чтобы ее можно было выдержать, перенести, возникает энергия родства. Какой еще не бывало… Между чужими людьми! Вы заметили? — Мы с Олегом кивнули. — Между прочим, — обратился ко мне папа Кузя, Екатерина Андреевна твоя мать?
— Моя…
— Да что ты говоришь! Не представлял себе. Слышу: «Дима Тихомиров… Дима Тихомиров…», а спросить, как зовут маму, все забывал. Стало быть, ты ее сын? Хорошо. Я за это!
— Вы ее знаете?
— Недавно о ней писал. Неужели не показала?
— Нет.
— Значит, не так написал.
— Что вы! Просто не любит она…
— Не любит? Но ты почитай. Я принесу этот номер.
Он говорил и двигался так стремительно, точно хотел доказать самому себе, что потеря левой руки на нем вовсе не отразилась.
— АО чем вы писали? — спросил я.
— Они с инженером Елизаровым…
— С Николаем Евдокимовичем?
— Именно с ним… Так вот, они вместе придумали, как подавать оборудование на рабочие места новым способом. Предложили передвижные деревянные краны, кое-где опоясанные металлом.
— Деревянные?! — воскликнул я, будто разбирался в передвижных кранах.
— Они уже соорудили один такой кран. Представляете: дерево вместо металла. Я за это! Решили проблему. И тихо, без шума.
— Не любят они…
— Не любят? Хорошо. Я за это!
Правая рука его, не найдя дела, дважды стукнула по столу. Пишущая машинка слегка подпрыгнула. Обе сестры проснулись, испугались и сразу заплакали.
Пора детства не отягощена опытом и потому в мыслях и действиях своих бывает до наивности непосредственна. Она уверена, что добро должно порождать только добро и причем сразу, незамедлительно.
Олег выстукал на машинке письмо, которое доказывало, что мой отец не погиб… «Вот сейчас покажу его маме, — думал я по дороге домой, — и она успокоится». Впопыхах я забыл, что письмо это могло стать желанной вестью и облегчением лишь по сравнению с истиной, о которой мама не знала. В те далекие одиннадцать лет я любил мысленно ставить других на свое место и легко предсказывать таким образом чужие поступки, не сознавая, что на своем месте могу быть только я сам. Я скрывал от мамы извещение, пришедшее из Москвы, но свой предстоящий разговор строил так, будто она, как и я, обо всем уже знала.
«…Легко раненный попал к партизанам, в такие места, откуда писать невозможно», — напечатал Олег. Это было радостью на фоне слов «пропал без вести». Но ведь мама этих слов не читала.
Я завернул на почту. По-прежнему я заходил туда каждый день, и почти каждый день девушка с прозрачными пальцами говорила мне, что найдет другую работу. И еще повторяла:
«Треугольные письма люблю, а конвертов… боюсь. Особенно если тонкие и со штампом. Почему именно я должна их вручать?»
— Война — время писем, — сказал однажды Подкидыш. — Она всех раскидала в стороны. И люди пишут друг другу, как никогда! Разлучает, объединяет… — медленно повторил он свою старую мысль про войну.
На почте никого не было: весь город в это время работал.
Увидев меня, девушка вскочила, и лицо ее исчезло из окошка, скрылось за непроницаемо-матовым стеклом. Но я заметил, что рука в окошке что-то схватила со стола. А потом девушка выбежала из-за перегородки прямо ко мне.
— Треугольное письмо! — возбужденно кричала она на ходу, желая, чтоб я поскорей об этом услышал. — Треугольное… Значит, от него самого!
Я выхватил бумажный треугольник из ее тонких ледяных пальцев. Торопливо развернул его… Щеки у девушки остались такими же бледными, но глаза, казалось, в то мгновение их освещали.
«Уважаемая Екатерина Андреевна, — прочитал я. — Пишет вам фронтовой друг вашего мужа Алексея Алексеевича Тихомирова. Он дал мне ваш адрес и просил, если что, сообщить. Вот я и выполняю… Муж ваш, Алексей Тихомиров, геройски сражался с врагами и остался на поле боя…»
— Что с тобой? — услышал я голос девушки. — Что с тобой?!
Я вернулся к Олегу.
Кузьмы Петровича уже не было. Сестры возились за дощатым забором, окружавшим тахту. Олег прочитал… Нос его сморщился, как от яркого света.
— Думай о матери, — сказал он. И больше не произнес ни слова.
Он хотел спрятать бумажный треугольник туда же, на дно ящика, под газеты. Но я возразил:
— Пусть будет со мной. Всегда… Если отпороть подкладку и зашить его прямо внутрь, в куртку, а? Я только в ней хожу… Даже сплю, когда в бараке не топят. Зашей… Ты умеешь.
Олег достал ножницы, нитки с иглой и молча, проворно выполнил мою просьбу.
Когда я стал натягивать шапку, он остановил меня.
— Матери все равно покажи то письмо… которое мы напечатали. И держись! — Он всматривался в мое лицо своими огромными, забывшими про детство глазами. — Я пойду вместе с тобой.
— А они? — кивнул я на двух сестер.
— Позову соседку. Она остается с ними… иногда, в крайних случаях.
«Биология — женское дело», — то ли в шутку, то ли всерьез говорил мне отец. Поэтому «мужским началом» в нашей семье он считал маму. И вдруг ее сила исчезла. Тут же, на наших глазах. Она растерянно опустилась на сундук, заменявший нам стол. И стала беспомощно оглядываться, как бы прося защиты.
— Ничего еще не… — попытался сказать Подкидыш. Но замолчал.
Мама не перечитывала, а долго, бесконечно, как мне казалось, смотрела на бумагу, которую мы сочинили с Олегом.
Наконец она поднялась: взяла себя в руки.
— А где это письмо было целых полтора месяца? — спросила она.
— У меня, — ответил я.
— Мы вместе его получали, — заверил Олег.
Она изучила штемпель нашего города, перевернула конверт, чтобы найти штемпель отправителя. Он был московским.
— А почему же тут… — начала мама.
— Командир воинской части написал, наверно, в Москву, в Наркомат обороны, — засеменил я словами. — А оттуда переслали. Ты же сообщила наш адрес.
Она осторожно уложила бумагу обратно в конверт.
— Я боялся тебе показать.
У меня заныло в животе. Я скрючился. Бумажный треугольник, зашитый в куртку, издал еле слышный, хрустящий звук.
— Что-то мы сегодня в столовой съели, — объяснил всем Олег.
— Я ждала этого, — все еще с трудом овладевая словами, сказала мама. — Пока мы тут живем припеваючи, он, раненный… не в больнице, не в госпитале, а где-то в лесу. — Она помолчала, набралась сил. — Раньше, когда он заболевал простудой с температурой тридцать семь и три, я укладывала его в постель. И при этом непременно посмеивалась над его мнительностью. Сама же укладывала и сама же посмеивалась… Зачем? Если бы можно было перед ним извиниться!
— Все вернется, — пообещал Николай Евдокимович.
— Легче восстановить завод, чем здоровье одного человека, — ответила мама. И обхватила руками голову:-В лесу… Без врачей, без лекарств…
— В партизанских отрядах есть врачи. Там делают операции, — напомнил Подкидыш.
— Иногда даже пилой или кухонным ножом. Я читала в газете… Когда это касается других, восхищаешься, а когда близких людей — ужасаешься и страдаешь.
— Но вы же не возражаете против того, что в партизанские отряды доставляют… — снова начал Подкидыш.
— Из этого отряда, как вы заметили, даже нельзя писать, — перебила она. — Мы тут неплохо устроились, и нам очень легко рассуждать.
Николаю Евдокимовичу и правда убеждать ее было легче, чем нам с Олегом: он не видел бумажного треугольника и не знал, не мог себе представить… что отца уже нет.
— Будем ждать. Что нам еще остается? — сказала мама. И, заметив на краю стола-сундука белую бутылку, спросила: — А почему ты утром не пил молоко?
— Сейчас выпью. Может быть, и ты…
— Я сыта.
— Не возражаете, если я принесу свое? — предложил Николай Евдокимович.
— Зачем? — удивилась мама. — В партизанский отряд я не смогу его переправить. Так что пейте: мужчинам нужно больше калорий.
Мама потерла виски, села на топчан, заменявший постель. А уши закрыла руками. Она не плакала. Просто ей не хотелось никого видеть и слышать.
Мы потихоньку вышли.
Правая рука папы Кузи бегала по клавишам машинки, не нажимая на них.
— Нервничает, а молчит, — пожаловался Олег. — Не пробьешься! Ну, чего он молчит? Надо разрядиться — и сразу бы полегчало. Ему и нам с сестрами.
— Они тоже чувствуют?
— Еще как! Даже маленькая реагирует очень нервно.
— Плачет?
— Гораздо хуже.
Я понял.
— Мама умеет его разряжать, — продолжал Олег. — Но у нее новая партия раненых: пятые сутки домой не приходит. Что у тебя случилось? обратился он к папе Кузе.
Тот с удивлением взглянул на него. Но ответил:
— Рука у меня одна, а ног пока две. И все же не поспеваю… Столько разных объектов! Расстояния километровые… Мало заказать горящий материал — надо его и забрать. А где же нынче курьеры?
— Поручи своей машинистке.
— Да болеет она…
Папа Кузя заметался по комнате.
— А если мы будем тебе помогать? — так же деловито, как он пришивал пуговицы, поинтересовался Олег.
— Что-что? — Папа Кузя нажал на клавиши, по которым в тот миг гуляла его рука.
— Будем ходить по объектам, которые не засекречены. Разве нельзя?
Кузьма Петрович, размышляя, еще немного пометался по комнате.
— Ну что же… Выхода нет…
— Договорились, — удовлетворенно сказал Олег. — Что ты ликуешь? набросился на него отец. — Вам нужно в парке культуры на каруселях кружиться. А вы воюете, голодаете… Теперь вот будете ходить по морозу. Ты думаешь, я за это? Уродства военного времени!
Он сел за машинку, взял бланк с красным названием газеты вверху и выстукал удостоверение. В нем было написано, что нам с Олегом доверяется исполнять обязанности курьеров.
После уроков мы с таинственными лицами, не позволяя себе улыбаться или шутить, шли на те объекты, которые не числились в «засекреченных».
Люди были так заняты и измучены, что у них не хватало сил удивляться. Увидев наше удостоверение, они спрашивали:
— Что нужно?
И, не отрываясь от чертежей или инструментов, говорили, к кому обратиться. Женщины устало сетовали, что мы в ботинках с галошами, а не в валенках. Валенки выдавали только тем, кто работал «на свежем воздухе».
Воздух был не свежим, а таким плотно застывшим, что его трудно было вдыхать. На сером от золы снегу валялись замерзшие воробьи. Люди меж тем клали кирпич, врубались в стены отбойными молотками, что-то измеряли и даже записывали окаменевшими пальцами.
«Все для фронта! Все для победы!» — читали мы на выцветшей, будто простиранной снегом и стужей, материи или прямо на кирпичах. Но люди и так отдавали все…
Вначале нам нравилось выполнять поручения папы Кузи. Но вскоре мы уже не делали таинственных лиц. От игры ничего не осталось. Мы еле дотаскивались до объектов. Заходили в конторы, чтобы попрыгать возле печурок. А потом без всякой гордости и воодушевления предъявляли свой мандат.
Однажды ветер был таким сильным, что навалился на нас, как нечто живое, тяжелое. Олег прятал лицо в воротник. А мой воротник был узеньким, и спрятаться в него я не мог.
— Варежками закройся, — посоветовал мне Олег. Но я его не послушал.
— У тебя побелели щеки, — сказал он. — Надо потереть снегом.
Серая гарь скрипела и пачкала руки. Наконец я добрался до чистого снега. И испуганно, изо всех сил стал тереть щеки.
— Не надо так сильно, — сказал Олег.
Но уже было поздно. Из-под стертой кожи выступили коричневые пятна, кровоподтеки.
Таким мама увидела меня поздно вечером.
В прежние мирные времена она волновалась, если я задерживался во дворе или в кино. Или если приносил домой двойку. Но когда случалось нечто серьезное, она сразу брала себя в руки. На сей раз она с подчеркнутым, напряженным спокойствием прищурилась, и я понял, что вид у меня ужасный.
— Как раз вчера мне случайно принесли немного жира со шкварками, сказала мама. — Прораб с женой ездили в район и достали гуся. Для дочери. У нее сильное истощение… Шкварки — для внутреннего употребления, а жиром я смажу тебе лицо.
В трудный момент у мамы почти всегда случайно обнаруживался спасательный круг.
Покрыв мои щеки аппетитно пахнущим жиром, она сказала:
— Я захватила из Москвы отцовские целебные травы. Два или три пакета… Буду заваривать, чтобы ты понемножку пил. Это защищает от дистрофии.
— Но я ведь и так… съедаю все, что тебе дают на работе за «вредность».
— Ты растешь, — категорически заявила мама. — Закладывается фундамент здоровья. А мой фундамент был заложен в мирное время.
— Давай пить настой вместе, — предложил я.
— Травы мне противопоказаны. Ты разве не знаешь?
Ей всегда было противопоказано то, чего в доме у нас не хватало.
К нам зашел Николай Евдокимович… Он не умел брать себя в руки и с порога воскликнул:
— Кто тебя так?!
— Мороз, — ответил я.
— Не возражаете, если я принесу вазелин? У меня есть две баночки.
— Я лечу его более дефицитным средством, — ответила мама. — Гусиный жир! А вазелин подарите мне: все же косметика!
Шкварки она разделила поровну на две части и положила на хлеб.
— Я абсолютно… — начал Подкидыш.
— Только не делайте вид, что это постоянное меню военного времени!
— А вы сами?
— Мне жирное противопоказано с детства, — ответила мама. Смущенно покончив со шкварками. Подкидыш сказал мне:
— Тебе сейчас нельзя выходить на улицу. — Он с испугом разглядывал мои щеки. — Или надо закутываться. Если не возражаете, я принесу шерстяной шарф, который мне много лет назад… связала мама. В день бомбежки он чудом оказался на мне. Раз такое несчастье…
— Какое несчастье? — подбадривая меня, удивилась мама. — А шарф принесите… На всякий случай. Впрочем, а как же вы сами?
— У меня есть еще один. Спасибо, Катюша. Я буду рад этой возможности…
— Кстати, — сказала мама и погрузила руки в пакет, где хранились отцовские травы. — Здесь, на дне, я обнаружила немного грецких орехов. Когда-то люди ели орехи! Невозможно поверить.
Я достал молоток… Мы с Подкидышем кололи орехи, ядра которых напоминали маленькие полушария головного мозга с лабиринтами замысловатых извилин. Так по крайней мере их изображали в учебниках.
Я протянул первое ядро маме.
— Разве ты не знаешь, что орехи я никогда не ем? — категорично, тоном начальника стройконторы сказала она.
Потом Подкидыш и мама стали обсуждать то, что они называли «забавным вариантом».
Мама боялась высоких слов, и, если речь шла о чем-нибудь необычном и важном, она говорила:
— Это забавно!
Забавность в данном случае состояла в том, что они придумали, как сгружать тяжелое оборудование «более легким способом»: с помощью тросов, лебедок, блоков и «других такелажных средств». Слушая их, я все торопливо и подробно записывал.
— Тише, Дима делает уроки, — предупредила Подкидыша мама.
Я не стал возражать. А после спросил:
— Можно об этом написать? В газете… Получится обмен опытом!
— Поднабрался ты всяких слов в журналистском семействе, — ответила мама.
— Если не возражаешь… прежде, чем писать, надо проверить, — сказал Николай Евдокимович.
Папа Кузя был того же мнения, что и Подкидыш:
— Надо проверить! А вообще, перспективно… Сгружать с платформ многотонные грузы — сплошное мучение. Если они облегчат, я за это! Но надо испытать, убедиться на практике.
— А та газета… с первой заметкой про маму и Николая Евдокимовича? спросил я.
Он «развел» одну свою руку в сторону:
— Не нашел. Даже из подшивки выдрали. На курево, надо полагать. Трудно с бумагой.
— Ас чем легко? — задумчиво произнес Олег.
В тот день прибыли платформы с «вращающимися печами».
— Как раз вовремя подоспели, — утром сказала мама. — Новый цех подвели под крышу. Так что квартира готова!
Она смазала мне лицо вазелином: гусиный жир кончился. Проследила, чтобы я съел котлету, которая только по старой привычке называлась мясной, и запил ее настоем из отцовских целебных трав.
— Тебе нельзя заболеть дистрофией, — настойчиво и спокойно повторила она. — Пойми: закладывается фундамент!
Потом она закутала меня в шарф, который когда-то связала для своего сына мать Николая Евдокимовича. Мама по-прежнему старалась, чтобы я не испытывал тягот военного времени. Или испытывал их поменьше… Она и валенки мне раздобыла, которые я должен был натягивать рано утром, пока она не ушла на работу.
— Хочу убедиться… Не хватает еще обморозить и ноги! — сказала она в тот день.
Мама оглядела меня напоследок, словно объект, подготовленный к сдаче. И побежала готовиться к встрече платформ с печами.
А я через полчаса отправился в школу.
Накануне где-то прорвало трубы, и мы занимались в шапках, в пальто. А я еще и в огромном шарфе, оставлявшем на виду только нос и глаза. Конечно, в классе я мог бы и снять этот шарф, но тогда бы меня наверняка вызвали отвечать. Учителя уже давно меня не тревожили: я находился как бы на излечении.
С последних уроков нас сняли и послали на расчистку подъездных путей. Для платформ с теми самыми печами, которые умели «вращаться».
Нас часто посылали на такие работы. И хотя орудовать на морозе лопатами и скребками было нелегко, мы радовались: во-первых, приобщались к важному делу, а во-вторых, срывались уроки. Мы одержимо стремились к взрослости, но оставались детьми.
Чтобы получить от Кузьмы Петровича очередное задание, мы пошли потом к Олегу домой.
Его мама только что проснулась после многосуточного дежурства.
Она была очень полной. «Последствия родов…» — объяснил мне Олег. Но делала все четко, без лишних движений, будто подавала инструменты хирургу во время операции.
Комната была завешана детскими рубашонками и трусиками. Пахло стиркой и чистотой.
Вера Дмитриевна встала, подсыпала в утюг горячих углей, деловито ощупала белье, сняла его с веревок. Затем дотронулась мокрым пальцем до металлического утюга, напоминавшего переднюю часть игрушечного корабля. Утюг зашипел, и она принялась гладить.
— Ты отдохнула? — спросил Олег.
— Чуть-чуть вздремнула. И хватит! — Она обратилась ко мне: — Чем сильней устаю, тем больше полнею. Главврач говорит: нарушен обмен. А что сейчас не нарушено?
Она говорила об этом бойко и весело. Должно быть, столько видела каждый день страданий, что ее личный обмен веществ и все домашние дела не казались столь уж серьезными.
— Я бы сам погладил, — сказал Олег.
— А мне что прикажешь, сидеть без дела? — Она взглянула на будильник так, будто он зазвонил. — До дежурства еще есть время. Отец вот запаздывает…
Выгладив все с фантастической быстротой, она отправилась за дощатый забор, то есть к своим дочерям.
— Отвыкли, — сказала Вера Дмитриевна. — Дети любят тех, кто с ними возится. Скорей бы кончалась война!
Она не заигрывала с ними, а по-деловому проверяла, все ли в порядке. Сестры молча терпели, будто явилась ответственная комиссия.
Дверь распахнулась, и вошел папа Кузя.
Он не поздоровался ни с женой, ни с нами. Стянул ушанку с высоких и жестких волос.
— Как раз сегодня мама и Николай Евдокимович испытывают новое приспособление. Очень забавное… — поспешил сообщить я. Потому что он просил меня вовремя об этом сказать.
— Знаю, — ответил лапа Кузя. И резким движением левого плеча сбросил шинель. — Платформы пришли.
— Мы пути расчищали, — сказал Олег.
— Молодцы, — машинально похвалил он.
— А что случилось? — спросила Вера Дмитриевна.
— Что случилось?!
Он стукнул правой рукой по столу. Все притихли. И даже сестры не посмели заплакать.
— Что, Кузьма? — повторила она.
— Трос не выдержал. Лопнул… И там, на платформе, инженера Елизарова…
— Ударило? — шепотом спросил я.
— Но со страшной силой. Со страшной!
— А что с ним сейчас? С Николаем Евдокимовичем?..
— Был жив.
— А… мама?
— Она стояла внизу.
Кузьма Петрович подошел и положил свою руку на мою.
— Стояла внизу. Ты веришь мне?
— Да.
— Ас Елизаровым плохо…
Он отошел.
— И куда же его отправили? — четко произнося слова, спросила Вера Дмитриевна.
— Советовались… Решили к вам в госпиталь. Поскольку недалеко… Я был за это.
— Ну, я пойду, — сказала Вера Дмитриевна.
И ужас, перехвативший горло, немного отпустил меня.
— Мне пора, — сказала она.
После операции Николая Евдокимовича положили не в общую палату, а в комнату старшей медсестры. Так устроила Вера Дмитриевна.
— Он смертельно ранен, — сказала она. — Но и смертельно раненные иногда выживают. Случаются чудеса.
Нас с мамой пустили к нему.
Запах госпиталя проникал и туда: запах крови, открытых ран, гноя, лекарств.
Вера Дмитриевна забегала каждые пятнадцать минут. В белом халате мать Олега казалась еще более полной, но двигалась почти беззвучно. Она действовала: проверяла пульс, поправляла подушку, делала уколы. И появлялась надежда… Хотя говорила она только правду. Говорила так тихо, что даже стены не слышали.
— Все отбито внутри… Все отбито, — одними губами сообщила она.
Когда Подкидыш очнулся, он попросил, чтоб ему вернули очки. Наверно, думал, что сквозь толстые стекла не будет видно, как он страдает.
— Боль должна быть невыносимая, — опять одними губами проговорила Вера Дмитриевна. И сделала Николаю Евдокимовичу еще какой-то укол.
— Теперь станет легче.
Он заснул. Внутри у него что-то скрежетало, переворачивалось. Странно… но это нас успокаивало: мы вроде бы с ним общались, прислушивались к нему.
Двигаться по комнате мы не имели права. Я сидел на белой табуретке, а мама стояла.
Один раз Николай Евдокимович, вновь очнувшись, подозвал нас и прошептал:
— Мне очень… вас жалко…
— Ты… наш дорогой! — ответила мама.
Никогда прежде она не называла его на «ты». Услышав в этом отчаяние, Подкидыш захотел улыбнуться.
— «Учитесь… властвовать собой», — тихо посоветовал он. Или, верней сказать, попросил.
К вечеру в палату вошел милиционер в накинутом на форму халате. Я не мог определить его чина.
Он подсел к постели, раскрыл тетрадку и сказал:
— Мне разрешили… на пять минут. Дело требует! — Это напоминало сцену из кинофильма. — Так что несколько слов… Николай Евдокимович весь как-то напрягся.
— Запишите, — с твердостью, которой трудно было ожидать, сказал он. Тросы проверял я. Лично я…
— Но ведь руководительница работ… — осторожно вставил милиционер.
— Нет, — перебил Николай Евдокимович. — За это отвечал я. И доложил ей, что все в полном порядке.
Последние слова он прошептал торопливо, боясь не успеть. Он израсходовал все свои силы. Но потом снова напрягся:
— Если не возражаете… Я хочу подписать.
— Это еще не все, — с грубоватой неумелостью поправляя подушку, сказал следователь.
— Это все. Вы запишите, пожалуйста… Побыстрее. — Следователь поспешно задвигал чернильным карандашом, кончик которого то и дело неловко совал в рот.
— Я подпишу это место, — настойчиво попросил Подкидыш.
— Когда мы кончим весь протокол…
— Нет, дайте сейчас. Это место… Помогите, пожалуйста.
Следователь послюнил карандаш, наклонился к Подкидышу.
И тот подписал.
Мне показалось, что ему полегчало.
Вера Дмитриевна вошла, опытным взглядом оценила обстановку и потребовала, чтобы милиционер вышел.
Лицо Подкидыша в роговых очках затерялось на подушке.
— Устал, — сказала мама Олега. — Вы все выяснили?
— Надо бы…
— Да нельзя! — перебила она милиционера. И проверила у Подкидыша пульс.
Следователь махнул рукой и вышел в коридор. Мы с мамой, хоть он и не звал, тоже вышли.
— Я вам нужна? — спросила мама.
— Да чего тут!..
— Надо было перестраховаться, — сказала она. — Перепроверить!
— Он же докладывал вам, что все в порядке.
— Не помню… По-моему, не докладывал.
— Показания подписаны собственноручно. Так что… такое дело.
— Это я… его…
— Это война, — сказал милиционер. И захромал прочь от нас вдоль коридора: тоже, наверно, был ранен.
— Зачем ты так говоришь?! — набросился я на маму.
— Прости, — сказала она. — Я не должна была… ради тебя. А вообще, следовало… проверить. Техника безопасности! Сколько раз я говорила: техника безопасности! А мне и тут отвечали: война. Тросы с ней не считаются.
Пока мы были в коридоре, Николай Евдокимович умер.
Его старики были в Москве, на Ваганьковском кладбище. Он мечтал лежать рядом с ними.
Как-то однажды он рассказал мне, что и Есенин лежит там же, неподалеку.
— Это был великий философ! — утверждал Николай Евдокимович. — «Лицом к лицу — лица не увидать. Большое видится на расстоянье…» Если взять одни только эти строки! Или… «Ведь каждый в мире странник — пройдет, зайдет и вновь оставит дом…»
Подкидыш оставил наш дом навсегда.
«На Ваганьковском кладбище… Других пунктов в моем завещании не будет», — говорил он.
Кто в мире мог выполнить его просьбу?
— Солдат хоронят там, где они погибают, — сказал на следующий день Кузьма Петрович. — Он ведь и умер в госпитале… Среди солдат.
А старики ждали его на Ваганьковском кладбище.
Я приближался к маме… И тем более перед встречей с ней мне захотелось взглянуть на госпиталь, где умер Подкидыш.
Я вспомнил, что там, в комнате старшей медсестры, он раз или два с неимоверным напряжением приподнимался на локтях. Вероятно, хотел сказать что-то маме. Но я не догадался выйти из комнаты. К тому же Вера Дмитриевна то и дело пыталась его спасти. А позже приковылял следователь…
Я попросил таксиста завернуть к бывшему военному госпиталю.
Он первый раз обернулся и взглянул на меня с интересом и даже сочувствием.
— Вы в госпитале лежали?
— Да нет… Я был тогда еще школьником.
— А-а, — разочарованно протянул он. И опять повернулся спиной.
«Этот парень, должно быть, еще не родился в ту пору, когда сюда привозили раненых», — подумал я.
Прежде госпиталь был в трех километрах от города. А теперь это здание наверняка находилось где-нибудь в центре. Да и что в нем сейчас? Школа, больница?.. Или какое-нибудь учреждение?
«Вряд ли найдем», — подумал я. И изменил маршрут.
После смерти Подкидыша мама без конца перечитывала письмо «командира воинской части», которое выстукал на машинке Олег. Боялась новой потери, не зная, что она к нам… уже пришла.
А в гибели Николая Евдокимовича продолжала винить себя:
— Что мне стоило перепроверить? Что стоило?
Иногда она кончала словами, которых никто от нее раньше не слышал:
— Я устала. Очень устала.
Мне казалось, что устала она прежде всего от мыслей: об отце, о Подкидыше. А стремясь избавиться от усталости, нагружала на себя все больше и больше дел.
Наш барак к тому времени окружили красные коробки будущих цехов. На стройке одного из них мама пропадала с рассвета и до ночи. Ей уже не приходилось встречать эшелоны, сгружать оборудование, рассортировывать… Но забот прибавлялось. Укладывалась она, когда радио уже молчало, а вставала, как только черный круг на стене оживал. Так было изо дня в день, изо дня в день…
— Твоя мама уехала? — спросил меня как-то Олег. Он никогда не заставал ее дома.
— Она на стройке.
— И отец там. Но не всегда же…
— А мама всегда.
Город заполнялся похожими, как двойники, корпусами, перебрался через реку, занял позиции на том берегу.
Нам с мамой дали восьмиметровую комнату в настоящем кирпичном доме.
Мы собрали все свои вещи, сложили их в бездонный сундук, обвитый железными лентами.
— Как я могла заставить Подкидыша тащить его? — продолжала терзать себя мама. — У него было столько болезней!
— Ты знала о них?
— Конечно… Ценим, когда теряем. И жалеем, когда теряем. Говорят, лучше поздно, чем никогда. Порой эта поговорка звучит бессмысленно. Поздно — значит, все… Поезд ушел. И всегда-то мы наваливаемся на безотказность человеческую, на деликатность. Эксплуатируем их беспощадно…
— Ты о чем?
— Все о том же.
Я никогда до той поры не догадывался, что душевные перегрузки подтачивают здоровье гораздо сильнее, чем физические. В физических мама искала спасение. И нагружала себя и нагружала…
Я редко встречался с нашими соседями по бараку: они затемно уходили и возвращались во тьме. Но когда мы стали прощаться, вдруг выяснилось, что я знал не только их надвинутые на глаза мохнатые шапки, не только их валенки и полушубки, — я угадывал, сам того не подозревая, их лица. И помнил глаза… Оказалось, что мы с ними в этом бараке сроднились.
Позже я понял: война не давала людям возможности и просто-напросто времени для проявления всех своих «разнокалиберных» качеств. На передовую позицию жизни выкатывались орудия главного калибра. Ими, настигавшими врага даже из дальнего тыла, были каждодневная, будничная отвага и готовность жертвовать и терпеть. Люди становились чем-то похожи друг на друга. Но это не было однообразием и безликостью, а было величием.
Так думал и говорил я гораздо позже, когда война уже кончилась: «Большое видится на расстоянье». Быть может, сравнения мои звучали слишком высокопарно. Но ведь и геройство людей, живших с нами рядом, в бараке, тоже было высоким.
Тот сосед, что жил за «озером с лебедями» и угрюмо обещал маме каторжную работу, оказался водителем пятитонки. Он приехал на ней, погрузил сундук и отвез его в наши восьмиметровые хоромы, казавшиеся мне необъятными.
Прощаясь, все просили «не забывать». И мы обещали. Хотя тогда я не представлял себе, что этот барак, похожий на деревянный туннель, останется в моей памяти навсегда.
Заходить в гости никто не приглашал, потому что ни у кого не было времени принимать и наведываться.
Весна, лето, осень шли, как и положено, друг за другом.
— А что теперь не нарушено? — спросила как-то, переходя от своего обмена веществ к общим проблемам. Вера Дмитриевна.
В природе порядок не нарушался. Но отношение к временам года стало иным. Я всегда обожал зиму с коньками и лыжами на Гоголевском бульваре. Теперь же я боялся мороза, как беспощадного недруга. Но ничего в природе изменить было нельзя — и холода опять наступили.
Каждый день начинался со сводки Информбюро. Если сводка была плохой, все знали, что надо утроить усилия. А если хорошей, то тем более надо утроить…
Мама утраивала свои усилия бесконечно. К тому же она не расставалась с письмом «командира воинской части» и не могла забыть металлический трос, который бы не убил Подкидыша, если бы все вовремя «перепроверили». В конце концов она заболела… Простудилась, потому что очередной цех начали возводить в январе сорок третьего, на морозе.
Я сразу ощутил, что наша восьмиметровая комната уж не так велика. В ней поселилось третье существо — болезнь с кашлем, лекарствами. Стало тесно… И очень страшно. Я вглядывался в мамино лицо, а она улыбалась. Улыбка у нее была по-прежнему, «как у Любови Орловой».
— Обыкновенной простуды испугался? Чудак! — говорила она.
Я попросил зайти к нам Веру Дмитриевну, поскольку Олег объяснил мне, что старшая сестра госпиталя опытнее любого профессора: практика очень большая.
Она заполнила нашу комнату собой… и уверенностью, успокоением.
— Воспаление легких. Организм истощен, конечно… Слабо сопротивляется. Но это не смертельное ранение. И даже не тяжелое. Уж поверь мне! Мы, женщины, очень живучи. Поставим банки, горчичники — и все как рукой снимет. Не сомневайся!
Таксист мрачно, уже выходя из терпения, притормозил возле нашего трехэтажного дома.
Дом казался мне раньше высоким, как и «горы» на Гоголевском бульваре. «Да, представления о масштабах с годами меняются», — вновь согласился я с Николаем Евдокимовичем. Мамин адрес тоже давно изменился…
— Сколько мы еще будем останавливаться? — наконец выразил вслух свое недовольство таксист. — У меня план!
— Почти приехали. Это последняя остановка, — ответил я.
До мамы оставалось всего два квартала.
Я сказал, куда надо ехать.
А в самом начале сорок четвертого года у Олега в доме появилась вдруг девушка с почты. Она жила, оказывается, в соседнем подъезде и разыскала меня.
— Ты уже давно не приходишь. А вам вот… письмо.
Она протянула треугольник без марки. Пальцы ее стали совсем прозрачными и еще больше распухли на сгибах.
Я взял треугольник в руки. Уронил его… Поднял. Опустился на стул.
— Что с тобой? — как тогда, около двух лет назад, услышал я голос девушки.
Это было письмо от отца.
Рядом стояла пишущая машинка, на которой Олег выстукал сообщение «командира воинской части». И вот теперь… Это было невероятно.
«Дорогая Катенька! Дорогой Дима! — писал отец. — Родные мои, бесконечно любимые люди! Представляю, что вы из-за меня пережили, что передумали за эти два с лишним года.
Расскажу сейчас только о главном. Тороплюсь, чтобы письмо ушло с первым же самолетом: к годам вашего ожидания не могу добавить ни одной лишней минуты!
В октябре сорок первого меня ранило. Двигаться я не мог и попал в плен. Про лагерь писать не буду. Это страшно, но уже позади! Мне с двумя солдатами удалось наконец бежать.
Добрались до партизан… А вчера (только вчера!) воссоединились с нашей армией. Я еще немного хромаю, и меня определили пока на службу в прифронтовой госпиталь.
Дорогие, я чувствую, что победа близка. А это значит, что мы соберемся, как раньше, у нас, в Гагаринском переулке. И расскажем друг другу обо всем, что нам пришлось вынести. Это будет уже сброшенная с плеч ноша — и поэтому она не покажется нам непосильной.
О подробностях в следующем письме. Тороплюсь… Но все же скажу еще вот что. Какие бы я ни испытывал муки, всегда было у меня утешение: вы в безопасности, за вас я могу быть спокоен! Хочу узнать о каждом прожитом вами дне. Буквально о каждом!
Передайте привет Николаю Евдокимовичу. Как он живет и работает? Оберегает ли вас? Если оберегает, я буду благодарен ему до конца своих дней.
Как замечательно, что вы, Катенька, там, в глубоком тылу.
Дорогая моя, скоро мы победим, чтобы никогда больше не расставаться…»
«Екатерина Андреевна Тихомирова, — прочитал я на гранитной плите, — 1904–1943».
Я приехал к маме, у которой не был около десяти лет. Так уж случилось. Сперва приезжал часто, а потом… все дела, все дела.
У меня в руках был букет, купленный на привокзальном базаре.
«Организм истощен. Слабо сопротивляется…»
Прости меня, мама.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |