"Мгновение — вечность" - читать интересную книгу автора (Анфиногенов Артем Захарович)
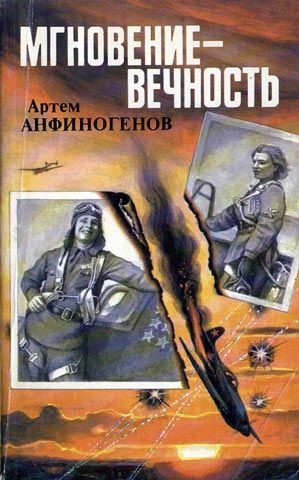 |
Часть первая В осеннем небе Сталинграда
— Баранов-то как отличился, — сказал командир полка майор Егошин, все узнававший первым. — Прямо герой!
КП насторожился.
В опустевшей деревеньке, лепившейся к берегу Волги, радио не было, газет не читали, а старший лейтенант Баранов проявлял себя так, что каждый его бой получал известность и обсуждался. Аэродромная молва, на все отзывчивая, сама объясняла причины повышенного внимания к летчику-истребителю Михаилу Баранову: под Сталинград стягивались лучшие части немецких военно-воздушных сил. Майор Егошин все домыслы и слухи гнал метлой, но источники, которым можно верить — где они?.. «Радуйся, старых знакомых встретил! — в сердцах выложил ему однокашник, снятый с боевой работы по ранению и поставленный во главе разведотделения. — «Мессера», гонявшие нас под Воронежем, — здесь!» Новость настигла майора на высоком прибрежном откосе, только что принявшем его экипажи. «Всех привел?» — спросил разведчик. «Двое на подходе, жду...» Помолчал майор, затыкавший рот любителям неподтвержденных фактов. Волга, мерцая внизу холодно и остро, напомнила ему первый сталинградский рассвет... «Начальник штаба планирует построение полка, — сказал командир. — Как положено, по форме, с прохождением знамени и захождением в строй...» — «Какое построение... Ты что... — понизил голос летчик, с курсантских лет, как и Егошин, питая к пешему строю неприязнь: не дело гордых соколов тянуть носочек, печатать шаг. — Под Воронежем «мессера» нагличали, теперь они вообще житья не дадут, того и гляди нагрянут, — чем отбиваться?»
Лучше всех ответ дает Баранов.
Поднимается на задание — в штабах садятся за телефоны, настраиваются на командную волну, ждут результатов. Двадцати одного годочка, розовощекий, со свежими впечатлениями еще близкого детства и открытой улыбкой, летчик Баранов, как заметил наезжавший к авиаторам московский писатель, чем-то похож на былинного Алешу Поповича. Возможно, похож. Каков собою древнерусский Алеша, командир полка не знает, запамятовал, главное, считает Егошин, в другом: Баранов для большинства наших летчиков — сверстник, погодок. И чином не велик — командир звена... Свой. Миша.
— Здорово отличился, — медлил майор; искушенный в добыче информации, он и распорядиться ею умел, дозируя и оглашая сообразно обстановке. — Две победы зараз: одного немца сбил, а другого таранил...
— Ну, Баранов, искры из глаз!
И прежде бывали на фронте летчики, заставлявшие удивленно говорить о себе, но такого, чтобы оправдывал ожидания изо дня в день жестокой битвы, — такого не было: что ни вылет, то бой и победа. «Баранов может... что же... чем черт не шутит, смогу и я», — загорались верой в себя другие: успех много значит среди бойцов.
Особенно дорог Михаил авиаторам тем, что валит немецких летчиков-истребителей штучного производства.
— Одно слово — рубака!
— Допек Баранова немец... но действительно истребитель: погибать, так с музыкой!
— А Дарьюшкину, говорят, трех баб-летчиц прислали, — не удержался, вставил Егошин, огласил не проверенный пока что факт. — Я понимаю, связисток, вооружении... куда ни шло. Сработают на подхвате. Но летчиц? В это пекло? Или в России уже других резервов не осталось? — Он покосился куда-то вбок и вниз, на локоть собственной гимнастерки, расцвеченный майорским шевроном.
Резервы — излюбленный конек майора.
Оседлать его помешал командиру «дед» годков под тридцать, бывший инструктор авиашколы.
— Для лучшего прикрытия самолетов-штурмовиков «ИЛ-два», — дал свое объяснение «дед». Сдержанный смешок прошел по КП.
— Один-ноль в пользу «деда».
В штурмовом авиационном полку майора Егошина собралось сразу три школьных инструктора. Два из них быстро сошли в наземный эшелон, третий, языкастый «дед» в звании старшего лейтенанта, держался в седле, и не было, ни одного не проходило вылета, чтобы его «ИЛ-2» не пострадал от алчной «шмитяры», как называл бывший инструктор капище немецких истребителей «Мессершмитт-109». Некогда Егошин был курсантом «деда», и последнему, по старой памяти, многое сходило с рук. Многое, не все. Высказался было старший лейтенант в том смысле, что «конечно, щелкают наших... скоростя не те... у немца самолеты побыстрее», и схлопотал от майора по первое число. Есть пункты, по которым они расходятся резко.
— Это в тридцать восьмом году, в Приморье, — пошел майор нахоженной тропой, не дожидаясь тишины, — так же, на склоне лета, подняли нас в ружье, трех героинь спасать. Дров наломали!.. Батюшки мои, сколько дров... Я тогда звеном командовал...
Далекий август, командование звеном... Губастый рот майора тронула улыбка.
Что говорить, не сложился финиш женского перелета на Дальний Восток, и дров, пока отыскивали упавших в тайге рекордсменок, наломали немало, а Егошина та осень высоко подняла. Всю страну встревожила судьба трех смелых молодок, сколько людей с надеждой смотрели на Егошина, на его звено, привлеченное к поиску. Впервые оказался Михаил Егошин на виду, почувствовал свою ответственность перед лицом народа... да поиск пустили по ложному следу, вдоль Амура, а девушек, спутавших Амур с Амгунем, унесло на север... Под Москвой, командуя полком, неся тяжелые потери и не зная, как отвечать на вопросы, поставленные войной, он однажды, чтобы облегчить душу, ввернул на собрании, дескать, «товарищи просят, чтобы я поделился, как мы искали народных героинь», — и час, наверно, держал аудиторию, обходя катастрофу спасательных ТБ-3 и «Дугласа», столкнувшихся над местом падения «Родины», и гибель десантников-парашютистов, вспоминая радость находки, дорогу цветов, триумфальное возвращение летчиц в столицу. «Вся довоенная жизнь была порывом», — говорит Егошин, видя в собратьях-летчиках приверженцев деяния и оставляя другим печалиться о потерях и жертвах, сопровождающих поступки. «Кто порывался в спецкомандировки или еще куда, — покряхтывает несогласный с ним «дед», — а кто крутился как белка в колесе... Я, например, в училище девять выпусков отбарабанил, а раз всего лишь отдохнул по-человечески, и то в декабре на юг поехал...» — тут общего языка они не находят. «Теперь Миша Баранов славу тех молодок поддерживает», — думает Егошин.
Короб полевого телефона с оборванной, свисавшей до пола шлеёй утробно заурчал. Егошин снял трубку.
— Хутор Манойлин, — повторил он, подвигая к обрезу стола лежавший наготове планшет, погружаясь в карту, погружаясь в цель, поставленную летчикам-штурмовикам, — хутор Манойлин...
— Восточная окраина... танки, — негромко, слышно для всех уточнял он задание, остро щурясь и делая на карте точечные пометки черным карандашом. КП следил за ним тяжело, молча, только «дед» присвистнул: «Амбар на восточной окраине...» На долгом пути к Волге летчикам приходилось бомбить места, где они прежде базировались. Валуйки штурмовали через месяц после отхода. Россошь — через три недели. А хутор Манойлин — вот он, за Доном, рукой подать... амбар, пропахший отрубями, сено в амбаре, свежего покоса, непросохшее, шелковистое. Егошин подгребал его себе на постель — четыре дня назад!
— Прикрытие? — требовательно спросил командир. — Не я за глотку хватаю — немец... — Напор вражеского наступления, его темп на КП в присутствии Егошина не обсуждался, но он, напор, был в мыслях у всех и невольно сказывался в том, что и как говорил майор, получая боевое задание из штаба дивизии. — В тот раз, хочу доложить, если не забыли, «ЯКи» вообще не поднялись, бросили нас... Что ж, по-вашему, я опять должен, «ЯКов» ожидаючи, молотить винтами, подманывать «мессеров»?.. Нема дурных, хватит! Мне эти расследования как мертвому припарка, скажите прямо: будет прикрытие?.. Сколько?..
Летчики, не дожидаясь, чем кончится тяжба командира, выбирались из тесного КП на крыльцо. Вслушиваясь в гудение «юнкерсов», стороной проходивших на Сталинград, «дед» сказал:
— Пара «ЯКов» в этом небе погоды не сделает...
Радость майора, выколотившего прикрытие, тоже невелика.
Штурмовик Ильюшина, «горбыль», или «горбатый», как его прозвали за верблюжий выступ кабины, — хороший самолет, против танков лучшего нет, о нем в полку песню сложили: «Жил на свете грозный «ИЛ», на заданья он ходил, — так, кажется, напевает Авдыш, знаток авиационного фольклора. — Сзади, спереди броня...» Броня, броня, все правильно. Сидишь в цельном кованом коробе, как в танке. «Щварцер тод», — пишут газеты. «Черная смерть», да. Но в полете «ИЛ» небыстр, а с хвоста беззащитен. Чтобы застукать танковую колонну на хуторе Манойлин, «ИЛу» требуется поддержка. Ему необходимо с воздуха прикрытие истребителей, «ЯКов», иначе «мессера» его сожрут.
Прикрытия — нет. Все наличные силы истребителей уходят на передний край, на защиту пехоты от «юнкерсов». Для сопровождения штурмовиков остаются слезы... юнцы, вчерашние курсанты. Теперь вот баб под Сталинград прислали.
Резервы — государственное дело, не нам решать, вот разгильдяйство российское, бардак повсеместный, «война все спишет», — как с этим быть? «Тот раз», неспроста поминаемый, это первый подступ к пеклу, первый вылет под Сталинград.
Восемнадцатого августа, к вечеру, привел Егошин на фронт свой полк. Горестно-успокоенным был он в тот предзакатный час: не опоздал. Управился в отведенный ему жесткий срок, в спешке собирая, сколачивая номерной, при боевом красном знамени, полк. Хватал все, что было. Летчиков-сержантов зачислял по выправке и росту (лейтенант, сопровождавший выпускников летной школы, запил в дороге и потерял их личные дела), матчасть с конвейера получал на заводском дворе, с шести утра до обеда... И — по газам. Но куда, если вдуматься, куда гнал он тридцать два экипажа, охваченных горячкой и растянувшихся кишкой, глаза бы на них, сопливых, не глядели?! В глубинку русскую, в приволжскую степь, где славяне коренятся издревле, одолевая и хозар, и печенегов, и орду, и куда нога иноземца не ступала веками... А ныне зерносовхоз «Гигант», что под Ростовом, бесславно оставленном, кормит Германию, а войска шестой армии изготовились для удара по цехам Сталинградского тракторного, первенца пятилетки. Вот где выпало Егошину встречать 18 августа, день сталинской авиации...
Командир дивизии полковник Раздаев поджидал его на посадочной полосе, клубившейся пылью. С прилетом не поздравил. Дня авиации не помянул. «Сколько привел?» — спросил он, исподлобья оглядывая небо. «Техника, хочу сказать, товарищ полковник, сработана на живую нитку, я, например, шел без давления масла...» — «Отказ прибора?» — «Сразу после взлета... Поэтому так: семь экипажей расселись на трассе...» — «Восстановить и перегнать... Придержи ручку-то, раззява... глаза что плошки, не видят ни крошки!» — выругался Раздаев на «галочий», с жутковатым креном плюх «ИЛа» и смерил Егошина тяжелым взглядом. «Когда ждать Ваняхина? — спросил полковник, с ним, Ваняхиным, разбитым за три дня и отправленным на переформирование, а не с новоявленным майором связывая свои надежды. — Ведь обещал быть нынче, я его нынче ждал!..» — «Не в курсе... Отвечаю за свой полк...» — «А я — за Сталинград!» — ввернул Раздаев, чтобы понял майор разницу, с которой следует считаться. К тому же дивизия Раздаева — отдельная, подчиняется Ставке, ее резерв. Фронтовое начальство это учитывает. На северо-западе, например, с ним были осмотрительны, только орденок занизили, а под Сталинградом... Под Сталинградом отдельная дивизия — падчерица, отцова падчерица, вся черновая работа — на ней. Передавать дивизию армии Степанова Хрюкин не намерен, напротив, принимает меры, чтобы оставить ее у себя, в восьмой воздушной, связать со Сталинградом намертво; в Генштабе с Хрюкиным считаются. — «Боевая задача на завтра, — приступил Раздаев к делу. — Хутор Малонабатовский, где засечено скопление танков...»
Тяжелые потери и шаблон действий, осужденный приказом Хрюкина, подвигнули Раздаева на тактическое новшество: поднять «ИЛы» не с рассветом, как повелось, а — затемно, чтобы штурмовики накрыли цель, когда солнце, восходящее над Доном, бьет зенитчикам в глаза, слепит их... Уловка предназначалась для летчиков Ваняхина, где-то застрявших. «Мои сержанты ночью не летают, — возразил Егошин. — Они днем-то...» Тут пилотяга, ухайдаканный многочасовой перегонкой, грохнулся, как утюг, обдав командиров жаркой пылью. Оба помолчали... Поднимать «ИЛы» с бомбами в потемках, вне видимости горизонта, вслепую, — значит рисковать, и рисковать крупно. При такой-то выучке дров не избежать. «Объект насыщен зениткой, прикрыт «мессерами», — сказал полковник. — Командарм Хрюкин мое решение одобрил...» — «В таком случае пойду «девяткой». — «Одной «девяткой»? От нас ждут эффекта!» — «Скомбинируем, — рассуждал Егошин вслух. — Пары составим так: один лейтенант и один сержант. Вчерашний инструктор поведет вчерашнего курсанта... Парочка, баран да ярочка», — и снова мелькнуло в мыслях Егошина восемнадцатое, день авиации... Праздник, черт языком дразнит... Сержант Агеев Виктор, приземлявшийся последним, его порадовал: притер свой «ИЛ» легко, неслышно. Раздаев, слушая расчетливого майора, от удовольствия прикрякнул.
Взлетали в аспидной тьме, какая сгущается на исходе августовской ночи, поглощая все, тяготеющее к свету: человеческие лица, брезентовые чехлы песчаного отлива, поварскую косынку официантки, привезшей горячий чай...
Недавние шкрабы, довоенной выучки летчики, поставленные Егошиным коренниками, скрепляли «девятку», молодые ухватывались за них, как за мамину юбку. Ободренный чудом собранной и поднятой стаи, майор думал не о Малонабатовском, не о танках, но о том, сколько продержатся сержанты. Небо за Волгой постепенно светлело, очертания машин становились четче. Мгла над прибрежьем скрывала город, не имевший ни начала, ни конца, он замер внизу, то ли в предчувствии великого бедствия, то ли собираясь с силами. Изредка вспыхивали топки пригородных поездов, искрили дуги ранних трамваев... Тьма стоит до света, свет до тьмы. Аэродром истребителей Гумрак, куда они приближались, чтобы получить прикрытие, признаков жизни не подавал. «Терпение, терпение», — приговаривал Егошин, начиная левый, блинчиком, блинчиком затяжной разворот вместо правого, естественного по ходу маршрута. Не опоздав в Котлубань, он обретал власть над строем, готовый упредить врага, и подсоблял сержантам, подлаживался под них. «Терпение, терпение», — отдавался он необычному чувству, о котором насмешливо говорили, как о стадном, недостойном командира РККА, а вот поди ж ты: оно благотворно. Ведь не сравнить, как телепались его губошлепы по маршруту в Котлубань и как цепко держатся сейчас; а истребители, поднявшись в Гумраке, усилят ударную мощь «девятки». «Побеждают не числом, а умением». Его умение — в сплоченности группы, осознавшей опасность, в способности летчиков повиноваться вожаку, нашедшему решение...
Он оглянулся в сторону «деда», шедшего в связке с молодым Агеевым, и увидел свечу, огненный факел над кабиной... Агеева? «Деда»? Он не разобрал, потому что «ИЛ» за его хвостом дернулся, как подшибленный, встал на крыло и крылом повалился... Не понимая происходящего, изумленно уставился он на цветные напористые струи, потянувшиеся вдоль борта. Восхитительно-зрелищной была их неожиданность и яркость; он подумал, что только ему дано в такой близи и так спокойно всматриваться в раскаленный сноп. Его опасности, его смертельной силы он не сознавал. Внезапный удар вышиб у Егошина ручку управления. Он потянулся за ней, его швырнуло к борту и перевернуло головой вниз. Зависнув на привязных ремнях, он все-таки поймал ручку, потряс ее, заклинившую, и бросил...
Защелка «фонаря» кабины, предрассветная свежесть августовской ночи, кольцо парашюта...
...«Все дело в спайке», — решил, очухавшись, Егошин, хватаясь за соломинку.
На донском проселке в зной и кладбищенскую тишину после бомбежки подкинул господь двум летчикам, двум Михаилам, Егошину и Баранову, бочку пива. Баранов пображничать не прочь. Егошин же первый в дивизии трезвенник. Под Новый год пригубил глоток шампанского — и все, ни комдив, ни милейшая его супруга, хозяйка дома, куда с женой был приглашен Егошин, не уломали Михаила Николаевича. Отвращения к спиртному он не испытывал — ему нравился ореол трезвенника, отвечавший профессиональному инстинкту летной среды. Распятая «юнкерсами» степная дорога к Дону сняла с майора честолюбивый обет. При виде крутобокой, схваченной железом, непочатой дубовой бочки, которая освежит, ободрит людей, он презрел свое воздержание. Он просто о нем забыл. До самолетной стоянки, где без обычного для аэродрома порядка вперемежку стояли «ИЛы» и «ЯКи», — метров триста, а бочка — ведер на сорок, не меньше. Летчики переглянулись... «Молоко люблю — страсть, — счел нужным сказать младший по должности и званию Баранов, отворачиваясь от вожделенной бочки. — Меня мать до четырех лет парным молоком выпаивала». И снова в задумчивости покосился на емкость, как будто перед ним был свеженацеженный, охваченный чистой тряпицей подойник, принесенный матерью из коровника. «Ради сюрприза, — решил Егошин. — Давай». Взялись за дело вдвоем. Под уклон находка двинулась, непослушно виляя. Два рукастых мужика, направляя ее как нужно, приноравливались, входили в темп: «Я поддам!» — «И я толкну!» — «Я придержу!» — «А я нажму!» Откуда-то берущийся веселый склад в словах, согласная работа увлекли обоих.
Когда начался взгорок, летчики скинули фуражки, распустили поясные ремни. Не силу вкладывал Егошин — злость, ожесточенность. Баранов, старавшийся рядом, еще не знал про групповой, стихийный загул истребителей в Гумраке. Потеряв восемнадцатого, в день авиации, на донской переправе шесть экипажей, они на ужин сходились нехотя и пили молча... Потом, пыхая на крыльце самокрутками, мрачно салютовали из пистолетов в небо, горланили, снова пили, первым потянулся прикуривать от электрической лампочки без абажура и, не достав до нее, свалился мертвецки пьяный капитан, два дня назад принявший полк... По команде дневального «Подъем!» ни один из летчиков-истребителей глаз не продрал. А тем временем четверка немецких асов на «мессерах», пройдя за Волгу под покровом ночи, дождалась над бахчами появления в Гумраке штурмовиков и ударом из засады в хвост расправилась с «девяткой» Егошина, втянувшейся в сподручный левый разворот. «Побеждают не числом, а умением». Медленно, застревая, скатываясь и снова поддаваясь, шла под их напором бочка с пивом, на которое для летчиков существует запрет: пиво в авиации — вне закона. А когда вкатили сорок ведер алкоголя на последний рубеж, навстречу взопревшим труженикам вышел дивизионный комиссар, два ромба в петлицах. Егошин руки по швам: «Майор Егошин!» — «Не командир ли штурмового авиационного полка?» — «Так точно!» — «Старший лейтенант Баранов!» — «Михаил Баранов? Истребитель?» — «Так точно». — «Начальник политотдела вашей дивизии, — назвался дивизионный комиссар. — Только что назначен. Где штаб дивизии, пока не знаю. Откуда пиво?» — «Была бомбежка... бочка с пивом закатилась...» — начал объяснять Егошин, смахивая пот с лица. Тут он вспомнил о своем обете. «Чем добру пропадать, товарищ дивизионный комиссар...» — подал голос Баранов, чуя нависавшую над майором опасность. «Первое дело после бомбежки — похоронить убитых», — строго сказал дивизионный комиссар. «Так ведь дышать нечем!» — «Продолжайте!..» — «Пиво утоляет жажду...» — «Я говорю, продолжайте», — распорядился дивизионный комиссар, рассудив, должно быть, что бочку разопьют и забудут, а вот согласие, с каким трудились над нею два летчика, командир штурмового полка и летчик-истребитель Баранов, их рвение в одной упряжке останутся...
Надо сказать, мудро рассудил.
Надежда на резервы, которые где-то готовятся и когда-то подойдут, — дело хорошее, но, понимал Егощин, внушая эту надежду своим летчикам, сегодня, в августе, под Сталинградом, она — фактор моральный. Исход воздушного боя, успех штурмовки опираются сейчас на чувство локтя, на взаимопомощь, на братскую верность соратнику... Брат с братом медведя валят.
Боевой вылет — это неизвестность, заставляющая неотступно о себе думать.
Хутор Манойлин, где Егошин поутру нос к носу столкнулся с комдивом Раздаевым, пытавшимся поймать бившую крылами пеструшку, а ночью, в кромешной мгле, плескался нагишом, черпая теплую водицу из куриного брода, — обжитый летчиками хутор Манойлин с вступлением в него немецких танков преобразился грозно и таинственно. Через Волгу пыхтел к дальнему берегу широкобедрый пароходик, отвлекая майора, унося его мысли в Заволжье, — хутор Манойлин тут же заявлял о себе, пригвождая летчика к мшистого цвета танковой броне, к счетверенным жерлам скорострельных орудий, нацеленным в небо, как перевернутый стул. Распоряжаясь по вылету, ожидая подхода двух экипажей, торопя инженера, Егошин на полуслове смолкал, уходил в себя: чем чреват, чем обернется для него хутор? Разгадывал неизвестность, пытался в меру возможного обезопасить для себя, для группы встречу с извергающим огонь Манойлином, а гром грянул, откуда Егошин и не ждал, — из Конной: «В Конной сержант Гранищев вмазал в Баранова!»
Разъезд Конная — пройденный этап. На «пятачке», в запарке, когда Сталинград, стоявший все время отступления по донской степи позади, за спиной, вырос громадой жилых кварталов на фланге, в близком от него соседстве слева, — о Конной на «пятачке» Михаил Николаевич и думать забыл... И вот на тебе: его летчик, сержант Гранищев, «вмазал в Баранова»!.. Среди подношений, которыми война не обходила смертного Егошина, чепе в Конной — жесткий, очень болезненный для майора удар, поскольку многие знают, что сержант Гранищев — его, майора, личное приобретение. Его чадушко, его находка... Обычно пополнение в полк присылают, а Гранищева он сам привел за ручку, как видно, себе на беду... Гранищев «вмазал», то есть налетел на самолет Баранова в Конной, откуда полк Егошина только что снялся. «Семь,- — машинально отсчитал про себя командир. — Семь, — исключил он самолет сержанта из боевого расчета. И тут же поправился: — Восемь». Восемь: подбитый или поломанный самолет, согласно приказу, числится за полком, пока командир дивизии не утвердит инспекторского свидетельства, акта о его списании. Из Конной авиация уходит, потеря будет списана не скоро... «Восемь», — повторил Егошин, глядя с обрыва на Волгу. Пароходик швартовался к дальнему берегу, речной пейзаж дышал спокойствием. «Восемь», — думал Егошин, зная, что на хутор Манойлин он поднимет семь экипажей, а дивизия будет числить за ним и требовать восемь...
Держа в голове боевой расчет, подправляя его, уточняя, Егошин одновременно думал о них, о Баранове и сержанте. Баранов гремит, о нем — листовки с портретом, за ним следит Военный совет, а Гранищев тем знаменит в масштабе полка, тем отличается, что создает «крутящие моменты», расшибая на земле самолет Баранова, когда ничего никому не докажешь, когда только ответные меры спасительны — находчивые, без промедления ответные меры...
В строй входил сержант неприметно, серой мышкой. Под Харьков полк проследовал единым духом: в пять утра дали по газам, на закате, покрыв с тремя дозаправками тысячу триста километров, выключили зажигание на одном из пустующих аэродромов Чугуевского летного училища; и на протяжении всего тревожного, жаркого, наполненного монотонным гудением, мышечной усталостью, рябью в глазах дня Егошин, тянувший за собой две девятки, не знал с сержантом никаких забот. Лейтенантские машины осматривали и готовили механики, по-собачьи ютившиеся в грузовых конурках одноместных «ИЛов», рабочих рук не хватало, поднималась ругань — сержант со своей техникой управлялся сам. «Тихий парень», — решил за ужином Егошин, довольный своим быстрым, вынужденным, в сущности, выбором, сделанным перед самым отлетом под Харьков, и стал искать глазами сержанта, но ни в столовой, ни в клубе, отведенном для ночлега, летчика не оказалось...
«Бомбы подвешены», — доложил Егошину инженер. «Сколько?» — «Четыре сотки». Четыре сотки, по четыреста килограммов возьмут «ИЛы» на хутор, на танки, въехавшие в хутор, на амбар — прохладный бревенчатый амбар, где сейчас, возможно, пережидают зной немецкие танкисты... «Добавь еще двести кило», — сказал Егошин инженеру, кося глазами на свой майорский шеврон. «Шестьсот?» — «Шестьсот!.. Всем по шестьсот!.. Время взлета не меняется, отдыхать будем на кладбище!» Шестьсот килограммов бомбовой нагрузки вместо расчетных четырехсот были ответной мерой Егошина, поднявшего полк на штурмовку...
Через час он вернулся.
Первое, что разобрал Егошин сквозь рев и грохот, не смолкавшие в ушах, были слова Василия Михайловича, начальника штаба: «Целы!» Он не понял, о ком Василий Михайлович — о Баранове или о нем, Егошине? «Как Баранов?» — прокричал Егошин, выставляясь из кабины, не узнавая собственного голоса. «В порядке!.. Сержанта «мессера» измордовали!» — «Баранов — в порядке?» — переспросил Егошин, стараясь разглядеть начальника штаба, прибывшего из Конной. «В порядке, в порядке!» — помогал, поддакивал Василию Михайловичу, тянулся, привставал на цыпочки за его спиной незнакомый лейтенант, складывал ладони рупором. «В порядке! — кричал начальник штаба. — Его в кабине не было!»
Счастье майора Егошина и счастье Гранищева, приведенного майором в полк, — счастье их обоих: Баранова в кабине самолета не было...
...«ИЛ-2» сержанта Гранищева подошел к «пятачку» авиаторов, возникшему на волжском откосе, одиноко и сел незаметно.
В речной свежести воздуха еще держался запах окалины и земли, взрытой налетом «юнкерсов», а в громких возгласах, сопровождавших Гранищева по деревне, слышалась радость только что пережитой опасности. На вопрос о штабе летчику отвечали, кто где прятался и как уцелел, или же передавали в лицах — и смех и грех — сцену с верблюдом:
как хозяин верблюда, схватившись за пришибленный камнем зад, вопил в кювете: «Убили, убили», а брошенный им на произвол судьбы корабль пустыни удалялся в сторону обрыва, где рвались фугаски, и как Василий Михайлович, майор, начальник штаба, при виде этой картины воскликнул: «Эхма, до верблюдов дошли!..»
На улице, оживавшей после бомбежки, Василия Михайловича поминали часто... Слишком часто... Какое-то ожесточение, говорили, нашло на него. Зная повадки «юнкерсов», Василий Михайлович, обычно уравновешенный, истошно кричал, глядя в небо: «Везет... везет... бросает!.. Отделилась, чушка, пошла!..» — и, медленно склоняясь, вел пальцем бомбу от брюха самолета до земли. Осколок, просвистевший в сторону штаба, снес майору челюсть...
Сбившись с тяжелого шага, Гранищев с шумным вздохом повел головой, удивляясь, как широко и стойко держится над волжским откосом гадкий запах немецкого фугаса, и понимая, что на «пятачке», куда он так спешил, гонимый одиночеством, желанием рассказать и объяснить все с ним случившееся, легче, чем в Конной, ему не будет. Гнет отступления, который армия несла на своих плечах, складывался из великого множества невзгод и страданий, настигавших человека всюду, куда доходила война, — в разнообразных своих проявлениях...
Два месяца мытарится сержант в полку Егошина, преет в стальном коробе «ИЛа», за бронеплитой, повторяющей, как по выкройке, контур его головы и плеч, и в последнем вылете, когда шилась вдоль борта очередь «мессера», он вжимался в плиту ни жив ни мертв, и тусклое зеркало боковой створки отражало его каменеющий подбородок... О том, что ему суждено, он не думал, «ИЛ» с отбитым рулем поворота он в руках не чувствовал... С безразличием, апатией, все сковавшей, ждал, что «мессера» над ним сжалятся, отпустят, уйдут, что падения камнем не произойдет... Миг тихого, плавного соприкосновения с землей потряс и ослепил его: «Жив!» Все, что в нем угасло, померкло, вспыхнуло и засияло, покрывая скрежет, броски и удары тела, пыль, все воспрянуло в ликующем «Жив!»... Одно колесо, пробитое, должно быть, издырявленное осколками, на полном ходу ободралось, потеряло резину, перестало вращаться, зарылось, пятитонная громада «ИЛа» пошла юзом, его припавшее на поврежденную ногу крыло, со свистом, подобно секире ометая пространство, снесло под корень вставший на его пути плексигласовый колпак кабины приземистого
«ЯКа»...
Майор Егошин встретил сержанта в дверях КП вопросом:
— Что Баранов?
— Почеломкались, — ответил Гранищев коротко.
(Из-за насыпи огибавшего Конную «турецкого вала», где, прячась в узкой тени, летчики опустошали ведро слив, выпорхнул старший лейтенант и встал как вкопанный перед . зрелищем, для фронтового аэродрома хотя и не редким, но по-своему неповторимым: «ИЛ» увесистой дланью крыла подмял, прихлопнул маленького «ЯКа». А Павел, невидяще глядя на возникшее в оседавшей пыли торосовое образование из закругления плоскости и смятой в носовой платок кабины, ни в грош, ни во что на свете все это не ставя, колотил кулаком по горячей бортовой броне, глухо повторяя: «Сел!.. Сел!.. Сел!..» Он плохо видел, плохо понимал, что с ним и что вокруг происходит, — сел, сел, сел, — но фигура неподвижно стоявшего летчика понемногу прояснялась, фокусировался его рот в желтой сливовой мякоти, его руки, липкие от этой мякоти и потому несколько расставленные, разведенные в стороны, пальцы, которыми он пошевеливал, чтобы их обдуло... Павел понял наконец, что напоролся на хозяина «ЯКа» и что сейчас он будет изничтожен. Но тут же он усомнился, владелец ли «ЯКа» перед ним. Ибо летчик, принятый им за такового, не спеша обтер испачканный сливой рот, сплюнул обглоданную косточку в ладонь и с тем спокойствием, которое принято называть демонстративным, с беспечностью, для хозяина погубленной боевой машины немыслимой, пошагал от злосчастного места прочь. «Баранов!» — позвали его. «Доложу командиру, — отозвался Баранов. — Сливу оставьте!»)
— Обезоружил воздушного бойца? Спешил?
— Баранов взял другой самолет...
— У него своя конюшня? Свой ангар? Богатый выбор?..
— Взял самолет новичка...
(Не до того было сержанту, не до Баранова. «Поднять и одеть!» — вот в чем видел он свое спасение. Поднять свой охромевший «ИЛ», поставить колесо, навесить руль, махнуть к своим — авиация из Конной снималась. Василий Михайлович, начальник штаба, ему посочувствовал: «Сел пермяк — солены уши? Сел, и то хорошо». За два месяца фронта Павел не встретил в полку ни одного уральца, и у него мелькнуло в голове, что начальник штаба, должно быть, земляк. Расспрашивать седенького майора Павел не решился, но потом он в предположении уверился: Василий Михайлович, которого в Конной все требовали и дергали, оказал сержанту великую услугу, догнав на своей «эмке» отбывшего с наземным эшелоном механика Шебельниченко. Это решило все. Одновременно с механиком на стоянке появилось одетое в резину колесо. «ИЛ», опершийся на обе лапы, обрел осанку. Из груды лома, сотворенного на взлете капитаном Авдышем, руль поворота выставлялся как символ несокрушимости. Будучи перенесенным и нацепленным на хвост сержантского «ИЛа», он придал последнему игривость, выражение послушания, утраченной было покорности. Барановский «ЯК», обезображенный секущим ударом, стоял без призора рядом. Такая встреча — хуже не придумаешь. Года за три до призыва наметил Павел училище, куда подаст заявление, — далекое от дома, предполагавшее поездку поездом, да еще с пересадкой, летное училище, и раннему своему выбору не изменил. Прошел чистилище двух комиссий, медицинской и мандатной, программу подготовки летчика-истребителя (сокращенную, ускоренную) и видел себя в бою не кем иным, как истребителем. Затем освоил он новинку военного времени, машину экстра-класса — «ЯК» (точно такой, как у старшего лейтенанта Баранова), и всего-то шаг, один шаг отделял его от вхождения в среду овеянных славой летчиков-истребителей... когда инструктор подставил сержанта под удар и, спасая честь мундира, сплавил на «ИЛы», в штурмовой авиационный полк майора Егошина... Так что спокойствие, непринужденно явленное впервые увиденным Барановым, повадка старшего лейтенанта, какую вырабатывает только фронт с его купелями, из которых выносит человек новое, прежде неведомое ему и другим понимание истин и ценностей жизни, — все это произвело на Павла сильное впечатление.)
— Самолет новичка — из женского пополнения? — уточнял, перепроверял Егошин сомнительный факт, преданный им огласке.
— Возможно...
(Не сержант, а Василий Михайлович, поверженный осколком фугаса, мог бы дать командиру достоверную информацию: Василии Михайлович знал, как сурово и незамедлительно карает приказ всех, кто повинен в оставлении врагу авиационной техники, и потому на «эмке» пустился вдогон за механиком. Расспрашивая в степи техников истребительного полка, покинувших Конную, Василий Михайлович услыхал позади себя напряженный женский голос: «А я-то думала, вы за мной, товарищ майор...» Он обернулся. Мальчишеская фигура, укоризненный взгляд: «Сержант Бахарева!» Василий Михайлович, старый служака, отметил выправку девушки, усердно, с выгодой для себя отработавшей курс молодого бойца, опрятность ее комбинезона, недавно снятого с полки вещевого склада. «Я думала, меня вернут...» — повторила Бахарева. «Куда?» — «В Конную, куда же? Милое дело: вместо задания — в грузовик... Я говорю: «Товарищи, вы что? А мой самолет?» — «А самолет, — отвечают, — получит летчик «. Вот так. Я пригнала «ЯК» на фронтовую площадку — и пожалуйста, такой ответа разве это справедливо, товарищ майор? Отдали мой «ЯК» старшему лейтенанту Баранову». Ее укор переходил в обиду, в осуждение. Обиду — за себя, осуждение — майору, который, как выясняется, не для того рыщет по степи и останавливает автотранспорт, чтобы восстановить попранную справедливость... Не для того. «Сержант Бахарева, выполняйте приказ!» — рявкнул в ответ Василий Михайлович... Рассказать об этой встрече Егошину он не успел. Как и о двадцати часах полевого ремонта. С сомнением щупая помятое крыло воскрешенного «ИЛа», Василий Михайлович спросил сержанта: «Так и полетишь?» — «Так и полечу». Некогда синий, в смоляных потеках моторного масла, пропахший пылью и травами комбинезон Гранищева был вправлен в такие же пятнистые кирзовые бахилы со скошенными каблуками и хлюпавшими на ходу голенищами; нос сержанта, слегка задетый оспой, малиново лупился от солнца, в опавшем лице проглядывала общая для отходивших к Волге солдат решимость на все. «Кривая девка — сладкая», — сказал, поразмыслив, Василий Михайлович. Он был солидарен с летчиком.)
— Возможно? — ждал уточнения Егошин. Баранов — в строю, вновь отличился, но спайка, спайка, — страшился командир штурмового авиационного полка последствий. Взаимодействие — тонкий, тончайший механизм, в нем нет деталей из твердых сплавов, его узлы, сочленения, разветвленные системы обеспечиваются серым веществом и нервными волокнами. Под Россошью молоденький, только что из училища истребитель посчитал наш бомбардировщик «ПЕ-2» за немецкий «МЕ-110» и, в нетерпении и страхе, с первого захода сбил «ПЕ-2». Спасшийся на парашютах экипаж устроил торопыге «темную», а командир истребительного полка, по-свойски делясь с Егошиным, сказал, что после такой заварушки им, истребителям, лучше бы не ходить на прикрытие того полка. «Остался осадок. Очень неприятный осадок». Вот чего опасается Егошин, зная, что Баранов жив-здоров, — осадка, взаимной неприязни, трещины между своими. Намек на распрю — каленым железом.
— Пятно на полк, сержант Гранищев, — сформулировал вывод Егошин. — Жирное пятно.
— Пустой-то короб «ЯКа», — вступился за сержанта «дед», — не так уж жалко...
— Отставить, старший лейтенант!
— Могу отставить... В Россоши истребителям «темную» устроили, я бы им еще добавил...
— Не подсекать боевого единства! — вспылил Егошин. — Как жук-древоточец — не подтачивать!.. За такие слова можно и ответить. А «ИЛ-два» без тормозов, хочу напомнить, товарищ старший лейтенант, если вы забыли, «ИЛ-два» без тормозов все равно что бизон! Его ничто не остановит!
В намерения Егошина, однако, не входило выгораживать летчика, хотя бы и невиновного, но едва не погубившего старшего лейтенанта Баранова.
— Сержант Гранищев! — взял себя в руки майор. — Бомбы на самолет не подвешивать. Временно!
— Слушаюсь.
— Четыре тренировочных полета по кругу. На чистоту приземления. Варежку в небе не разевать... Особое внимание — профилю посадки... Контролирую лично!..
...Чем ближе Волга, тем хуже.
Будь он, Гранищев, трижды прав, трижды ни в чем не повинен, командир полка Егошин Баранова ему не простит.
Напряжение на полковом КП возросло, когда вслед за Верхне-Бузиновкой, Манойлином в оперсводках запестрели названия: Тингута, Плодовитое...
Манойлин, Верхне-Бузиновка обозначали рубежи, взятые врагом, ломившимся к Волге с запада, Тингута и Плодовитое вскрывали новую угрозу — с юга. Сколь она велика, стало видно сразу: «пятачок», принявший летчиков Егошина, превращался в пункт сосредоточения всех исправных самолетов-штурмовиков «для нанесения, — как говорилось в приказе командующего 8-й воздушной армией генерала Хрюкина, — последовательных массированных ударов по танкам противника в районе Тингута — Плодовитое...».
По дороге на КП майор Егошин встретил нового в полку человека, лейтенанта Кулева, катившего по стоянке бомбу.
Что-то промелькнуло в лице Кулева, когда он, разгоряченный собственным усердием, хваткий, с хорошей выправкой, вытянулся перед командиром; что-то привлекло внимание Егошина и исчезло. Каждая лишняя пара рук на «пятачке» была дорога, снова добром помянул командир рачительного Василия Михайловича, Калиту, собиравшего полк, прихватившего где-то в степи лейтенанта Кулева.
— Все толковые штабники в авиации — варяги, — говорил Егошин лейтенанту, вызванному на КП. — Из кавалерии, саперов, инженерных войск. Теперь будет представитель пехоты.
— Я авиатор, товарищ командир.
— Тем лучше! Специальность?
— Закончил ШМАС, стрелок-радист...
— Стрелки мне не нужны.
— Плюс курсы штурманов...
— Штурманы тем более. Возьмешь на себя штабную связь.
Лейтенант потупился, и Егошин понял, что привлекло его внимание, мелькнув и исчезнув в лице Кулева: седые реснички. Когда лейтенант смотрел перед собой или несколько вверх, на более рослого, чем он, командира, его тронутые сединой реснички почти не были заметны; они выступали над одним глазом, когда Кулев склонял голову, производя впечатление, будто глаза у лейтенанта разного цвета. Но впечатление это было обманчивым. В действительности Кулев был кареглаз.
Майор связался по телефону со штабом дивизии.
— Имя-отчество — Степан Петрович... пока заочно... Будет случай, представлю... Голос? Как у Карузо. Слыхали Карузо? Послушайте.
Вместо того чтобы слушать голос Кулева, дивизия поставила его в известность:
— С рассвета всеми наличными силами — на Тингуту. Бить до темна. Давайте итоги дня. Кулев прикрыл трубку:
— Требуют итоги дня...
— Передавай... Назначен? Передавай! Кулев развел руками.
— Должен знать, коли назначен, — повторил Егошин. — Передавай, пусть к голосу привыкают... Сего дня августа месяца, — начал он привычно, — полк занят восстановлением материальной части...
— ...восстановлением материальной части, — вторил ему Кулев, не глядя на командира, вспоминая налет «юнкерсов». «Главное — зацепиться, — думал он. — Штабное дело нам знакомо, уж как-нибудь. Школа капитана Жерелина... Уж как-нибудь!»
Майор диктовал не спеша, с паузами, ухитряясь в нейтральном с виду, спокойном по тону донесении показать и разбитую вражеским налетом стоянку, и поврежденные бомбежкой самолеты, и трудности с формированием групп на боевое задание... Только о верблюде, на котором стали подтягивать к самолетам боеприпасы, умолчал.
— Всеми наличными — на Тингуту, — повторил штаб дивизии, не требуя от Егошина ни дополнений, ни расшифровки. Такой доклад, когда все — в подтексте, устраивал дивизию.
— Я бы так не смог, — улыбнулся Кулев, любивший, а главное, умевший быстро входить в контакт со старшими по званию. Действуя находчиво и смело, он почти всегда в этом преуспевал. — Мне один военный, правда, преподал урок... — Уроком была выволочка от Жерелина за то, что Кулев подмахнул бумажку, где машинистка вместо «вскрыть ошибки» напечатала «скрыть ошибки»; с той поры, принимая на подпись любой подготовленный Кулевым документ, капитан Жерелин кривил рот, желчно спрашивая:
«Вскрыть ошибки» или же «скрыть ошибки»?» — Памятный урок...Но так бы я не сумел...
— Оно и видно, — согласился Егошин. Время пестовало штабные навыки майора. Чем жестче управление, тем глуше язык открытого доклада.
Месяца полтора назад, когда Егошин босиком — сапоги развалились, новых не получить, синие тапки, в которых он летал, резиновые, отдыха ногам не дают — босиком, с кавалерийской шашкой в руках гонял тыловиков, доставивших на полевой аэродром вместо бензина («ИЛы» стояли с пустыми баками) лавку Военторга, его депеша в штаб дивизии, поданная через местное почтовое отделение на телеграфном бланке Наркомсвязи, клокотала, как вулкан... Только не достиг документ, дышавший страстью, своего адресата, разминулся с ним: когда Егошин возвратился с почты, возле «ИЛов», осыпанных землей, охваченных дымами степного пожара, поднятого бомбежкой, его поджидал командир дивизии полковник Раздаев. В комбинезоне, выпущенном поверх сапог, что в кабине «кукурузника», служившего полковнику транспортом, могло создать неудобства, помехи, как велосипедисту — штанина, не прихваченная шпилькой, в перчатках, несмотря на зной, грузноватый полковник имел в своей внешности нечто цивильное. «Почему бездействуешь?» — вскинулся он на майора. «Нет бензина...» — «Почему шесть «ИЛов» держишь на приколе?!» — «Пустые баки...» — «Голова пустая, Егошин, а не баки... Три цистерны в племсовхоз загнали, они в племсовхозе кукуют, я сейчас там садился... Может быть, и хорошо, что в племсовхозе, под бомбы не попали... Заправиться и — на Миллерово, штурмовой удар по аэродрому Миллерово!..» — «Прикрытие?» — «Приказ командующего генерала Хрюкина не обсуждать! Нанести внезапный удар по скоплению «юнкерсов», обнаруженных нашей разведкой. Уничтожить гадов, раздавить, не дать им подняться — все!.. Время не терять, поворачиваться!.. Ну, что стоишь как пень?! Я тебя прикрою, Егошин! Я на этой фанерке полечу на Миллерово, буду с хвоста отгонять «мессеров». На себя рассчитывай, Егошин!..» Такое было управление. Через час он поднял шесть «ИЛов» на Миллерово...
— Правда, будто ваш самолет был сделан специально для показа правительству? — почтительно спросил Кулев. — Как опытный экземпляр?
— Говорят, — помягчел лицом Егошин, знавший цену своей отполированной, с клепочкой «впотай», невесомой в воздухе машине. При совершенстве внешней отделки, а может быть, благодаря ей «ИЛ» командира кличку имел устрашающую: «Черт полосатый».
— Удачный самолет? — Задев чувствительную струну, Кулев старался продлить ее звучание... ,,
Лейтенант вызвался вести штабное хозяйство, Егошин ограничил его телефонной батареей КП.
— ...Кто держит связь? Снимаю!.. Распоряжение командира полка, лейтенант Кулев! — Жарким боком лейтенант потеснил плешивенького бойца, ездового из БАО, приставленного за нехваткой связистов к телефонам.
На линию вышла дивизия:
— Связи с Дарьюшкиным нет, передайте Дарьюшкину: пусть срочно прикроет на Тингуту трех «медведей», трех «Петров».
Кулев принялся за телефонный розыск соседа, командира истребительной авиадивизии полковника Дарьюшкина, стараясь почаще поминать «медведей» и «Петров», как прозрачно шифровался пикирующий бомбардировщик «Пе-2». Вообще ухищрения здешних авиаторов по части секретности (самолеты «ИЛ-2» — «горбатые», истребители — «маленькие», бензин — «водичка») были под стать уловкам связистов переднего края, которые кодировали артиллерийские снаряды «огурцами».
— Работаю от «Початка». «Початок» ждет!.. Уверенно пущенный Кулевым в ход «Початок», позывной штаба армии, подействовал.
— Три «медведя» нас давно прошли, — откликнулись истребители. — Давным-давно...
— Танки южнее Тингуты, танки!.. Принимайте боевое распоряжение! — Лейтенант знал, чем их взять. Но истребители тоже не лыком шиты.
— Задача ставится с опозданием, — отвечали они. — Имейте в виду, так и будет доложено!
— Вы мне дохлых кошек не подкидывайте, я сам доложу, кому следует! — кричал Кулев, темные, давно не стриженные волосы на его затылке от усердия или возбуждения взмокли.
— Где Дарьюшкин? — запрашивала дивизия. Чувствовалось, что на дивизию жмут.
— Где Дарьюшкин? — вторил ей, вынимал из истребителей душу Кулев. — Поднять «маленьких»!
— Подняли, подняли...
— Не чикайтесь, от «Початка» работаю, — жил напряжением момента Кулев.
— Выделить больше нечего, учтите, «маленьких» в резерве ни одного, на стоянках пусто, по нулям, обеспечить Раздаева не сможем...
— Все понятно, кроме сказанного!
Добившись своего, Кулев сдержанно торжествовал.
Командир истребительной дивизии Дарьюшкин, по словам Егошина, ушел в подполье, не раскрывает рта. Все срочные запросы, все гневные посулы разбиваются о возведенную им стену молчания. Что за этим молчанием — сказать трудно. Невозможность напитать всех одной коркой? Попытка выработать, уединившись, какие-то контрмеры? Беспомощность? Мудрость? «Или запил, или крепко задумался», — рассудил Егошин, имевший свои счеты с Дарьюшкиным.
Командира штурмовой авиадивизии полковника Раздаева сверху не дергали, как Дарьюшкина, он сам был зубастый, подчиненных же держал в узде. «Следите за движением Раздаева!» — требовал Егошин. При одном звуке его фамилии майор отставлял все свои дела.
Выбив из дивизии Дарьюшкина последнее, Кулев шире, вольготней расселся на короткой лавке. Тело лейтенанта источало жар. «Зря рычагом не клацай, — поучал он плешивенького. — Первым трубку не хватай, напорешься на указание...»
Тут в адрес истребителей, исчерпавших все свои резервы, поступило распоряжение «Початка» самого категорического свойства:
— Командующий приказал встретить и надежно, надежно сопроводить до места «Дуглас» с большим человеком, хозяином «Дугласа», ответственный персонально Дарьюшкин...
Кулев, было рассевшийся, подобрался; взглядывая на ездового-связиста часто и требовательно, словно бы призывал бойца засвидетельствовать, как встревожен лейтенант судьбой московского «Дугласа», входившего в зону Сталинграда. Фамилия большого человека на борту самолета составляла тайну. Кулев стал вслух перебирать известные имена. Одни кандидатуры он отводил, другие, поразмыслив, оставлял для более тщательного рассмотрения, ни на ком определенно не останавливался — ни дать ни взять человек, посвященный в распорядок жизни военного руководства страны. Ездовой, невольно подстроившись под лейтенанта, предположил в пассажире командующего фронтом генерала Еременко.
— Нет, — отрезал Кулев. — Еременко на месте.
— Где?
— В штабе фронта. Я только от него.
— От Еременко?
— Да.
— Никак друзья? — изумился ездовой.
— Знакомы. Мы его прошлой осенью спасали...
Под вечер на «пятачок» прибыл полковник Раздаев — усталый, загнанный; резкость, ему свойственная, выступала во всем, что он говорил и делал. Майора Егошина, только что вылезшего из «черта полосатого» и поспешившего к полковнику с докладом о боевом вылете, слушать не стал; изловив на штабном крыльце, где пал несчастный Василий Михайлович, готового улизнуть корреспондента дивизионной газеты, взял его в оборот:
— Почему принижаете достоинство воздушного бойца, дискредитируете в глазах личного состава?.. Напечатали, читаю, — полковник повел пальцем на ладони: — «Еще один стервятник на боевом счету Баранова...» Отдаете отчет в своих словах? Что ж, по-вашему, старший лейтенант Баранов стервятиной кормится? Он врага уничтожает, а не падаль!..
Майор Егошин сопровождал комдива, следуя за ним на некотором отдалении справа. На спине Михаила Николаевича, под лямками сброшенного парашюта, отпечатались влажные, темные от пота полосы, к полковнику он приноравливался с трудом. Тирада в адрес газетчика немногого стоила, нынче все так говорят: «Сбил... уничтожил... вогнал в землю фашистского стервятника». Чем плохо?.. Стервецы они, гады, куда нас загнали... Но в тираде был еще иной, упреждающий события смысл, заставивший Егошина держать ухо востро: всем, кто повинен в чепе, едва не сгубившем Баранова, несдобровать!..
На КП с появлением несшего грозу Раздаева все встали. Кулев, не отнимая трубки от уха и волоча за собой шнур, ретировался в угол... Вид неловко отходящего, подергивающего шнур, путающегося в нем лейтенанта не понравился полковнику.
— Что коза на привязи! — фыркнул он, выкладывая на стол шлемофон, перчатки, сохранявшие, подобно слепку, форму полусогнутой кисти. — Или бедняку в хозяйстве и сивая коза подмога? — добавил Раздаев, вглядевшись в лейтенанта. — А, Егошин?
— Лейтенант поставлен мною специально на связь.
— Все скрытно! — сказал полковник, с неодобрением глядя на Кулева. — Полная скрытность сосредоточения... Языки не распускать. У кого язык длинный — обрубим...
«Цирлихи-манирлихи я не люблю, — при случае объяснял подчиненным Федор Тарасович Раздаев. — Я люблю прямо, по-солдатски». При этом его сизый от бритья подбородок тяжелел, глаза округлялись. Впрочем, подобных разъяснений полковник давненько никому не давал, потому что каждый день и час нахождения его дивизии на подступах к Волге, особенно последние сутки, когда на плечи Федора Тарасовича легли новые обязанности, требовали от него по-солдатски прямых, ясных, решительных мер.
В пехотном училище, где лет шестнадцать назад учился Раздаев, курсанты разыграли однажды лотерейный билет Осоавиахима на воздушную прогулку. Жребий выпал Раздаеву. Десять минут ознакомительного полета над городом изменили его жизнь: он заболел авиацией. Ему отказывали, возвращали рапорта, курсант дошел до наркома, добился своего, стал летчиком. Неспешно всходя по служебной лестнице от командира корабля до командира дивизии, он снискал репутацию волевого, умеющего навести порядок начальника. Строевик он был истовый. «Без личной беседы никого не оставлю и без слез не отпущу», — шутил Раздаев. Темно-синий выходной френч под белую рубашку сидел на нем как влитой, перчатки из мягкой светлой кожи, фирменные авиационные полукраги с ремешками на тыльной стороне и кнопочкой на внутренней он получал от товарища из Тбилиси на заказ — таких полукраг, как у Раздаева, в дивизии ни у кого не было.
В столичных воздушных парадах по торжественным дням не участвовал, кремлевских вин на приемах не вкушал. «Надежнее всего идти в середине» — было правилом Федора Тарасовича. Следовать ему в собственно летной работе было не просто; свои неудачи, огрехи, промашки в пилотировании Федор Тарасович воспринимал болезненно, заметно расстраивался, зато посадки со слышным шелестом травы под колесами, бомбы, уложенные в строгий меловой полигонный круг, протяжной маршрут без отклонений вызывали у него прилив энергии, желание совершенствоваться...
— Насчет скрытности, товарищ полковник, — вставил Егошин, поглядывая на доспехи, выложенные комдивом, как на ларь: на шлем желтой кожи, на шелковый, незастиранный подшлемник, на строгий шарфик черно-белой вискозы... Перчатки — слабость полковника, он и в степи их не снимал, сотрясая воздух сжатыми кулаками, — перчатки, снятые с рук, освобожденные от них, медленно, как живые, распрямлялись, утрачивая сходство с гипсовым слепком...
— Насчет скрытности... Здесь нас трижды бомбили, «рама» разгуливает, как на бульваре...
— Я «раму» не видел!
— Висит, товарищ полковник... Возможно, проголодалась, ужинать полетела, теперь ее толстая «Дора» сменит... Воздушную разведку ведут как по графику, куда смотрит полковник Дарьюшкин — не знаю...
— Черт его, Дарьюшкина, разберет! Сам все хапает, а у других хлеба просит, не знаешь, чего от него ждать... Предупредить весь летный состав под расписку, — продолжал Раздаев, — с пикирования, кроме «пешек», будут работать бомбардировщики «Ар-два»... Не шарахаться!
Лычки курсанта пехотного училища, уступив место голубому авиационному канту, иногда напоминали о себе — то к выгоде Федора Тарасовича, то к его огорчению. В тридцать девятом году он служил под непосредственным началом общевойскового командира, комдива, в свое время возглавлявшего покинутое Раздаевым училище. Командующий признал Раздаева «своим», назвал его «полпредом пехоты в авиации», с вниманием, по-доброму к нему относился. Вместе обсуждали они мрачнейший эпизод: массированный удар 1150 самолетов люфтваффе по Варшаве, оказавшей яростное двадцатидневное сопротивление врагу. «А Гитлер еще паясничает, — возмущенно говорил комдив. — Расселся, понимаешь, со своей свитой в варшавском предместье и созерцает зрелище горящего города, как Нерон... Ну, и кончит он как Нерон, помяни мое слово!» Чем кончил свои дни правитель Римской империи Нерон, Федор Тарасович, с комдивом вполне солидарный, не помнил, он переменил тему...
Пехота — царица полей — техническими новинками в то время не блистала, так командующий любил, когда Федор Тарасович посвящал его в достоинства новейших образцов авиационной техники. «Вот скажите, — говорил Федор Тарасович, — сколько, по-вашему, понадобится бомбардировщику «Ар-два» времени, чтобы набрать высоту пять тысяч метров?» Или: «Каков, по-вашему, мировой рекорд скорости, достигнутый итальянским истребителем «Макки-Кастольди»?» Комдив отвечал решительным незнанием, Федор Тарасович с удовольствием его просвещал. В свою очередь комдив, устроив однажды товарищеское катание на лодках, пригласил и Раздаева. Занимал собравшихся любимым веселым рассказом: «Однажды осенью отец Онуфрий, отведав отменных огурцов...»
Федор Тарасович, первым получив информацию о решении ЦК партии создать сто новых авиационных полков, прежде всего поспешил поделиться новостью с комдивом... Прихворнувший комдив принял Раздаева дома, в ичигах, — в гражданскую, добровольцем рабочего отряда, он проморозил обе ноги. Сто полков — капитальная мера, внушительная цифра... Чем вызвано решение? Надобностью усилить бомбардировочный потенциал ВВС? Или же открывшейся недостаточностью самолетного парка?..
Первый авиатор среди пехотинцев, строевик до мозга костей, Раздаев не жалел времени и труда на упрочнение системы взаимосвязи и подчиненности, сложившейся между авиацией и наземными войсками и ставившей во главу угла всемерное «содействие успеху наземных войск в бою и операции», на «цементирование данной структуры», как любил говорить комдив, его тогдашний непосредственный начальник. Авиация, увлеченность ею смягчали мужланство бывшего пехотинца Раздаева, мечтавшего о лаврах летчика номер один...
Среди авиаторов Федор Тарасович все-таки чувствовал себя «чужаком».
Нет-нет да и напоминали ему об этом. Не обязательно словом. Однажды предстал перед ним добрый молодец с руками молотобойца, орденом Красного Знамени на груди и капитанской «шпалой» в петлице — Хрюкин. Дело было до войны, полк стоял под Смоленском. Светлоглазый капитан только что вернулся из Испании, принял эскадрилью, где до спецкомандировки служил командиром звена, и в рапорте по команде заявлял о готовности поехать добровольцем в Китай... Раздаев, исполнявший обязанности командира полка, сунул его рапорт под сукно. Формально он мог бы оправдаться ссылкой на неясный слух о задержке Хрюкина в Париже, руководила же Федором Тарасовичем зависть, зависть и обида: месяца не проработал молодой капитан, не побатрачил на эскадрилью в интересах предстоящего инспекторского смотра, духа не перевел после Сарагосы — даешь Ханькоу!.. Но Хрюкин, как будто зная, чем станет для него командировка на восток, поездки в Китай добился.
Свою карьеру, не такую быструю, не такую громкую, как у других, как, скажем, у Степичева, Федор Тарасович был склонен объяснять происхождением из общевойсковиков. Правда, Василий Степичев, командир соседствующей с ним дивизии, потомственный литейщик, в прошлом — кавалерист... Но, во-первых, Степичев в Витебске, когда там начинал Хрюкин, командовал эскадрильей; во-вторых, сам Василий, с его комиссарской душой, летает и днем и ночью; в-третьих, боевые потери в дивизии Степичева меньше, чем в других штурмовых авиадивизиях...
Меряя версты от Донца до Волги, Раздаев сто раз проклял жребий, выбравший ему авиацию: отношения подчиненности, должностной ответственности, к которым он привык, с которыми за годы мирной службы сжился, те самые «структуры», в цементирование которых столько было вложено и вне которых он, армейский человек, себя не мыслил, — рушились под молотом войны. Нет большего несчастья для ревностного службиста, чем перестройка армейского механизма на дорогах отступления. Скоропалительно, без всяких объяснений, без возможности понять, чем плохи вчерашние, чем хороши сегодняшние нововведения, создавались МАГи, они заменялись РАГами, РАГи — УАГа-ми. Прежние, довоенные структуры разрабатывались, вводились и утверждались известно кем. Известно Федору Тарасовичу, какие имена, какие светлые головы стояли у кормила нашего военного строительства. А кто, позвольте спросить, творец всей этой чехарды? Ни одного крупного авторитета. Лихорадка перестройки, суетливый поиск спасительных мер причиняли Федору Тарасовичу страдания, в которых некому было открыться; все рушилось, оголялось, спасительной середины с ее возможностью выждать, оглядеться, выбрать — не было...
После Харькова судьба вновь свела Раздаева с Хрюкиным. В отличие от предвоенных лет, когда жизнь войск подавалась в газетах под безличным обозначением «Н-ская часть», война вводила в широкий обиход имена, закрепляла их за отличившимися соединениями, родами войск: конница Белова, гвардейцы Панфилова, дивизия Руссиянова... Хрюкин прибыл в Валуйки на московском «Дугласе» с высокими полномочиями и на обычный в таких случаях вопрос: «Что привез?» — отвечал: «Армию». Так по ходу очередной реорганизации ВВС появилось на юго-западном направлении новое войсковое объединение авиаторов — 8-я воздушная армия генерала Хрюкина. В авиации Хрюкина знали: воевал в Испании, из Китая вернулся Героем, руководил инспекцией... Дивизия Раздаева вошла в состав 8-й воздушной...
Командир дивизии встретил Хрюкина на степном выпасе, только что принявшем пополнение, пришедшее на Дон из тыла. Докладывая обстановку, ход воздушного боя, навязанного «мессерами», Федор Тарасович отметил про себя, что отношения, сложившиеся между ними в далеком довоенном Смоленске, не утратили напряженности, некоторой остроты. Обсуждая действия пострадавших, предусматривая контрмеры на будущее, Раздаев напряженно ждал, когда же Хрюкин вспомнит, наконец, его прегрешение, рапорт, сунутый под сукно в канун инспекторского осмотра? Проводив Тимофея Тимофеевича, полковник должен был с удовлетворением признать, что командарм не злопамятен.
А сейчас, теснимый к Волге, прижатый к ней, Хрюкин, чтобы выстоять, в основу своих действий положил... массированный удар! «Ась?» — произнес Раздаев, как бы ослышавшись. Массированный авиационный удар — это 1150 «юнкерсов» и «мессеров», дробивших многострадальную Варшаву. Это семьсот бомбардировщиков в сопровождении восьмисот истребителей, одновременно и ежедневно сокрушавших центры английской промышленности. Город Ковентри стерт с лица земли массированным налетом двух тысяч бомбардировщиков. «Ась?» — повторно выговорил Раздаев. Его сумрачное, загорелое лицо умело живо, с резкостью, свойственной натуре, скопировать кого-нибудь, очень похоже передразнить или принять выражение высшей удивленности.
Полковник Раздаев, однако, не ослышался.
Генерал Хрюкин поднимал свою армию на первый под Сталинградом массированный удар против танковой армии Гота — с привлечением всех бомбардировочных, штурмовых, истребительных частей, всех, до единого, самолетов, находившихся в строю. Обдумав и приняв решение, молодой командующий в действиях был быстр и тверд, без колебаний устранял все преграды на избранном пути. Насмешливое «Ась?» и подобающая мина на лице возникли независимо от воли Федора Тарасовича, — комиковать он был не расположен. С командармом, понимал полковник, шутки плохи. Одного комдива Хрюкин снял, заявив на Военном совете: «Превратился в стартера, в наземного воздушного вожака, влиять на летный состав не способен...»
Не успел Федор Тарасович, озадаченный решением Хрюкина, собраться с мыслями, как последовало распоряжение: свести две штурмовые дивизии в единую «Группу № 5». Руководство группой в интересах мобильности управления командарм передал в одни руки — полковнику Раздаеву, и Федор Тарасович с каким-то осатанением взялся за дело.
Его штабники страшились, когда комдив, тяжелея подбородком, сама непреклонность, гнал всех от себя («Мне штаб не нужен!»), рассылал по хуторам, где базировались полки, повелевая всеми доступными средствами восстанавливать технику. «О каждой машине, введенной в строй, докладывать мне лично!» Всех разогнав, хватался за голову, вырабатывал задний ход — одному человеку «Группа № 5» непосильна. Призывал штурмана, начальника разведки (бывшего летчика), усаживал рядом с собой, сколько было .умных голов, чтобы сообща судить-рядить, обдумывать маршрут, способы прикрытия, проигрывать заходы и атаки по опасной, не прощупанной разведкой Тингуте. В разгар приготовлений, как говорится, под руку, позвонил Хрюкин:
«Раздаев, подтвердите ваш позывной, ваш позывной не слышу!» — «Шмель-один», «Шмель-один»!» — торопливо, громко, перекрывая помехи, ответил Федор Тарасович, не вполне понимая генерала. «Не слышу «Шмель-один» в воздухе, не работаю с ним над целью! — прокричал Хрюкин с того конца провода. — Пора, полковник, перестать быть летчиком мирного времени!...»
Летчик мирного времени?.. Пилотяга, не умеющий воевать?.. Горяч командарм, ох горяч...
Так среди всех треволнений и забот встал вопрос, до сих пор Федором Тарасовичем не решенный: кто возглавит «Группу № 5» в воздухе? Кто поведет ее на цель, на Тингу-ту?..
— Лычкин на месте? — спросил Раздаев.
— Не вернулся с боевого задания Лычкин... — сказал Егошин.
— Когда?!
— Сегодня. Сейчас не вернулся...
— Кто за вас будет докладывать?
— Лычкин вел первую группу, я — вторую, — начал объяснять майор.
— Что наблюдали? — перебил его Раздаев.
— «Мессеров» наблюдал, товарищ полковник, — сказал Егошин, втягиваясь помалу в знакомый, трудный, особенно сразу после вылета, тон, характерный для Раздаева. Под комбинезоном Михаила Николаевича, глухо застегнутым, были трусы да майка, на ногах — прорезиненные тапки: августовский зной и жара бронированной кабины принуждали летчиков, втянутых в боевую работу, оставлять на земле, сбрасывать с себя под крылом и брюки и гимнастерки, только бы посвободней, посноровистей было им в воздухе. Скованность, неловкость Егошина в присутствии Раздаева вызывала манера полковника держать себя с подчиненными так, будто боевая работа, каждодневные вылеты — с их риском, смертельной опасностью — не так важны для дела, как заботы, обременяющие командира дивизии на земле. «Кто будет докладывать?» — а ведь рта не позволил открыть, кинулся на журналиста, дался ему этот «стервятник», — думал Михаил Николаевич; его подавляла и прямо-таки умиляла бесцеремонность, с какой Раздаев, замалчивая главное, огнедышащую сердцевину их каждодневной работы, — боевой вылет, штурмовку, — уходит, уклоняется от этого, выдвигает на первый план частности. — «Мессеров» наблюдал, если можно так выразиться, товарищ полковник, — продолжал Егошин, — когда на подходе к цели садишь по ним из всех стволов, аж крылья вибрируют... А наших истребителей опять не было...
— Из колхоза Кирова?
— Никто не поднялся, несмотря на то что в ожидании было сделано два круга... Это над колхозом-то Кирова!.. Пошел на цель без прикрытия.
— Почему не поднялись истребители? Причина?
— Причину будем выяснять.
— Представьте рапорт на мое имя!
— Слушаюсь. Рапорт будет, а Лычкина нет. Лычкина «мессера» срезали.
— Ясно видели?
— Да.
— Где лупоглазый, что покусился на Баранова? — прорвался, молнией сверкнул вопрос, давно томивший Раздаева. Егошин знал, как отвечать.
— Сержант Гранищев на боевом задании, — сказал он.
— Ка-а-ком задании? Ваш полк, майор, сидит в данный момент на земле!
— Сержант наказан моею властью, наносит штурмовой удар по хутору Липоголовский в составе братского полка...
— А братский полк что — штрафная эскадрилья?
— Сержант выделен мною на усиление группы по просьбе командира братского полка, поскольку в районе хутора Липоголовский, как вам известно, скопление до семидесяти танков противника.
— Состав группы?
— Три самолета.
— Сержанта дали на подставу?
— Для усиления, — возразил Егошин.
Все сказанное им было правдой — кроме того, что Гранищев вернулся с маршрута из-за неисправности мотора и в любой момент — Егошин это знал — мог появиться на КП с докладом...
— Прикрытие из Дмитровки?
— Не уточнял...
— Истребителям приказано скрести по сусекам и выставить на завтра все!
«Женщин, присланных под Сталинград, тоже», — переводя дух, Егошин не испытывал облегчения.
Один девичий голосок — с отчаянием, заставившим дрогнуть его закаленную душу, — уже проверещал в эфире: «Ишачок», «ишачок», прикрой хвостик!» — «А поцеловать дашь?» — прогудел в ответ находчивый басок. «Дам, дам!..»
— Нашу группу прикрывает Баранов, — уведомил Егошина полковник. Его лицо впервые с момента появления на КП смягчилось, посветлело. — Карташев в строю?
— Вчера на последнем заходе, под вечер, уже развернулись домой — зенитка вдребезги разнесла его приборную доску... Летчика свезли в госпиталь на телеге.
— Карташева?
— Да. Комиссар его навестил... Вдвоем летали. Комиссар, можно сказать, на руках вынес Карташева из кабины. Пострадал Николай Карташев. «Где мой глаз, — плачет, — где мой глаз?..»
— Машина будет восстановлена? — утвердительно спросил Раздаев.
— Пилотажные приборы поставим, а моторные заменять нечем...
— Самолет задействовать! Посадить опытного летчика, который не заворачивает с маршрута домой при отказе термометра воды, а контролирует двигатель на слух, берет его ухом, понятно?
«Лычкина нет, Карташева нет... Еще одна возможная кандидатура — капитан Авдыш. Но Авдыш, — обдумывал положение полковник, — разбил самолет». Докладная по делу Авдыша представлена ему на трех страницах рукописного текста. Развернуто даны выступления членов партбюро, обсуждавших проступок капитана.
«Если бы Авдыш был в душе коммунистом, — прочел Раздаев в докладной, — то не отнесся бы к взлету столь халатно». Далее: «Скрывает свои качества летчика, чтобы не летать на задания...» «Всегда задумчив из-за спасения собственной шкуры...» «Взлет Авдыша считаю трусостью, несовместимой с пребыванием в рядах ВКП(б)». «Капитан Авдыш признает себя виновным, просит оставить его в партии...»
Ведущего на Тингуту нет, с Авдышем надо решать...
Майор Егошин, стоя перед Раздаевым, с неослабевающим вниманием следил за тем, как обеспечит полковник согласованность действий «Группы № 5». Тингута требовала изменить направление удара — с запада на юг. Маневр в тактическом отношении не труден, сомнения вызывала его оправданность. В конечном счете — что даст Тингута?
Сколько людей потеряно под Манойлином, а положение не улучшилось. Под Верхне-Бузиновкой, прослывшей было «немецким котлом», полегли лучшие экипажи, но и здесь отрадных перемен не произошло. Угроза городу возрастает, а полки перенацеливаются против тех же танков, но в еще большем количестве, с еще большим ожесточением рвущихся к Сталинграду из района Тингуты...
Когда отступать некуда, надо идти напролом; командарм Хрюкин, прижатый к Волге, понимая это, поступил умнее: выдвинутая им идея массированного удара кроме чисто военной целесообразности обладает достоинством, которое сейчас же угадывают, распознают, находят в ней — Егошин замечает это по себе — защитники родной земли, родного неба: она взывает к коллективистским чувствам, к единению бойцов. «При единении и малое растет, при раздоре и величайшее распадается». Поднимаясь против Тингуты, летчики-штурмовики знают, что все истребители, какие есть в армии, поддержат, прикроют их с воздуха, что все бомбардировщики, стянутые к Сталинграду, подкрепят, разовьют их удары... В создании взаимодействия — гвоздь вопроса.
Как раз эта сторона дела, обеспечение единства, согласованности, не давалась Раздаеву, ускользала от него. «Как та квочка», — вспомнил майор хутор Манойлин: ранним утром комдив в галифе на босу ногу, в распахнутой на груди нижней рубахе устремился, раскинув руки, за бившей крылами пеструшкой. Егошин входил в калитку, куда неслась ополоумевшая птица, и столкнулся с Федором Тарасовичем, охваченным азартом плотоядной погони... Вид беспомощного, ловящего воздух полковника не выходил у Егошина из головы...
— Что, инженер? — обратился Раздаев к вошедшему военинженеру третьего ранга.
— Четырнадцать! — сказал молодой, с орлиным носом и впалыми щеками инженер. За полтора суток в двух дивизиях удалось подготовить четырнадцать машин. Инженер вложил в свой ответ чувства человека, сделавшего все, что было в его силах. Выпускник академии, твердых навыков армейского общения, однако, не получивший, поскольку в академию угодил с пятого курса МАИ, инженер, видя, что его слова не производят желанного впечатления, совершенно на штатский лад дополнил свой ответ жестом, показав полковнику две раскинутые пятерни и четыре пальца — отдельно.
— Поворачиваться надо, — проговорил в ответ Раздаев, перекладывая шлемофон с одного края стола на другой и придавливая его ладонью. — Живей поворачиваться, — повторил он, возвращая шлемофон обратно, но не кладя, а словно бы не зная, где его место, продолжая держать на весу. Отключившись от Манойлина, с трудом настроившись на Тингуту, надеясь в душе, что после всех принятых мер и усилий круглосуточно работавших людей «Группа № 5» обретет достаточную численную мощь, Федор Тарасович наконец услыхал, во что вылились общие труды, чем он фактически располагает: рассчитывая получить по меньшей мере 25 единиц, он имел в строю всего четырнадцать...
— А, Егошин?! — воззвал Раздаев, щурясь, как от дыма в глаза, мимикой подвижного лица пряча охватившее его чувство.
«Где наши сто полков?» — хотел спросить Федор Тарасович, зная, что полк Егошина — из числа тех немногих частей, какие удалось сформировать до войны по программе ста авиаполков, и что сейчас, на Волге, майор насчитывает в строю шесть экипажей. «Где наши сто полков?» — хотел спросить Раздаев, но устрашился непроглядной бездны, открывавшейся вопросом. Промолчал Федор Тарасович. Непосредственно как летчик в боевой работе почти не участвуя, он старался, сколько мог, держаться середины. В этот час такая возможность себя исчерпала.
— Первую восьмерку «шмелей» веду я, — сказал Раздаев, чувствуя настороженный взгляд майора.
Сказал определенно, как о деле давно решенном, хотя до последней минуты не знал, как он поступит.
— Когда сам все увидишь, — с неожиданной доверительностью добавил Раздаев, — Хрюкину докладывать легче. — Сомнения, мучившие полковника, отпали, принеся облегчение, но быстрым, мимолетным был этот живительный роздых: новые, подзабытые, обязанности вожака восьмерки овладевали Федором Тарасовичем. Охваченный ими, говоря: «Инженер, запуск моторов одновременный, каждой машине — баллон с воздухом», он нашел своему мягкому, светлой кожи шлемофону место, — нахлобучил его на голову и расправлял, оглаживая затылок, как будто ему сейчас, а не завтра утром предстояло садиться в кабину. Один Кулев, хоронившийся в углу КП, отметил машинальный жест полковника.
— К моему возвращению техсостав на взводе, — говорил Раздаев. — В темпе производит дозаправку. Тот, кто со мной вернется, в обед полетит с майором Егошиным. Таким же макаром провернем вечерний вылет...
«Решился лично возглавить группу — и все. Испекся, — думал Егошин. — На большее не тянет. Обеспечение массированных действий нашему Федору Тарасовичу не по зубам...»
— Товарищ полковник, вас! — Кулев, подтягивая за собой телефонный шнур, подал Раздаеву трубку.
— Изменений быть не может! — властно, на подъеме осадил кого-то Раздаев. — Возможны отдельные уточнения... Слушаю!..
Молча слушал, молча положил трубку.
Поднял на Егошина злой, исполненный сострадания к себе, затравленный взгляд:
— «Группу номер пять» Баранов прикрывать не будет... Егошин виновато потупился перед полковником. Цвет люфтваффе втягивается в сражение, — от правнука железного канцлера, родовитого Отто Бисмарка, лейтенанта, который одним своим появлением над русской матушкой-рекой в «мессере», раскрашенном геральдическими знаками, как бы посрамляет наивные, отброшенные фюрером представления прадеда, будто война на два фронта пагубна для Германии, до капитана Брэндле, сына кочегара и прачки, наци, на боевом счету чистокровного арийца Курта Ганса Фридриха Брэндле, начатом пять лет назад в Испании, около двухсот побед над представителями низших, неарийских рас...
«Да, прикрытие Баранова дорогого стоит...» — думал Егошин.
Вслух он сказал:
— Товарищ полковник, вы не закончили... Вечерний вылет... Командиром пойдет Авдыш?
— Капитан Авдыш разнес машину на взлете как скрытый дезертир и уклонился от боевого задания, — ответствовал Федор Тарасович с твердостью, почерпнутой в решении лично повести «Группу № 5». Между давешним запросом Хрюкина («Дайте ваш позывной...») и персональным делом капитана Раздаев улавливал какую-то связь. Да, отношения, сложившиеся до войны, как ни странно, сохраняют свою силу, что-то предопределяют, но главное, понимал Федор Тарасович, жизнь и смерть решают сейчас отношения, связывающие людей здесь, на Волге... Мысленно выказывая командующему свою приверженность и преданность, отводя нависавшую над его, Раздаева, головой беду, он поднялся, взял перчатки, но не стал натягивать их, как обычно, с несколько картинной тщательностью насаживая палец за пальцем всю пятерню. — Авдыш будет отвечать за преступление согласно приказу двести двадцать семь! По всей строгости!
С этими словами он покинул КП.
За час до рассвета Кулева разбудил зуммер телефонного ящика, на котором он прикорнул. Лейтенант отозвался в своей манере, коротко и властно: «Говорите!..» Звонила дивизия:
«Почему не подтверждаете готовность?» — «Работал с «Початком», — ответил Кулев, не моргнув глазом. «Нет порядка, надо докладывать... Даю режим сопровождения...»
Майор Егошин извещался, что он получает истребителей прикрытия на тех же аэродромах, что и вчера. Время... высоты...
Опасаясь сказать что-то лишнее или сделать не так, Кулев произнес в ответ: «Хорошо...» — но попал впросак.
Майор, узнав о его разговоре, обрушился на лейтенанта:
— Так дело не пойдет!.. Отбой!.. Сейчас же звони в дивизию!.. Если стрелки из ШМАСа будут решать вопросы прикрытия, все в Волгу булькнем!.. Все!.. Дал согласие — давай отбой!.. Пока по трем аэродромам пройдешь, собирая прикрытие, всех своих ведомых растеряешь! Звони, звони, — подгонял он Кулева, — и не слезай с них, пока не добьешься, чтобы отменили круг для сбора над колхозом Кирова!.. Категорически!.. Мы там кружим, ожидая, пока «ЯКи» поднимутся, а «мессера» являются по-зрячему, у «мессеров» засада рядом. Они нас видят и являются, а наши «ЯКи», как мыши...
Наказав лейтенанту срочно вычертить схему боевых порядков, принятых для «Группы № 5», Егошин куда-то отбыл и вернулся минут через сорок.
— Красиво, — говорил он, разглядывая исполненный и надписанный Кулевым чертежик. — Старшенькая моя тоже так-то вот, буковку к буковке, кладет, жена писала: учителя не нахвалятся... Рисовать можешь, это у тебя получается... Да. Теперь, лейтенант, я тебе свою картинку покажу, — он покрыл чертежик картой-пятикилометровкой, разгладил ее тяжелой ладонью. — Момент таков: о подбитых немецких танках не все доложим — судить не станут. А в собственных потерях не отчитаемся — вздрючат. Правильно, каждый самолет дорог, после Тингуты вообще неизвестно что останется. Поэтому так: вот карта, тут обозначено, где примерно садились наши побитые. Их надо подсобрать, безногих. Какие вернем в строй, какие оформим актом. Дело рисковое, на рожон не лезь, все по-быстрому, день-два — и домой. Возьмешь помощником Шебельниченко, с ним двух бойцов, Шебельниченко — и механик тебе, и шофер первого класса, а кашевар — пальчики оближешь... а прижмет — как на Северном Донце... Слыхал про Северный Донец? Ну... Немцы днем наскочили на стоянку наших ночников. Летный состав где-то за три версты, на хуторе, отсыпается после ночи... Шебельниченко дает технарям команду: «По самолетам! Запускай моторы!..» — и — на взлет, за Северный Донец, кто как... Одни улепетнули, другие расшиблись, боевую технику врагу не дали...
«Одно слово невпопад, — думал Кулев, — и все пошло прахом...»
— Вот здесь, — майор надавил на карту ногтем, — самолет капитана Авдыша... Согласно его рапорту. Будто бы поврежден в бою мотор, произвел посадку на колеса. Такую подал версию. Не знаю... При случае опроси жителей, составь протокол. Авдыша знаешь?
— Фамилия встречалась... Баянист?
— Играет... И скрипочку с собой возит...
— У нас в полку на финском фронте был летчик Авдыш, баянист...
— Тот еще музыкант!.. Как на задание идти, так фортель. Теперь разнес в дымину исправный «ИЛ». Полковник Раздаев при тебе сформулировал? Будет отвечать согласно приказу двести двадцать семь... Все с Авдышем! Все! Он из себя обиженного строит, так ты данные о нем подсобери... чтобы была картина... В этом районе. — Он постучал по карте ногтем, задумчиво в нее глядя.
«Одно слово», — сокрушался Кулев.
— Не вешай носа, лейтенант!.. «Держись за ношу, какую тянешь», — говаривал Василий Михайлович. — Печальная улыбка прошла по лицу Егошина. — И я тебе, товарищ лейтенант, скажу на дорогу: держись за ношу, какую тянешь...
Старшина Шебельниченко, узнав о предстоящей поездке в степь,заартачился:
— Только ноги оттуда унесли — и обратно немцу в пасть...
— Разговорчики, старшина! Вы назначены моим помощником.
— Кто назначил?
— Командир полка!
Педантичность майора техсоставу известна, — не сядет в самолет, прежде чем не пройдется по кабине белой тряпочкой, проверяя, хорошо ли снята пыль... Не раз страдая от майора, Шебельниченко в спорах о нем держал сторону командира и повиновался ему безропотно.
— Нижне-Чирскую увидим? — спросил старшина.
— Нет.
— А Котлубань?
— Котлубань не исключена.
На пути к Волге табор егошинского полка свертывал и разбивал свои шатры семь раз, трижды — под бомбежкой. Казенные грузы растрясались, заплечные мешки тощали, Шебельниченко, случалось, исчезал, растворялся в степной пыли, чтобы в каком-нибудь хуторе возникнуть облаченным в неотразимый реглан квартирмейстером или назваться полковым врачом и приступить к медицинскому осмотру молоденьких казачек, пожелавших работать официантками... Спасало старшину умение появляться как из-под земли по первому требованию начальника штаба Василия Михайловича, — с ключиками дефицитных размеров, с набором прокладочек, дюритов, ниппелей... Личное оружие, пистолет «ТТ» в руках механика авиационного, каковым по должности и призванию был старшина, также превращалось в слесарный инструмент: мушкой пистолета механик открывал самолетные замочки типа «дзус», а нарезным каналом ствола — тамбур железнодорожного вагона, если представлялся авиаторам случай ехать железкой... Бензозаправщиков в степи не было. Самолеты заправляли горючим вручную, ведрами и подойниками, и контакт с местным населением, по части которого денно и нощно трудился старшина, был важен.
Шебельниченко имел основания не спешить на встречу с Котлубанью и, напротив, горячо желать свидания с Нижне-Чирской.
— Гранат надо взять, — сказал старшина, поразмыслив: сопряженный с опасностью рейд сулил определенные промысловые выгоды. — Запас патронов к карабинам...
Загрузили «ЗИС».
Шебельниченко сел за руль рядом с Кулевым, помедлил, чего-то выжидая, припал к баранке, гикнул — рванул машину с места в карьер.
Приволжская степь, безлюдная и тревожная, лежала под звездами. В кромешной тьме то здесь, то там взлетали ракеты — беззвучные, яркие, призывные прочерки по черному своду. «Как бесы под покровом тьмы», — думал Кулев; зная умение немцев оглушать внезапностью, он ждал подвоха от каждого куста, от каждой балки. На развилках ночной дороги лейтенант оставлял кабину, уходил с картой вперед. Вдыхал, не замечая остроты и свежести, полевые ароматы, вслушивался, не дыша, в ночь, ехал дальше по степи, частично оставленной нашими войсками, но врагом еще не занятой.
Вдруг в стекло грузовика ударил сильный свет. Кулев с автоматом в руках кубарем вылетел из кабины.
— Ложись! — прогремело над ним. — Пристрелю! Он рухнул как подкошенный.
В тот же миг из кузова дружно ударили автоматы его механиков.
— Отставить! — взревел голос рядом с Кулевым. — Убьет же... Свои!
Фары, ослепившие лейтенанта, погасли, механики прекратили пальбу.
— Стоять! — гремел голос. — Скаты пробью!.. Стрельбу отставить,свои!
— Бьешь своих да еще грозишься? — надвигался на голос ничего не видящий Кулев.
— Огня не открывали!
— Да вас... как диверсантов!
— Огня не открывали! — твердил создатель инцидента. — Без техники нельзя вертаться, вы это можете понять? — Он хоронился, должно быть, на корточках, в тени своего кузова. — Дайте канистру бензина доехать, чтобы его черти с потрохами кушали, капитана Жерелина, ведь в расход пустит!..
Кулев при упоминании этой фамилии как-то поостыл. Распорядился нацедить канистру, спросил, хватит ли... Сбивчивые оправдания благодарных бойцов слушал рассеянно. Даже не переспросил, тот ли это Жерелин.
«Не зацепился», — думал Кулев, снова трясясь в кабине. Напряжение, державшее его с отъезда, после ночного эпизода спало.
Выдворенный из штаба Егошина, он снова попал в колею капитана Жерелина. Жерелин, Жерелин, дамский угодник, смертельно напуганный июлем сорок первого и умевший внушить начальству необходимость почтительного с ним обращения. Высшая в его устах похвала: «Эрудированный товарищ!» Если появлялось в газете сообщение об официальном обеде, «на котором присутствовали», Жерелин обязательно сопровождал его тонкими рассуждениями о «ножичках и вилочках, в которых запутаешься», случись туда попасть кому-нибудь из его слушателей или самому капитану... Война бросала Жерелина из Прибалтики в Керчь, а оттуда — под Харьков. Хлебнул с ним горюшка Кулев, пока дошел до Воронежа. «В сапог загнали!» «Под трибунал!.. Всех под трибунал!..»
«На каждого бывает свой Жерелин», — скорбно думал Кулев.
В школьные годы сколько копий в спорах об авиации было Степаном Кулевым поломано! В отличие от сверстников авиация в юные годы не кружила Степану головы. Летчики-герои совершали свои подвиги неведомо где и как, а венчались такой славой, вызывали такой барабанный бой в прессе, что как-то уже неловко становилось допытываться, в чем конкретно заслуга героя, какой поступок он совершил. «Воинский подвиг не может быть анонимным!» — заявлял Кулев, любитель независимых суждений, «Ты сухой рационалист, Степа, с тобой противно спорить!» — отвечали ему. «Не признаю героя, которого объявляют таковым по политическим соображениям!» — Кулев от собственной смелости бледнел. «А если диктует обстановка?» — «Достойного наградить, всенародно не объявлять!..»
На финскую он попал из ШМАСа стрелком-радистом.
Щелястая кабина в дюралевом хвосте бомбардировщика, где он горбатился над турелью или полулежал, промерзала в зимнем небе, как цистерна. Перед вылетом Степан надевал шерстяные носки, оборачивал их газетой, вправлял ноги в меховые унтята — не помогло: мороз проникал до мозга костей, дня не случалось без обморожений... Они отходили от Териок, когда тембр моторного гудения сбился, машина задрожала, задергалась, связь с летчиком оборвалась... Что стряслось, Кулев не понимал. Морозы стояли лютые, он боялся, что околеет, мысленно торопил командира к земле; вдруг потянуло горелой резиной — опасный запах, признак пожара. Безоглядный в решениях, он запаниковал, готов был сигануть с парашютом за борт... Тут лыжи коснулись снежного наста, через весь аэродром к самолету мчала полуторка, механики стояли в кузове с огнетушителями на изготовку... (Сорок минут тянул летчик на одном моторе, удерживая вытянутой, задубевшей ногой кратчайшее к дому направление, борясь за каждый метр высоты... Перед землей подбитый мотор вспыхнул, командир на пределе возможного сбил пламя, дотянул, сел.) Член Военного совета, наблюдавший их возвращение, оценил летчиков — в тот же день отличившийся экипаж был награжден. Пострадавшие от ожогов командир и штурман получали ордена в госпитале, сержанту Кулеву медаль «За отвагу» вручалась перед строем полка. Невредимый, ничем командиру не подсобивший, балласт на аварийном самолете, Кулев со строгим лицом внимал ораторам: «мужество»... «рискуя жизнью»... «гордимся»... «Начальству виднее, — думал Степан. — Все зависит от начальства...» Первый из ШМАСа удостоенный медали с выбитой на лицевой стороне аттестацией «За отвагу», он ради такого отличия готов был потерпеть. Стоял по стойке «смирно», слушая: «Степан Кулев — отважный воин...» Со временем сам привык к этому и других приучил, не зная в душе, отважный он или не отважный воин. Других приучать проще: народ доверчив. Доверчив, но и чуток, чутье на правду в нем неистребимо. С досадой, удивленно отмечал Кулев, что особняком ему держаться легче, чем сходиться с коллективом. Тоска одиночества, более ощутимая, чем страх смерти, настигающий бойца время от времени, — тоска одиночества поселилась в Кулеве, всегда была с ним. Горечь бытия смягчилась, сладость службы возросла, когда Степана — все за тот же вылет — произвели в младшие лейтенанты. О том, что «анонимный подвиг невозможен», Степан уже не заикался. На курсы штурманов, куда его послали после финской (в штурманах всегда нехватка, вечный дефицит), на курсах штурманов он с пеной у рта, как собственное мнение, отстаивал взгляды, не раздражавшие слуха: «Наш истребитель «И-16», «ишак» (на котором Степан не только не летал, которого близко не видел), превосходит немецкого «мессера». Степана увлекала не истина, а открытость, широковещательность окрашенной патриотическим чувством позиции...
Осенью сорок первого года их курсы в полном составе были выдвинуты в первую линию Брянского фронта. Кулев, отличный радист-оператор, попал в радиовзвод, то есть на грузовик, в кузове которого была смонтирована учебная самолетная радиостанция РСБ. Где-то под Борщевом повстречались радистам санитарные носилки, продавленные грузным телом круглоголового генерала. Подушкой генералу служила полевая сумка, ноги покрывал плащ, под рукой — расстегнутая кобура с пистолетом. Несли генерала солдаты в сопровождении нескольких командиров, отлучаться генерал никому не позволял. Степан вглядывался в поросшее седой щетиной, оплывшее от лежания лицо, когда раненый обратился к нему с вопросом: «Фамилия?» — «Дежурный по РСБ младший лейтенант Кулев!» — «Приказываю, радист, связаться с Москвой!» — «С Москвой не могу, товарищ генерал. Не достану. Мощность не та...» — «Передавай в эфир: «Еременко»... услышат». — «Москва не возьмет... Ближайший аэродром — попробую...» — «Зацепи его, Кулев. Всем сердцем прошу, — голос генерала дрогнул. — Вызови, передай открыто: Еременко ранен, невзирая на потерю крови, руководит войсками с носилок... Нужен самолет...»
Вызов удался.
Раненого генерала самолетом доставили в Москву...
Без малого год прослужил Кулев в частях связи под началом капитана Жерелина, прежде чем удалось ему вернуться в авиацию, — только не в бомбардировочный, как значилось в предписании, а в штурмовой авиационный полк, штатами которого штурманы экипажей не предусмотрены. Майор Егошин не замечал ошибки... Или делал вид...
«На каждого бывает свой Жерелин, — думал Кулев. — Или Егошин... Тот меня за одну букву поедом ел, этот за одно слово кинул к черту на рога...»
Безлюдные хутора на пути грузовика — как вымершие.
«Юнкерсы» волнами, в образцовых порядках проходя на Сталинград, возвращались на свои базы вольготно, безбоязненно... Жесткокрылые «мессеры», сверкая чужеземной раскраской, гуляли над землей, пружинисто огибая наклоненные стволы колодезных журавлей, срывая струями солому с крыш, разнося ее по ветру. Это молодечество от избытка сил служило целям морального подавления противника. Утюжке подвергалось все: хутора, повозки, запряженные волами, толпы беженцев, прежде чем немецкая армия нанесет завершающий удар, противостоящая ей нация должна быть деморализована, обессилена, должна видеть в капитуляции неизбежность и спасение.
«ИЛ», высмотренный Кулевым в пшеничном поле, занесли на личный счет лейтенанта и благополучно отбуксировали. Почин был сделан. «Быстренько, быстренько!» — - поторапливал свою команду Кулев. Их вынесло в район, очерченный ногтем Егошина. Оставив машину в овраге, Кулев с Шебельниченко вскарабкались по крутому склону наверх, к выгону небольшого хутора, где, по словам капитана Авдыша, он посадил свой самолет. Взобрались, тяжело дыша, и увидели целехонький, на колесах, должно быть, невредимый «ИЛ»... только они к нему опоздали: «ИЛ» уже был облюбован «мессером». Двух своих соперников немец тотчас уложил на землю. Чтобы не рыпались. Прикрыв голову руками, Кулев из-под локтя наблюдал за фашистом. Выгон служил ему полигоном, а «ИЛ» — учебной целью на нем. Макетом натуральных размеров, хорошо освещенным, вполне безопасным. «Мессер» прошивал его по спине, сбоку, под ракурсом три четверти. С виража, переворота, длинными очередями, короткими. Набивая руку, глаз, проводя интенсивный, что называется в охотку, тренаж по воздушной стрельбе. Двух человечков, уложенных ничком, он приберег на закуску. Размявшись как следует, разгоревшись, войдя во вкус, немец обрушился на спасателей «ИЛа». Оглушая моторным ревом, вдавливал в землю, не стрелял, отдаляя момент, когда до русских дойдет, что их просто-напросто стращают, поскольку весь боекомплект уложен в «горбатого»... Долго приходила в себя команда Кулева.
— Накормил нас фриц землицей...
— Еще накормит... из Россоши подрывали, начопер первым в автомобиль — скок: «Вперед, на запад!..» В хуторе Манойлине вроде как задержались, а он уже опять в кабине, опять: «Вперед, на запад!» Командир остановится — и солдат упрется.
— Англичане договор-то подписали, а техники ихней что-то не видно.
— Башмаки пришлют, тем все и кончится.
— Башмаки бы сейчас — хорошо...
— Страх гонит нашего брата... Свой своего не убьет, верно? А немец убьет...
— А я скажу: благодушия много!.. Пока гром не грянет... Я из госпиталя когда, в конце июля? Ну да, двадцать девятого числа комиссовали, тем же часом справочку в зубы, сухой паек на руки — и пошел я из Сталинграда на Гумрак. Думаю, попутный аэроплан в Гумраке поймаю, улечу к своим. Иду под вечер по окраине. Как деревня на закате, правда. Патефон играет, домишки все в зелени, садочки ухожены. Тишь, гладь, божья благодать. В одном дворе хозяева чаи гоняют, в другом рождение празднуют или свадьбу... Благолепие. Как будто война от них за тысячу верст...
— Последний анекдот хотите? — спросил Кулев. — «Говорят, Черчилль в Москву приезжает». «Ну и Хелл! с ним...«[1].
Как ни потрошил «мессер» авдышевский самолет, как над ним ни измывался, «ИЛ» уцелел. Стали осторожно заводить измочаленный хвост в открытый кузов грузовика. Не спорилась работа. Успеют отбуксировать находку? А успеют, погрузят на платформу, — дойдет ли самолет до мастерских?.. Успеют и дойдет — что изменится?
Опустили, приторочили продырявленный хвост — вдруг в облаках пыли, на взмыленных конях, — заградотряд. Впереди — моряк, каурая кобылка под ним пляшет, бескозырка с лентой «Тихоокеанский флот» надвинута на бровь, тельняшка на боку распорота, у пояса — палаш и гранаты. Позади моряка капитан в нагрудных ремнях кавалериста и при шпорах. Судя по обмундировке, все рода войск представлены в заградотряде, только авиатора нет.
— Документы, — выдвинулся вперед капитан. Ремешок фуражки опущен под острый, в темной щетине, подбородок, взгляд недоверчивый и усталый.
— Документы, документы, — эхом подстегнул Кулева моряк. При гвардейской стати он и голос имел выразительный, сочный баритон.
— Подбираем брошенную технику, — начал Кулев, пытаясь потянуть время. Давно ли сам Степан гонял немилосердно, взыскивал с других? Требовал ответа, внушал почтение и страх?.. Да, жизнь на фронте такова: все меняется в мгновение ока. Опять Кулев внизу, опять над ним другие...
Моряк раскусил его.
— Четверо! — сказал он капитану, двигая на Кулева кобылу. — Документы!
Увертываясь от жаркой лошадиной морды, Кулев схватил рукой уздечку.
— Не тронь... шкура... мать-перемать! — вздыбил коня моряк. — Вчетвером автомобиль угнали, теперь самолет ладите?
— Кто ладит? — встал перед моряком Шебельниченко. — Короб этот, дура?.. Решето?.. Верхами на нем поскачем, как вас тут носит!
— В Эльтоне «юнкерсы» эшелон накрыли, две тысячи моряков с ТОФа... Где истребители были?! — кричал моряк.
— Мы не истребители!
— Авиация все едино!
Мрачный капитан ждал документов.
— Подбираем битую технику, — объяснял Кулев. — После чего возвращаемся в часть...
— «После чего»... — процедил капитан. — Людей на переднем крае нет, фронт прогибается. Любую половину группы — в Малую Россошку, на сборный пункт...
— А самолеты грузить? Крылья расстыковывать?
— Приказ командующего!
— И у меня приказ!
— Всех способных носить оружие — из степи в Россошку!
— Не пойду и не дам!
— Возьму, не спрашивая!
— Воздух! — раздался чей-то истошный вопль: слоясь в струях дневного марева, удваиваясь, утраиваясь в числе, над ковылем беззвучно неслись «мессера», их узкие, острые носы метили в табун заградотряда. — Воздух! — повторил моряк не своим голосом.
— Рас-сыпайсь! — Капитан вздыбил жеребца. — Ве-е-ром... Три креста!..
Кулев, бросившись в кабину, крикнул старшине: «Газу!»
...Четыре «ИЛа» были свезены на железнодорожный разъезд.
Четыре горемыки, без живого места в теле.
И летчики, штурмовавшие, падавшие на них, — тоже горемыки. Кто раскроет их последние, без свидетелей, драмы? Кто расскажет о них?.. Егошин помянул насчет протоколов...
Да вот они, немые, железные свидетельства упорства и воли: перебитые тяги, продырявленные радиаторы, окровавленные кабины. Ни один летчик не остался на месте падения. Раненые, контуженые, оглушенные, все уходили на восток, гонимые ужасом немецкого плена.
«Тот Авдыш, конечно, тот, однополчанин по финской, — думал Кулев. — Встретимся — штрафник меня потопит... А может, и не встретимся, — отъезд неожиданно оборачивался выгодной стороной. — Может, и не встретимся», — ободрял себя лейтенант.
Четыре «ИЛа» были отбуксированы, ранним утром на третий день поисков микродесант гнал за пятым.
Затишье в степи, краткая пауза. Чем она обернется, кому послужит? Наученные «котлом» под Верхне-Бузиновкой, немцы производили перегруппировку сил. «Написать и отправить донесение», — думал Кулев, радуясь рейду, его результатам, не вполне понимая, зачем и куда отправлять донесение, — давали знать о себе уроки капитана Жерелина. Так, на всякий случай. «Учитывая заслуги... спасение боевой техники, подтвержденное документами...» Бумажка и на войне имеет силу. С другой стороны, «фронт прогибается... возьму, не спрашивая...». Железнодорожная ветка забита, под Котлубанью «юнкерсы» разнесли эшелон с беженцами, разъезд Конная в огне...
Как горцы-долгожители по тончайшим, только им ведомым признакам предсказывают землетрясение, так и Кулев, долгожитель фронтовых дорог, предчувствовал близость грозного часа, девятого вала нашествия...
— Пора уходить. Что могли — сделали. Подцепим пятый «ИЛ» — и домой, — подстегивал он водителя. Странный нервический, как прежде говаривали, жест сопровождал его обращения к старшине. Кулев вдруг вскидывал, вздымал обе руки, задерживал их на весу, медленно опускал, прихлопывая кожу горбатого сиденья.
— Знаю я эти степи, — понимающе отзывался Шебельниченко. — В Средней Азии пожил, знаю... Басмачи нашего схватят, голову отрубят, а труп через стену в крепость забросят... Потом наши так же... Лейтенант, что за сруб?
Крестовидный выступ на базу, в тени амбара, был едва различим под ворохом тальника, но перышко трехлопастного винта, высмотренное рысьим глазом старшины, выдавало усилия маскировки.
— Истребитель «ЯК-1», — всмотрелся Кулев в силуэт машины. — Где притулился... И в голову не придет искать в таком месте...
— Мой, — улыбнулся водитель. — Моя находка, я обнаружил. — Видя, что Кулев колеблется, добавил: — Он же маленький, «ЯК», против «ИЛа» ничего не весит. Берем играю чись...
— До него не доберешься. Еще застрянем... «Не нужен нам этот «ЯК», — думал Кулев. — Все пути на север перекрыты, разъезд Конная горит...»
— Цепляем с ходу, в два счета!
Кулев колебался.
— Майор Егошин нас похвалит. — Шебельниченко выкручивал баранку в сторону база. — И здесь, скажет, сработали за «маленьких»!
...Выпрыгнув из кабины, Кулев рысцой спешил к истребителю, подгонял товарищей: «Быстренько, быстренько... сто двадцать шагов в минуту!»
При торопливом осмотре истребителя мнения высказывались различные.
— Хорош гусь хозяин, натаскал хворосту — и деру...
— В какую сторону?
— Пробоин нет, бензобак булькает.
— «ЯК» надраен, как медный котелок... Приготовил к сдаче?
— Как он его сюда загнал, вопрос... Грузовик не подберется.
— Камешки из-под колес вынуть, он своим ходом скатится. Внизу его зацепим.
— Быстренько, быстренько!
— Товарищ лейтенант! — донесся из амбара сдавленный голос. — Вы голову промыть дадите?
Возглас излился, несомненно, из женской груди; старшина, вслушавшись, авторитетно заявил, что в амбаре моет голову не кто иная, как Глафира Кожемякина.
— И здесь знакомая, — отметил лейтенант. Шебельниченко, мимикой открестившись от знакомства, шепотком пояснил:
— Ее из бани по тревоге выкурили, так она за свою недомытую голову начальнику штаба плешь проела. Потом ее перевели.
— Кожемякина! — почему-то нараспев обратился в сторону амбара Кулев.
— Не Кожемякина. И не Глафира, — ответил ему неприязненно женский голос, делая ударение на «не». — А самолет заминирован, учтите, я предупредила...
Мужчины, как по команде отступив от «ЯКа», воззрились на бревенчатую стену хуторского строения.
— Бабы, когда голову моют, о другом думают, — заявил Шебельниченко. — Лейтенант, ну его, «ЯК»... К своему «ИЛу» не поспеем.
Он отрекался от своей находки. Предлагал отходную.
Кулев, гонимый беспокойством, перестал спешить. Мытье женской головы — многотрудное занятие. Мама приступала к нему после длительных приготовлений, в особом расположении духа и как бы что-то загадав. Священнодействие с кувшином, мыльным раствором, просушкой и укладкой волос предполагало отрешенность от всех прочих дел, и тайное желание мамы сводилось, видимо, к тому, чтобы никто из соседей по коммунальной квартире не помешал ей исполнить важный замысел; обычно она приступала к ответственной процедуре ночью, когда квартира отходила ко сну... А степь, этот хутор с часу на час превратятся в арену боя...
Кулев быстрым шагом обогнул амбар, тронул массивную дверь на кованых петлях.
Гулко брякнула щеколда.
— Не подглядывать! — взвизгнул женский голос. «Скушали? — мимикой спросил его Шебельниченко. -
Что я говорил?»
Кулев пристыженно слушал сердитое плескание в тазике.
Раз и два шумно сливалась вода.
— Банно-прачечный трест, — сказал он, чтобы не молчать. — Нашли чем заниматься.
— Дюрит лопнул! — в сердцах отозвалась моющаяся. Он представил, как она стряхивает мыльную пену с рук и осуждающе смотрит в его сторону, на запертую дверь. — Масло из системы выбило, на черта стала похожа... Да еще машину драила.
«Женское пополнение! — осенило Кулева. — Женское пополнение, о котором столько разговоров на КП Егошина»,
— Из хозяйства Дарьюшкина, что ли? — спросил он примирительно. — Из Песковатки?
— Колхоз Кирова.
— Колхоз Кирова! — Теперь пришла очередь Кулева мерить взглядом старшину: «Глафира Кожемякина...» — Мы в колхозе Кирова берем прикрытие, а рядом «мессера», подкарауливают наших...
— И не ваших... И в Нижне-Чирской — тоже.
— В Нижне-Чирской?! — усомнился старшина. — Отставить панику!
— В Нижне-Чирской нас обстреляла зенитка и тут же прихватили «мессера»... Как по нотам.
— Когда?
— Я сама против паники. Вчера... В восемь десять — восемь пятнадцать утра примерно... Шумный сброс воды — и тишина. Молчание.
Наконец она открыла дверь. Чистое, промытое лицо без свекольного оттенка. Скорее оно было бледно.
— Я не прохлаждаюсь, товарищ лейтенант, — с опозданием, сдержанно пояснила летчица. — Я здесь приземлилась и отсюда взлечу. Сержант Бахарева, — и подобралась, свела каблуки брезентовых, в потеках масла сапожек, как образцовый строевик, отработавший курс молодого бойца. Румянец постепенно приливал к ее щекам.
— А если немец двинет?
— Сижу без масла, — сказала она веско. — Дюрит заменен. Доставят масло, я заправлюсь и — домой.
— Кто доставит? Откуда?
— Из Малой Россошки...
Кулев вспомнил взмыленных коней заградотряда.
— Сержант Бахарева! — Он по-командирски приосанился. — Берем «ЯК» на прицеп, и сей же момент — ходу.
Она отрицательно покачала головой.
Не мина с секреткой, бог весть куда подложенная (подложенная ли?), ограждала ее самолет, но румянец к лицу, строчка свежего подворотничка и, конечно, грубоватой ткани светлая лента в волосах... Кулев не ошибся, предложив серьезную заботу о прическе. Лента в волосах, старательно промытых и слегка на висках пушившихся, вместе с твердым отказом покинуть хутор как-то разом возвысили летчицу в его глазах. Опрятный, не глаженный после стирки, сильной рукой выжатый комбинезон был также на ней хорош.
— Тогда... двинули, — сказал Кулев своим, не трогаясь с места.
— Очень плохая вода, — поделилась с ним Бахарева, недовольно прощупывая волосы. — Холодная, жесткая... ужас. Никак голову не промою.
Это все, что она могла ему сказать, оставаясь здесь с «ЯКом».
— Когда-то авиация жила на касторке...
— Мензурка бы касторки не помешала.
— Моторное масло не подойдет?
— Нет, — без улыбки ответила она, вместе с непринятой шуткой отставляя еще дальше лейтенанта от своих расчетов и планов, где тайны косметики и получения заправочного масла соседствуют с готовностью взлететь на сияющем чистотой истребителе по этим колдобинам и буеракам.
«Как же она приземлилась здесь, целехонька?» — запоздало удивился Кулев.
— Товарищ лейтенант, все ясно, едем, — сказал старшина. — Майор Егошин нас заждался...
— Майор Егошин... дома? — насторожилась Бахарева, глядя мимо Кулева и что-то поправляя в волосах.
— Был дома.
— Вы когда... оттуда?
— С «пятачка»? Третий день. По коням!
— Обождите, на Обливскую водил... Егошин?
— На Обливскую? Может быть.
— Самолет его пестрый, как зебра?
— «Черт полосатый», да... Не обязательно водил Егошин, — сказал Кулев, потолкавшийся на КП. — Другие на «черте» тоже летают...
— Мы прикрывали, — упавшим голосом призналась Бахарева, кровь схлынула с ее лица... — Действительно, «черт», от земли не отличишь...
— Плохо прикрывали?
— Чужая машина, мотор отказал. — Она мельком, неприязненно глянула на самолет, сиявший чистотой.
— Так... Остальные?
— «Парой» ходили... Старшина Лубок да я. Но Егошин все видел! Все знает...
Громыхая бидонами, на баз влетела двуколка.
— Эмэс?! — нетерпеливо крикнула Бахарева вознице, и Кулев тотчас узнал в нем моряка из кавалерийского заслона.
— Как будто эмэс...
— Будто?
— Гэсээмщик заверил: авиационное масло эмэс.
— Спрос будет с тебя, не с гэсээмщика.
— Ты, Лена, за канистры не хватайся, тяжелые, я снесу, товарищи помогут.
Вскользь глянув на Кулева, моряк поднял два бидона, понес к самолету.
— Ветер утих, без воронки заправимся, — говорил моряк. — С товарищем сержантом сработались, есть контакт... Товарищ капитан подъедут, уточним насчет документи-ков...
— Каких документиков. Костя?
Она подошла к двуколке и стала над долгожданными бидонами, веки ее как будто отяжелила тень, изменившая выражение бледного, на одной мысли сосредоточенного лица. Или заявило о себе сомнение, или, напротив, решимость взлететь отсюда по рытвинам и ямам? У солдат перед боем замечал Кулев выражение, какое было сейчас на лице Бахаревой. «Как на смерть», — подумал он, отворачиваясь от летчицы.
— Каких документов? — повторила она. — Товарищи из братского полка... полка майора Егошина. Я их знаю. Выискивают упавшие «ИЛы». Хотели мне помочь, но мне их помощь не нужна... зачем? — говорила она медленно и тихо, сосредоточенная на своем так, что все происходящее вокруг не могло иметь для нее значения. «Рвать когти, — понял Кулев, глядя на летчицу. — Знаем мы эти боевые убранства милых головок, — говорил он себе. — Знаем, встречали. Планеристка из Коктебеля, побивая рекорды, вплетала в свои волосы ленту, потом лыжница-свердловчанка, чемпионка страны... Рвать когти!..»
...Спустя несколько часов полковые эвакуаторы мчали прочь от гула танковых моторов, сотрясавших за их спинами ночную степь. Шебельниченко гнал во весь дух, не зная, как далеко немецкие танки, в каком направлении движутся, куда вернее от них уходить. Кулев, повторяя свой жест, вскидывая над коленями и опуская руки, пытался подсказывать ему и умолкал, сбитый с толку, надеясь и не веря, что они оторвутся, уйдут, что авантюра по спасению «ИЛов» их не погубит...
Вдруг всплыл перед ним амбар, где плескалась в тазике летчица, возникло лицо Бахаревой, стоящей над бидонами. В нем было все, что может собрать в себе человек, противостоя этому дикому, сотрясавшему степь скрежету металла.
В ней была сила, которой не находил в себе Кулев, и, стыдясь признаться себе в этом, он, охваченный смятением и страхом, корил летчицу — восхищенно и благодарно, чем бы его ночная гонка ни кончилась...
Внезапный танковый удар, направленный на город с запада и настигавший в степи полковой грузовик, до «пятачка» еще не докатился...
Майор Егошин «планувал», как он выразился, боевую работу, требуя от инженера к рассвету восьми исправных машин.
— Пять — с гарантией, — стоял на своем молодой инженер. — Одну беру под личную ответственность. Нельзя, но я его, вашего «черта полосатого», выпущу, приму грех на душу.
— На «черте полосатом» надо свечи менять.
— Запас свечей кончился, знаю. Скомбинируем. — Выпускник академии, верный надеждам студенческих лет, не хотел, чтобы технической службой, работавшей у стен Сталинграда не за страх, а за совесть, помыкали, и, как умел, отстаивал ее интересы.
— Одна забота у командира — свечи, — сказал Егошин.
Волга омывала откос, где стояли его самолеты, снаряжаемые на боевое задание.
Волга...
Река, водный рубеж за спиной, для русских «воев» испокон веку — опора, исключающая помысел об отступлении: путь назад отрезан, стоять и биться насмерть... Для «воев» опора. Для пеших бойцов, для пехоты. А летчики как, авиация? — подспудно зреет вопрос. «Будем стоять в одном ряду с пехотой, — говорит, уверяет себя Егошин. — Как летчики-штурмовики майора Губрия: обороняя Севастополь, они базировались на мысе Херсонес, полоске суши над водой. И авиация там зацепилась и пехота. И артиллерия. Черноморский мыс — как наш «пятачок». Даже меньше. Губрий майор, и я майор...» — «Но Севастополь пал», — грызет Егошина вкрадчивый голос. «Будем стоять. — Тонкокожий лоб майора от напряжения краснеет. — Ляжем костьми. Авиации в Сталинграде больше, чем в Севастополе. Он майор, и я майор». Любую иную возможность Михаил Николаевич отвергает, не желает думать о ней.
— Вы, товарищ майор, на метле взлетите. Обмахнете пыль тряпочкой и взлетите.
— Треба восемь, — повторил Егошин, пуская в оборот с детства знакомые и за время долгого марша по Украине освежившиеся в памяти словечки певучей «мовы», придававшие речи Михаила Николаевича несколько бодряческий тон.
В торг инженера с командиром вклинился по телефону «дед»: старт свернут, доложил он с аэродрома, ночные полеты окончены. «Лунища, видимость сто на сто...» — проворковал «дед», довольный успешным ходом полетов, а больше всего тем, что ему, школьному инструктору, нежданно-негаданно представилась возможность заняться делом, которое он знал и любил. В пору высшего напряжения сил, когда нет, когда быть не может никакого просвета, друг случаются паузы, мимолетные, едва ли до конца осознанные и живительные. Держа трубку на весу, хмуро вслушиваясь в воркования «деда», Михаил Николаевич с неожиданной для себя готовностью поддался настроению старшего лейтенанта. «Как в мирное время», — подумал он, услыхав знакомый, забытый напев: «Лунища, видимость сто на сто...» Свои первые ночные полеты вспомнил Егошин. Не собственно полеты, а дежурства по ночному старту, когда всю ночь до рассвета он следил за силой и направлением ветра, переставлял и поддерживал в порядке фонари «летучая мышь», перетаскивал с места на место посадочные полотнища, а дома Клава, свернувшись по привычке калачиком, без сна ждала его возвращения... Они только поженились; Егошин сам срубил топчан... потом, куда бы их ни забрасывала служба, он обживал новое место с того, что возводил топчан... Рукодельница, спорая в работе, Клава и в мужском плотницком деле была ему веселой, ловкой помощницей, он с удовольствием наблюдал украдкой, как, шевеля от старания губами, она снимала вершками и переносила с одной оструганной доски на другую нужный размер и говорила, тряхнув кудряшками: «Будет ладно». «Немец не приходил», — сказал «дед». Общение бывшего школьного инструктора с бывшим курсантом по телефону складывалось лучше, чем с глазу на глаз. «Немец не тревожил, два наших исусика явились», — с удовольствием делился новостями старший лейтенант. «Кто такие?» — «Пополнение для братского полка из ЗАПа. Удивлены!.. Мы, говорят, не знали, что «ИЛы» воюют ночью, мы тоже будем ночью воевать? В дивизии им подсказали ориентир: «ИЛы» в небе сверкают, как кометы...»
Ночные полеты на приволжском аэродроме Егошин развернул по приказанию Хрюкина «изыскать возможность и срочно приступить к освоению самолета «ИЛ-2» ночью, с тем чтобы впредь боевые действия на сталинградском направлении производить как днем, так и в ночных условиях».
До сих пор, насколько знал Егошин, штурмовые авиаполки в ночное время не работали. Хрюкин подвигал его на эксперимент, и опыт мирных дней сгодился: ночная программа на «ИЛ-2» осваивалась быстро. «Дед» как инструктор был на высоте, сержант Гранищев вылетел самостоятельно одним из первых... Одна непредвиденная помеха: пламя выхлопных патрубков. Снопы искр, вырываясь во тьме из мотора, ослепляют летчика, демаскируют машину. Действительно, кометы в небе...
— Восемь, — твердо повторил Егошин. — Без никаких. Я три раза в день рискую жизнью...
— А у меня таких, как вы, девять, и я рискую за день двадцать семь раз! — распетушился инженер; выкладка звучала риторически, он это чувствовал. — Днем рискую, ночью мучаюсь, техники практически без сна...
— Летчики много спят. Прямо-таки пухнут от сна!
Шесть машин — один боевой порядок, восемь — другой.
Восьмерка — внушительней, надежней, мощней: шестнадцать пушек, шестнадцать пулеметов, тридцать два ствола, тридцать две, а то и все сорок восемь «соток» в бомбо-люках — рать!
Рать сильна воеводою.
Унесла Тингута полковых воевод, почти всех забрала, два ведущих в строю — сам Егошин да «дед», командир эскадрильи. Контрудар по вражеской группировке в районе Тингуты, при массированной поддержке авиации, принес нашим войскам успех, прорыв противника на Сталинград с юго-запада сорван, усилия следует наращивать... Завтра летчиков снова ждет Тингута.
Раздаев, однажды сподобившись на вождение, сколько, бедняга, маялся, а он, Егошин, каждый день как пионер и на каждый вылет обязан поставить воеводу. Или сам иди, не просыхая, или из-под земли его выкопай, ведущего. Новичков война смывает, из десяти на плаву остается один. Сейчас зелень в полку, «стручки». Опыта вождения групп никто не имеет. Завтра одну четверку потянет командир, другую — «дед»...
Зазуммерил телефон.
— Привет, «Одесса», — сказал Егошин в трубку. — Командир братского полка, — пояснил он инженеру. — Это между собой я его так называю: «Одесса»... Из шестерки, летавшей на Тингуту, пришли трое.
— Кто водил?
— Сам и водил. Руководящего состава, можно сказать, не осталось... А пополнение — два новичка из ЗАПа. Явились на ночь глядя, не запылились.
— Наподобие вашего Гранищева...
— Сержант не так прост, как думают некоторые.
Егошин взял Гранищева в ЗАПе, чтобы заткнуть дыру: полк бросали под Харьков с недобором в людях, с половинным, в сущности, составом, могли вообще скомандовать отлет двумя звеньями — Харьков не ждал... он и прихватил сержанта в ЗАПе, запасном авиационном полку.
ЗАПы, ЗАПы — поставщики резервов.
На них, на ЗАПах, лежит сейчас тяжесть начатого в преддверии войны формирования ста новых авиационных полков. Интересы обороны требовали ста полков, до нападения Германии удалось создать двадцать, теперь пуп трещит и одно остается: гнать из последних сил, наверстывать, чего не смогли, чего не успели. Попадая в тыл на формирование, Егошин видел, что за военный год ЗАПы подняли приволжские, уральские поселки, деревеньки до значения удельных авиационных гнезд.
Свой малый стольный град обрели бомбардировщики, свой Рим, куда ведут дороги со всех фронтов, — у истребителей, своя Мекка — у летчиков-штурмовиков. Разная сопутствует им слава, жизнь во всех ЗАПах одна: жестокая голодуха, страда на уборочной и три-четыре часа пилотирования... Шофер-любитель, чтобы выехать самостоятельно на улицы города, должен предварительно накатать тридцать часов, а летчику в ЗАПе на знакомство с новой машиной дают три-четыре часа. Как говорится, для поддержки штанов. Три-четыре часа, не больше и — под Сталинград...
До войны ЗАПов не было.
Понятия о них никто не имел.
Задолго до прошлого лета поднялись в стране училища и летные школы, освежая древнюю славу Борисоглебска, Оренбурга, Качи. Спроси любого пацана, он тебе скажет не задумываясь: Кача готовит истребителей, Оренбург — бомбардировщиков... Какой народ, какие люди во главе учебных центров! Герои гражданской войны, орденоносцы. Комбриг Ратауш, комбриг Туржанский... цвет авиации. Каждое имя — легенда, каждое имя — личность, и, что характерно, каждый — с яркой методической жилкой, всегдашней спутницей культуры. И в нем, Егошине, возгорелась педагогическая искра... Да, умельцы, таланты растили будущих защитников неба. Звания выпускники носили разные. Егошин, чуткий к ним, как всякий военный, помнил красвоенлетов и военлетов двадцатых годов, пилотов с тремя треугольниками и пилотов-старшин начала тридцатых, сам Михаил через год после выпуска шагнул в лейтенанты...
В воспоминаниях мирных лет, особенно кануна войны, когда Егошин, награжденный за Испанию орденом Красного Знамени, пошел в гору, была для него живительная сила...
— Не такой лопух Гранищев, — повторил майор.
Нынче в обед, когда после трудного вылета заговорил, загалдел возле командирской машины базар неповторимых впечатлений, у Гранищева будто голос прорезался. Какой голос! И какими словами! «Товарищ командир, — сказал сержант, продвигаясь к нему с раскрытой полетной картой, — что это вас от Красного Родничка на север повело? Так прытко чесанули, я уж думал, не догнать», — и по лицу летчика со следами, надавленными тесноватым шлемофоном и словно бы впервые Егошиным увиденному, скользнула усмешка...
После кипения боя, с мельканием земли и неба, крестов и трасс, после перегрузок, когда свинцовые пуды то ложатся на плечи, то медленно их отпускают, закладывая уши и возвращая свет очам, — после этого мало кто из летчиков отчетливо понимает, где он... В небе. Жив — и в небе! Где-то справа пролегла железка, слева тянется река... все взял смертный бой, все силы выпил; новичок, оставшийся в живых, своего местоположения сообразить не может, мысль о том, что он, уцелевший в бою, не выйдет к дому, упадет, побьет машину, создает паническое настроение... Вся его надежда — командир. Командир сюда привел, командир и уведет, только бы его не упустить, ухватить зубами за подол...
Но и командир не из железа...
Поэтому так велико было изумление, если не оторопь, майора, спрошенного сержантом насчет Красного Родничка. «А ты заметил?!» — пробормотал Егошин, склоняясь к планшету: как же его черт попутал с Родничком? Как он железку за рокадную дорогу принял? Он сделал вид, как будто Гранищев не шел с ним рядом. Или шел, полагаясь на дядю, не глядя на карту, не производя счисления пути. «Действительно... минут пять вроде как блукал, — выдавил из себя уязвленный Егошин. — Ты, я вижу, того...» Он смотрел на Гранищева новыми глазами. Когда Авдыш разбил самолет, Гранищев принял группу на себя... Другое дело, что вернулся, забарахлил мотор... Оба хладнокровных решения — в пользу сержанта... Впервые после ЗАПа Егошин подумал о нем, своем чадушке: «Зацепился...» Вслух он сказал: «Ты, я вижу, того... соображаешь».
...Летчик Гранищев, о котором толковали на КП, прошмыгнул мимо часового в землянку и ощупью, роняя в темноте чьи-то сапоги, повыставленные в ногах, добрался до своего места, чтобы растянуться на нем, не раздеваясь: рассвет был близок... Он не ожидал, что с такой готовностью отзовется на предложение едва знакомого ему старшего сержанта, «ходока», «податься в степь, на волю». В этот день все шло у Павла складно, все удалось, три самостоятельных ночных полета и слова о них «деда»-инструктора: «Гранищев, лучше чем днем!» — наполнили его уверенностью и покоем. Ему казалось, когда он шел с ночного старта, что странный, вкрадчивый, напряженный покой, неизвестно откуда взявшийся, заворожил лежавшую под луной Волгу, объял тихое звездное небо... Все вокруг, казалось ему, дышит покоем. Зыбким, готовым прерваться, лопнуть, но пока — царящим. И не воспользоваться им — грех... Последний «выход в люди» Павел предпринял с аэродрома Чугуевского училища, как только они там приземлились. Вылазка по знакомому с курсантской поры адресу кончилась безрезультатно. Что, может быть, и к лучшему, поскольку замысел нетерпеливой, с темными, диковатыми очами Олечки «бежать с тобой», как она ему писала, «бежать и венчаться, обязательно венчаться, слышишь? Это — мое условие!» его пугал. Как бы все развернулось и пошло, если бы их встреча состоялась, сказать трудно...
«Есть шанс познакомиться!» — жарко пообещал старший сержант, «ходок», повстречав Павла на полпути с ночного старта. «С кем?» — «С летчицей... А как же, в одном грузовике из Конной драпали!..» Покой, уверенность в душе как нельзя лучше подходили для такого знакомства; но, похоже, лимит удачи, выпавшей ему, себя исчерпал. Они либо опаздывали («Связисток вчера сняли, подчистую вымели»), либо тарабанили в двери, запертые наглухо, либо появлялись некстати. В санбате вообще едва не влипли. «Баранова!» — требовал под окном избы какой-то военный, не замеченный ими во тьме. «Какого Баранова?» — «Летчика!.. Старшего лейтенанта!..» — «Нету летчика...» — «А я говорю!..» — «Из пехоты — два Баранова, летчика нету...» — «Я приехал, чтобы его забрать!..» Вмешался третий голос, женский: «Летчик Баранов выписан... Товарищ дивизионный комиссар?! Здравия желаю, опять вы под мое дежурство... Да, днем... Разминулись... Наверно, уже дома». — «А кто еще у вас из летного состава?..»
Хороши бы они были, самовольщики, попавшись здесь начальнику политотдела!..
Возвратились восвояси несолоно хлебавши...
Лена Бахарева, успевшая заправить маслом и поднять свой сверкавший, как стеклышко, «ЯК» прежде, чем застонала степь под танками немецкого прорыва, в штабе полка, куда она явилась с продуманным докладом, не встретила ни интереса к себе, ни внимания. «Где старший лейтенант Баранов?» — осторожно спросила она, видя, что никому до нее нет дела. Жаловаться она не собиралась, кому-то плакаться — тем более, в Конной было не до нее. Но все пережитое Леной в последнем вылете было огромно, неповторимо, запутанно, впечатления, ее переполнявшие, рвались наружу и нуждались в судье. Влиятельном и справедливом, чье слово — закон. А большего авторитета, чем старший лейтенант Баранов, для нее не существовало — с того памятного дня и часа, когда она впервые приземлилась на фронтовом аэродроме Конная и до нее донесся громкий гортанный вскрик: «Баранова зажали!..» Готовая было оставить кабину, она обернулась в ту сторону, куда, размахивая руками, толкаясь и крича: «Баранов, сзади!», «Миша, не давайся!», «Держись, Баранов!» — смотрели все. В небе, пустынном и спокойном, когда она заходила с маршрута на полосу, схватились «ЯК» и «мессер». Впервые так близко увиденный, в жутковатой расцветке тевтонских крестов, окантованных белым, с осиной узостью яростно дрожавшего — так ей показалось — хвоста, «мессер», не производя ни единого лишнего движения, жгутом упругой трассы впился в борт «ЯКа»... Удар нанесен, но жертва держится, еще не повалилась... «Все внимание — воздуху», — твердила она себе стократно слышанные в тылу наставления и могла поручиться: только что небо над Конной было чистым; «горбатые», собираясь взлететь, вздували за хвостами рыжую, сносимую ветром пыль, а в небе глазу не за что было зацепиться. Пока она снижалась и рулила, все переменилось: откуда-то взялся «ЯК», откуда-то в хвост ему влетел «мессер». Она не успела пережить удивления, растерянности, испуга при виде «мессера» и сострадания обреченному «ЯКу», как небо вновь опустело, чтобы представить ей чудо: над Конной висел не круглый, не наш, а квадратный купол немецкого парашюта; одинокий, он был почти недвижим, позволяя каждому, кто сомневался, убедиться в том, что сбит не «ЯК», что повержен на землю и взорвался «мессер»!.. То, что проделал на вираже Баранов, переломив ход быстрой схватки и выбив немца из кабины, оставалось за пределами ее понимания. Люди, захваченные боем, с громкими криками, наперегонки бежали со стоянки. Лена, потрясенная, осталась в кабине.
То, что сделал у нее на глазах фронтовой летчик Михаил Баранов, ей — недоступно.
И — непосильно.
...«Баранов в госпитале», — сказали ей.
«Навещу Баранова, — думала Лена. — Буду за ним ухаживать. Поить из ложечки, делать перевязки...»
Кроме как на старшего лейтенанта Баранова надеяться ей после Обливской было не на кого.
В то время как перешедшие Дон немецкие танки вытягивались по низине громыхавшей в сторону Волги колонной, работник оперативного отдела штаба 8-й воздушной армии майор Белков, не получив прямого провода с дивизией Раздаева, вышел на штаб полка Егошина. «Срочно сообщите полковнику Раздаеву, — печатала шедшая от майора Белкова лента, — что комдив Дарьюшкин приказал своим истребителям сопровождать штурмовиков при наличии облачности не ниже 1200 метров. Если облачность ниже, приказал своим Дарьюшкин, истребители вас прикрывать не будут. Значит, и вы без истребителей не имеете права...» — «Товарищ Белков! — вскочил Егошин, возмущенно глядя на сидевшего перед ним за аппаратом связиста, как будто боец-связист и был Белковым. — Комдив Раздаев находится у наземного соседа, на проводе майор Егошин, мы с вами встречались, говорю от собственного имени и ответственно заявляю: вы все ужасно путаете, товарищ Белков! Даете в руки истребителей лазейку. При такой вашей установке они взберутся на высоту полторы — две тысячи метров, а мы, штурмовая авиация, хочу напомнить, если вы забыли, действуем на высотах сто тире восемьсот метров! И здесь, на этих эшелонах, «мессера» получают свободу. Безнаказанно издеваются над нами, а наши истребители со своих заоблачных высот ничего этого не видят. Из-за такого в кавычках «качественного» прикрытия я уже потерял половину исправных. Зачем мне такое прикрытие?» Белков: «Товарищ Егошин, я вас не понимаю, очевидно, мы не сговоримся. Хозяйство Раздаева требует пополнения парка «горбатых». Дайте обоснование, цифровой материал по безногим, что сделано для восстановления. Конкретно». Егошин: «Данными Раздаева не располагаю...» Белков, перебивая: «Дайте цифры по вашему хозяйству... сколько потеряно, сколько поднято, какие приняты меры. Дайте картину, или у вас иждивенческие настроения?»
Инженер, стоявший рядом, на пальцах — будто Белков мог уличить его в подсказке, — на пальцах показал Егошину: четыре! Четыре «ИЛа» восстановлено своими силами! За битой техникой послана эвакобригада!.. Егошин: «Полной выкладки нет, за последние дни восстановлено четыре единицы». Белков: «Материал нужен для доклада Москве сейчас. Скажите прямо, будете завтра бить шестеркой скопление и что для вас нужно?» Егошин: «Я с ночного старта, ясно? Работаю круглые сутки. Скопление бить будем. Прошу потребовать от комдива Дарьюшкина, чтобы он головой отвечал за потерю «ИЛ-вторых» от немецких истребителей. Ведь вы своим согласием с его высотами снимаете с него ответственность и вносите разлад в наши действия. Вот о чем я говорю. Прошу доложить мою точку зрения командующему, генералу Хрюкину...»
Аппарат умолк, лента остановилась.
Инженер, убрав свои шпаргалки, расставил кружки, плеснул из фляги спирта. Молча чокнулись, молча взялись за арбуз и вареные яйца, оставшиеся от ужина.
— Сами рубим сук, на котором сидим! — говорил Егошин, выгрызая арбузную мякоть и швыряя корки в угол. — Молчал Дарьюшкин, молчал — и высидел. Вылез, видишь ли. Заговорил!.. Ведь на убой, просто на убой...
Все в Егошине восстало против варианта, якобы сулящего штурмовикам облегчение («ИЛы» тоже могут не ходить...»), а по сути — разрушительного. Явственная нота жалости, участливого отношения к летчикам вместо согласия майора вызывала его протест потому, что, смягчая горечь минуты, вариант Дарьюшкина не отвечал смыслу жестокого боя, его конечным результатам. Старший лейтенант Михаил Баранов разве о высоте облаков заботится, принимая под свою охрану «горбатых»? Он из обстановки исходит, из задач, решаемых «ИЛами», он лично его, тезку своего, Михаила, с которым вместе донскую пыль глотали и тот бочонок пива, потом умываясь, катили, — он его оберегает!.. Что ж такого, что Дарьюшкин — полковник. И на полковника есть власть...
В Испании Егошин с Хрюкиным не встречался, но генерал его знал и помнил скорее всего как «испанца». В июле, после расформирования РАГа, резервной авиагруппы, полк Егошина оказался бесхозным: из РАГа ушел, в армию не пришел. Егошин переслал Хрюкину записку с просьбой принять полк в свое объединение. Дня через три последовал приказ: зачислить полк майора Егошина в состав 8-й воздушной армии.
— И на полковника есть власть, — повторил майор, думая о Хрюкине.
Инженер сгреб со стола яичную скорлупу и семечки во влажное арбузное корытце.
— Восемь, — сказал он. — Готовность на завтра — восемь машин. Но учтите: резерва больше нет. Амба!
Прилечь, однако, им не удалось...
Полковника Раздаева на передний край вытолкнул не командарм Хрюкин, всеми силами добивавшийся, чтобы штаб армии, штабы его дивизий находились в тесном, непосредственном контакте со штабами наземных частей и соединений, поддерживаемых авиацией армии, — Федора Тарасовича вытолкнула на передний край война, боевой вылет на Тингуту. Ответственный и напряженный, этот вылет в последние минуты перед стартом крайне усложнился, и, когда полковник, благополучно вернувшийся, обдумывал полученный урок и все понукания Хрюкина, он решил в ближайшее время обязательно «выехать в войска», как он по этому поводу выражался.
Рекогносцировочная поездка получилась трудной.
На исходе ночи в расположении пехотной дивизии близ Россошки Федор Тарасович повстречал мчавший во весь опор полковой «ЗИС» майора Егошина, и со слов лейтенанта Кулева, невразумительных и быстрых, похожих на какое-то заклятье, Федор Тарасович узнал о танковом прорыве врага.
Когда полковнику Раздаеву удалось связаться со штабом 8-й воздушной армии, там уже знали об этом...
Тимофей Тимофеевич Хрюкин, тридцатидвухлетний командующий 8-й воздушной армией, был вызван в штаб фронта, как только стало известно о танковом прорыве в районе Вертячего.
В последнее время у Хрюкина наладился по-стариковски короткий сон; четырех часов в сутки Тимофею Тимофеевичу хватало, чтобы энергия и бодрость возвращались к нему безо всяких с его стороны усилий, — рези в глазах не чувствовал, виски не ломило, голова работала ясно. Встречая в штабе других старших военачальников, он мог бы увидеть, что генералы, годившиеся ему по возрасту в старшие братья, если не в отцы, страдали от фронтовых невзгод, от того же хронического недосыпания более тяжко, чем он. Но на эту сторону жизни Тимофей Тимофеевич внимания не обращал. Главным мерилом достоинств было трезвое понимание командиром действительного хода войны. Свобода мысли, смелость анализа, гибкость, нешаблонность действий. В сорок втором мы думаем и воюем не так, как думали и воевали в сорок первом. Методы, оправдавшие себя на дальних подступах к Волге, должны меняться, когда противник берет на прицел городские окраины. Массированный удар авиации способствовал успеху наших войск под Тингугой, теперь, на ближних рубежах обороны, считал Хрюкин, важна способность командира увертываться от врага, сберегая наличные силы, и этими же силами стойко ему противостоять. Увертываться и противостоять... Распознавать ошибки противника, извлекать уроки из собственных просчетов. Все это — без промедления, на счет «раз-два». Командиров, этим умением не обладавших, Хрюкин по ходу обсуждений бодал, — без малейшего почтения к должностям и званиям. Бодал безжалостно.
Поднятый на рассвете, он свои четыре часа прихватил, а быстрая, тряская езда по спящей, как деревня, городской окраине освежала его. Не видя Волги, он ее чувствовал: солнечный свет, падая на широкую воду, отражался и освещал собою террасами сбегавшие вниз крыши домов, пыльные улочки с деревянными мостками, зелень садочков. Левый берег, далекий и низкий, расстилался в этом освещении озерной гладью. «Как берег Днепра», — вспомнил Тимофей Тимофеевич гонку на рассвете по улицам осеннего Киева, знавшего нависшую над ним смертельную опасность.
К предстоящему разговору в штабе фронта Тимофей Тимофеевич чувствовал себя готовым. В штабе он не задержится. Оттуда — в Гумрак. После событий этой ночи аэродром Гумрак стал фронтовым...
От Днестра, где Хрюкин встретил войну, до Волги уделом авиационного генерала было противостоять немецкой броне и выступать без вины виноватым ответчиком за кинжальные удары противника, кромсавшего нашу оборону: фронтовая авиация всегда на виду, всем подсудна. Солдат, уткнувшийся в наспех отрытый окопчик неполного профиля, чувствует небо своей беззащитной спиной. Ротный или комбат, которым поднимать людей в атаку, требуя артогонька, как манны небесной ждут «горбатых», их прикладистого, с небольшой высоты, у залегших цепей на виду, удара: «Не робей, пехота, держись!» И общевойсковой начальник, радея обездоленной пехоте, стонет: «Не вижу авиации!.. Авиации не вижу!..» — да так жалобно, в таком душевном расстройстве, что не остается сомнений, в чем же первопричина всех несчастий фронта, — в ней, в авиации, которой нет, которой мало... А ведь как ее холили, как ее нежили до войны! Какими осыпали щедротами!
Командующий фронтом не упускал случая напомнить Хрюкину об этом. Не далее как в прошлую встречу, поставив под сомнение приказ, коим Хрюкин определял, что основой боевого порядка истребителей следует отныне считать «пару», два самолета, вместо трехсамолетного, не оправданного практикой «клина». Не только для развития тактики воздушных боев, но и в интересах лучшего прикрытия рассеянно отходивших к Сталинграду войск использовал Хрюкин «пару», выдвигая к фронту, в засады, по два летчика-истребителя... Каждая пара, каждый экипаж был на счету в его бухгалтерии, подчинявшейся двум действиям арифметики, сложению и вычитанию, вычитанию преимущественно. А прежде чем Тимофей Тимофеевич узаконил «пару» своим приказом, написанным цветным карандашом в один присест без исправлений и помарок, ее оценили и признали сами летчики. Выгоду взаимной защиты, в ней заключенную, раскованность, свободу маневра и атаки. В засады Хрюкин требовал выделять решительных, расчетливых истребителей, способных, срабатывая за эскадрилью, в критический момент, по кодовому сигналу «Атака!», поступавшему в эфир, когда на командном пункте наземной армии завязывалась рукопашная, поддержать «огнем с воздуха и морально» не наземную армию, как того требовали и ждали от Хрюкина, а ее штаб, охрану штаба, Военный совет, вцепившихся в заданный рубеж, отстаивающих его штыком и кровью. «Получается, авиаторы занимались обманом, втирали очки? — взял его в оборот командующий, оглядывая командиров-общевойсковиков, сидевших от него справа и слева, как бы призывая их в свидетели разоблачения, которое будет сейчас публично предпринято. — На все маневры выходили журавлиным «клином», а для войны «клин», как я теперь узнаю из твоего приказа, не годится? «Пара», оказывается, лучше, немцы «парой» пользуются... А ведь восемнадцатого августа в Тушино, — зло ввернул командующий, — товарищу Сталину и наркому «пару» не показывали! Восемнадцатого августа со всех округов авиацию в Тушино сгоняли, чтобы небо затмить! Кто ответит за обман?»
Командиры наземных частей, ради прикрытия которых Хрюкин из себя выходил, никого не щадя, молча кивали головами, соглашаясь с командующим.
Но он вывез «пару» с переднего края, обкатал, обсудил, проверил с лучшими воздушными бойцами и от своего не отступал.
За год войны Хрюкин отвердел сердцем. Научился судить о противнике холодно и трезво. Но был легко раним, когда встречал непонимание со стороны своих. Он возражал командующему, словно бы не видя угрюмых командиров-наземников...
Исполненный решимости стоять на Волге до последнего, Тимофей Тимофеевич исповедовал одну общую со всеми веру, отлившуюся со временем в крылатые слова: «За Волгой для нас земли нет!»
Неотделимость сражавшихся войск от города, от правого берега определяла мысли и чувства бойцов, решения командиров. Узнав о танковом прорыве, командиры авиаполков, попавших в полосу таранного удара, не ушли за Волгу, не получив приказа, сместились севернее, в сторону Камышина. «Увертывались и противостояли...» Вместе с тем Тимофей Тимофеевич, глядя правде в глаза, обдумывал, прорабатывал, выносил на Военный совет варианты дислокации, отвечавшие требованиям обстановки, конечной цели беспощадного сражения.
...Комендант штаба капитан Подобед, на котором от казачьей формы осталась красноверхая кубанка, сдвинутая на затылок, да кинжал с плексигласовой наборной рукояткой, лихо откозыряв ему на крыльце, заулыбался в спину, желая показать бойцам охраны свое короткое знакомство с летчиком-Героем, генералом; полковник, адъютант командующего, встретил его со сдержанной приветливостью и проводил в комнатку командующего.
Кроме сидевшего за столом и не поднявшего головы, а только протянувшего ему руку командующего, в комнатке находился пожилой генерал-пехотинец. Дела он, видимо, закончил, но отпущен не был. Его крестьянское лицо, густая седина головы и выцветшие пшеничные брови показались Хрюкину знакомыми...
— Раз-два! — напомнил командующий адъютанту о каком-то срочном, должно быть, поручении, недовольный тем, что адъютант теряет время с Хрюкиным. «Снарядов нет, патронов нет, личный состав дерется штыком», — вслух и, видимо, не в первый раз прочел командующий лежавшую перед ним радиограмму, как бы разъясняя адъютанту, чем он должен сейчас заниматься. Полковник торопливо вышел.
Командующий, как и ожидал Тимофей Тимофеевич, без предисловий потребовал усилить удары с воздуха по танкам прорыва. Хрюкин перечислял принятые им меры коротко и быстро, замечая в лице пехотинца живой интерес к его докладу. «Понеделин!» — вспомнил Хрюкин. Вот на кого похож молча сидевший пожилой генерал, на Понеделина, командарма-12. Чудом ускользнув из танковых тисков Клейста, сгубивших прошлым летом 12-ю наземную армию генерала Понеделина, Хрюкин часто думал и говорил своим в штабе: «Будь под рукой одно звено, один резервный экипаж, я бы выхватил Понеделина... Умница генерал, воевал в гражданскую!..» Сходство с Понеделиным расположило Хрюкина к пехотинцу.
Остро встала проблема: где держать авиацию дальше? Чтобы эффективно противодействовать танкам прорыва, где ей, авиации, находиться — на правом ли берегу, под городскими стенами, или же за Волгой? После предварительных обсуждений в узком кругу, на Военном совете, с принятием частных распоряжений, этот вопрос требовал теперь решения в масштабе всей воздушной армии. Ночной уход полков в сторону Камышина наверняка получил бы одобрение командующего, но Хрюкин о нем умолчал. Зная, как переменчивы настроения командующего и как он бывает упрям, непреклонен, приняв решение, Тимофей Тимофеевич счел за благо на камышинский прецедент не ссылаться. Потому что вслед за ударом из Вертячего естественно ждать активных наступательных действий немцев с юга, и как тогда быть полкам, стоящим к югу от Сталинграда? Куда их отводить? В калмыцкую степь? Под Астрахань? Растягивать базирование частей на тысячу километров? И как ими управлять?
Хрюкин снова вспомнил прошлую осень на Днепре, осенний Киев.
Угадать момент вывода войск из-под удара и осуществить его, держа руку на пульсе, управляя событиями, — великое искусство.
Для ухода авиации за Волгу, считал Тимофей Тимофеевич, такой момент настал.
— Службы тыла, — докладывал он, — готовили аэродромы на левом берегу, чтобы обеспечить непрерывность боевой работы авиации. Днем и ночью.
Генерал, похожий на Понеделина, заерзал на табурете.
— Мам, говорит, я летчика люблю, — подал он голос и улыбнулся горько, как человек, давно смирившийся с участью, уготованной его родимой матушке-пехоте, и все-таки не умеющий скрыть удивления перед такой баловницей судьбы, как авиация. — Приказ «Ни шагу назад!», а она вместе со своим командармом уматывает за Волгу.
— Летчик высоко летает, аттестаты высылает, — с тяжелой усмешкой поддакнул генералу командующий.
— Места базирования за Волгой готовятся по решению Военного совета фронта.
— Я знаю решения Военного совета, Хрюкин!
— А я их выполняю, — отвечал Тимофей Тимофеевич, воздерживаясь от эмоций, уповая на здравый смысл, на безотложность решения, — нюх, надо отдать должное, у командующего острый, чутье ему не изменяет. — Вчера я не настаивал. Вчера было рано.
— А сейчас за Волгу скроется — и все, ищи-свищи ветра в поле, — вставил генерал, похожий на Понеделина, не столько, может быть, в пику Хрюкину, сколько из желания использовать случай и определенно заявить, что исстрадавшейся пехоте без «ИЛов» и «пешек» совершенно невмоготу.
— Связь? — короткопалые ладони командующего придавили карту, покрывавшую стол. Уход авиации на левый берег лишал его привычного удержания всех наличных сил под боком, на виду, терять эту выгоду в условиях Сталинграда было тяжело.
— Я с опергруппой остаюсь в городе, рядом с вашим КП, — сказал Хрюкин. — Связь, радионаведение — в моих руках... Но завтра будет поздно... Поэтому — сегодня. Сейчас, товарищ командующий, — убеждал Хрюкин, склоняя властного оппонента на свою сторону, добывая трудное согласие, прощая за него все, что вытерпел в прошлый раз по поводу боевого порядка «пары», не замечая генерала-пехотинца, всем своим видом показывая, что забыл о его присутствии начисто.
...В Гумрак Тимофей Тимофеевич опоздал.
Он спрямил крюк и выскочил на ветреный старт, когда истребители начали взлет.
Никого ни о чем не спрашивая, никаких распоряжений не отдавая, Хрюкин встал так, чтобы видеть каждого, кто начинал разбег. Он знал эту нервную минуту отрыва, ухода в неизвестность, знал гулкое биение сердца и дрожь, подсекающую колени. Баранов, Амет-хан, Клешев — узнавал он машины, быстро, с гулом и жаром проходившие мимо него, лица, измененные близостью неравного, быть может, последнего боя. «Не сейчас, — решил Хрюкин. — Когда ударят по колонне...» Бобков, Каранченок, Морозов... он не проницал их души, но понимал верно. Взлет на боевое задание — крайнее напряжение сил, дарованных летчику, в сложившихся условиях оно предельно. Пятьдесят, семьдесят, сто немецких танков развивают прорыв, истребители из Гумрака бросаются им под гусеницы. Ни один летчик не выдал своей слабости, с алмазной твердостью и ясно прочерчивали «ЯКи» направление взлета. Вот достояние, которым обладает воздушная армия, это — главное для сражения, где бы полки ни стояли, на правом или на левом берегу реки. Это — а не догмы, которые мы сами себе создаем и за которые так цепко держимся...
С левого берега летчикам работать будет сподручней. Приказ о перебазировании он отдаст через час, когда они вернутся...
Каждый, кого мысленно напутствовал и ждал из боя Хрюкин, уносил с собой частицу его скорбящей, ожесточавшейся души.
Стоя у всех на виду, он каждому из них отдавал честь.
...Поднятым по тревоге летчикам Егошина было приказано штурмовать танковую колонну, а по завершении боевого задания произвести посадку в новой точке базирования — на молочнотоварной ферме, МТФ, на левом берегу Волги.
Первым повел своих «дед», не покидавший ночного старта. Егошина, готового подняться следом, перехватил по телефону «Одесса» командир братского полка:
— Михаил Николаевич, взлетаю!
— Я тоже!
— Два моих «стручка» подзадержались, нет воздуха в системах... Будут готовы минут через двадцать... Михаил Николаевич, возьми их с собой!
— Взлетаю, ждать не могу!
— Они карт не получили! Района не знают!
— Я в Испании, в Испании первый вылет без карты делал!
— Голенькие, понимаешь...
— Взлетаю, «Одесса», взлетаю... Видишь, немец что творит? Мы на юг повернулись, он опять с запада бьет, маскирует действия... Гони своих «стручков» за Волгу! Геть витселя!.. Уводи технику!..
— Да сказал я им, сказал... Отказываются!.. Гнать за Волгу «ИЛы» с полной бомбовой нагрузкой отказались! Категорически... Такой, говорят, момент... Михаил Николаевич, ты не выручишь...
— Сержант Гранищев! — крикнул в трубку Егошин. — Сержант Гранищев пойдет за воеводу. Хвостовой номер «семнадцать»!..
— Понял!.. Взлетаю!.. А прикрытие?!
— Ну, «Одесса»! — Егошин выругался. — Палец дал — руку откусит... Бог прикроет, понял?!
Об одном из прибывших Павел, пока готовился самолет, успел узнать то, что узнается о новичке в первую очередь, а именно, что летчик Валентин Грозов — москвич. «Из Сокольников», — улыбнулся Грозов, гордясь своим парком, неотделимым от Москвы, как Версаль — от Парижа. «С Оленьего вала», — добавил он, зная впечатление, какое обычно производит этот с царских охот существующий проулок, где до войны жители центра снимали на лето дачи. Грозов выкладывал все это, желая показать, какая старина, какие заповедные углы ему покровительствуют. Восседая на влажном от слабой росы баллоне, он, скинув сапог («Подгоняет обмундировку, чтобы не отвлекала», — одобрил москвича Павел), приблизил к себе голую стопу и, морща нос, стал выискивать занозу, насмешливо вспоминая какого-то чудака на почтамте, искавшего, кому бы за сходную плату лизнуть языком почтовую марку и наклеить ее на конверт... «Какая нелепость, — подумал Павел, слушая Грозова. — Что приходит в голову перед вылетом...» Взгляды их встретились; в глазах летчика, высмотревшего занозу, Павел прочел детскую нетерпимость к боли. Именно детскую, исполненную страха нетерпимость. Осторожно, опасаясь рези, Грозов ступил на вновь обутую ногу, слегка притопнул сапогом, проверяя, вышла ли заноза, надавил смелее... еще раз. «А летную школу закончил в Перми», — сказал Грозов с легкой душой: заноза больше ему не мешала. Города, конечно, не знал, бывал в нем считанные разы: когда водили курсантов в баню да перед выпуском, фотографировались на память... Смог выдавить несколько слов о железнодорожном вокзале, о станции Пермь II... но и такая малость была радостна Павлу. «Земляк, — подумал он о новичке. — Наконец-то встретил земляка...»
Второго летчика, Бякова, он не дождался.
Взлетели с Грозовым вдвоем, оставляя за спиной Волгу, всходившее солнце.
Шли над землей, держа впереди две длинные самолетные, скользившие по степи гибкие тени...
На МТФ, на левобережную базу, Гранищев мчал один... База — термин, перешедший в авиацию, как многое, от моряков; будь то шахтерский поселок, колхозная бахча или затерявшаяся в заволжской степи молочнотоварная ферма, названные базой, они обретают надежность, обещание уюта и милой сердцу отрады возвращения: с небес — на землю, из боя — в дом. К тому же молодой летчик, начиная воевать, усталости не знает.
Но когда прорисовался перед Павлом впереди игрушечный редут саманных домиков, обозначающих новую стоянку полка, он почувствовал себя так, будто не вылезал из своего «ИЛа» сутки. «Сдаю», — решил сержант. Тьма в глазах, на мгновение все покрывшая, исчезла, в свете солнечного утра перед ним играли «маленькие», «ЯКи»; низко, стрижами кружили они и резвились над крышами селения. «Где же вы раньше были?» — пересчитал сержант истребителей. «Мессера» его, бог миловал, не прихватили, но страху Павел поднабрался, особенно на первых порах после отрыва, зная по себе, что «земляк», старавшийся рядом, слеп, как кутенок, ничего не видит, ничего, кроме танков, против которых они посланы, не ждет. «Пару» «ИЛов» Павел получил впервые и впервые почувствовал бремя ведущего, посланного в бой без прикрытия,..
Здесь, на МТФ, истребителей ждали; «маленькие», тоже покинувшие сталинградский берег, торопились сесть.
В конце поля, куда убегали, замедляя ход, севшие самолеты, приплясывал расторопный малый с флажками, — как раз в том месте, где летчику, по меткому слову «деда», остается «вильнуть бедром», поживей убраться с посадочной. Тут и был кем-то выставлен регулировщик.
Уклоняясь, как тореро, от кативших на него машин, он двумя флажками, черным и белым, направлял одни самолеты в правую, а другие в левую от себя сторону. Недавно вырытые земляные укрытия предназначались «маленьким», «ЯКам». Штурмовики «ИЛ-2» спроваживались в дальний край аэродрома, в степь... извечный пиетет наземной службы перед «истребиловкой» — перед летчиками истребительной авиации.
«Шерсть», — сказал о махале с флажками Гранищев, как говаривал отец, когда хотел выказать кому-то презрение.
Холодящая душу тоска взлетных минут разошлась, развеялась, на весь отрезок жизни, прожитой после ухода с «пятачка», — и на долгое время вперед — легли надвинувшиеся, освещенные неотвратимостью движения, до последней черточки зримые мгновения, когда «земляк» Грозов, державшийся рядом и усердно повторявший все, что он делал, пошел, так же как он, склоненным к земле, остроносым «ИЛом» на немецкую броню и в облаке прошитого осколками и пламенем дыма обратился в небытие...
Они наносили удар вдвоем, больше в небе никого не было. Теперь же «ЯКи» как должное принимали от услужливого молодца благоустроенную часть стоянки, а Павел Гранищев довольствуйся тем, что останется... На тебе, боже, что нам негоже...
«Холуйская твоя душа!» — покрыл он регулировщика и... не посадил, а шмякнул самолет о землю.
Многострадальный «ИЛ» стерпел.
Гранищев — тем паче.
Он будто и не заметил грубого «плюха». Не придал ему значения. Махала, свидетель и — не прямой, косвенный — виновник безобразной посадки, для него вообще не существовал. Гибель Грозова, еще не пережитая, стояла в его глазах, а перед тем как открылись Павлу саманные домики, обещание отдыха, передышки, он пересек Волгу. Пронесся низко над зелеными островами, существования которых не подозревал.
В открытую форточку кабины, показалось летчику, пахнуло свежестью близкой воды. Он ждал, что Волга коснется его лица, охватит разгоряченное тело, омоет его вместе с «ИЛом», но произошло ли это, он не знал; он испытал другое. Две протоки, два волжских рукава, широкий и узкий, лениво струясь под крылом, отняли у него, смыли, унесли с собой все, чем база, дом, берег вознаграждают солдата, пришедшего из боя.
Углядев для себя капонир, земляное укрытие, Павел правил в намеченное место — и напоролся на черный флаг.
Стоп — означал строгий сигнал. Куда с суконным рылом в калашный ряд?..
Авиационный жезл повелевал сержанту убираться в степь, в тот ее конец, где под разводами аляповатого камуфляжа можно было разглядеть выходцев из перкалево-деревянной эры летающей техники — аэропланы «У-2», «Р-5», «Р-зет»... Собранные с бору по сосенке, они также были брошены под Сталинград.
Сквозь клекот мотора летчик еще раз выразился в адрес регулировщика.
Махала не остался в долгу, состроил ему «козу» флажками: «Мотай, мотай, куда ведено!» Ах, так?! Гранищев в отместку танцору развернул самолет с чувством. Крутанул его так, что моторная струя и пыль за хвостом с силой ударили в угодника. Тот попятился, засеменил ножками, прикрывая колени, как если бы придерживал подол вздувшейся юбки, — не мужская округлость ягодиц и груди вылепились под новеньким комбинезоном...
К майору сержант-одиночка шел тяжело, объясняться с майором ему, как всегда, было трудно.
Ферма, сверху безлюдная, обнаруживала признаки жилья.
Землянки, отрытые в степи, приоткрывали свои темные входы. Натужно выли бензозаправщики, торопясь напитать горючкой приземлившиеся в Заволжье «ЯКи».
Девицы в гимнастерках, неизвестно откуда взявшиеся, собрались в кружок, настороженно примолкший.
Что среди аэродромного люда запестрели женщины-военнослужащие, Павел приметил еще на площадках Задонья и под Калачом; специалисток, правда, были единицы, ни знакомства, ни разговоров с ними он не заводил. В Конной, когда прошел слух о летчицах, Павел просвета не видел, не разгибался, и только одно совпадение, разумеется случайное, засело у него в голове: в день и час появления новенькой в Конной он вышел на место капитана Авдыша... что удивительного, если подумать? Такие события, то есть попытки принять на себя группу, в жизни летчика очень важны. Теперь, совершенно к тому неготовый и еще меньше к тому расположенный, он попал в фокус внимания доброго полувзвода солдаточек. Незримые, чувствительные, однако, токи, шедшие к нему со стороны кружка, побуждали летчика либо продефилировать мимо, ни на что не отвлекаясь, либо, напротив, открыто и душевно поприветствовать девиц; печать сумрачной заботы, даже отрешенности еще резче выступила на его лице. Не полной, правда, не стопроцентной отрешенности, потому что отметил Павел новенькие, защитного цвета пилотки, выделил одну среди них, синюю, не говоря о такой детали обмундировки, как брюки-галифе: не на всех они сидели ладно, подчеркивая пестроту сообщества рослых и маленьких, полных и худеньких девиц... Синяя пилотка принадлежала как раз сигнальщице.
Он определил это твердо. И словно бы кто-то ему шепнул: «Она». Летчица, памятно пришедшая в Конную, та, с кем его ныне ночью собирались познакомить, и регулировщица, погнавшая его от капонира флажками, — она, синяя пилотка... После этого Павел и себя увидел со стороны: свои кирзовые бахилы, свой лупившийся нос — и испытал потребность отряхнуться, прихорашиваясь...
На губастом лице майора Егошина, когда летчик к нему приблизился, блуждала улыбка.
— Какие крали нас встречают, — говорил майор, ничуть, казалось, не смущенный тем, что горстка юниц и они, гордые соколы, защитники родного неба, повстречались на левом берегу. Скорее он был даже рад такому соседству. Летчики, стоявшие с ним рядом, помалкивали. — Королевы, сущие королевы...
— Одна к одной, — негромко, внятно поддакнул «дед». — Передислодрапировались...
Егошин зыркнул на него, как умел, но тут усач — комендант аэродрома, представившись, доложил майору, что телефонная связь с дивизией получена.
— Распоряжения на мое имя? — спросил Егошин.
— Пока молчат...
— Дивизия молчит? Раздаев? — уточнил Егошин.
— Раздаев.
— Обеспечение?
— Горючка доставлена, боезапас на подходе.
— Что значит «на подходе»?
— Отгрузили, везут...
— Сжатый воздух?
— Компрессора нет...
— И компрессора нет!
Зычный окрик со стороны КП вспугнул девиц, глазевших на летчиков, они заспешили, подталкивая друг дружку.
— Как козочки, — словно бы завершил свои наблюдения по женской части Егошин и обратился к подошедшему с докладом сержанту: — Что, именинник... третий не поднялся? — Сведения с «пятачка» ему уже поступили.
— Ходили парой... Боевое задание выполнено. Все ждали судьбы второго экипажа. Гранищев молчал, уставившись в карту.
— Били с ходу? — спросил «дед».
— С прямой. — Павел словно бы ждал его подсказки. — Как взлетели, так никуда не сворачивали... Высоту не набирали, прикрылись солнцем... Вот. — Дрожавшим пальцем он указал на карте точку, где дым, вскурившийся над кабиной Грозова, отбросил тень, она накрыла танки и исчезла, разнесенная взрывом рухнувшего штурмовика. — Прямое попадание...
Hoc, по-детски сморщенный, прянувшее в небо пламя, перелет через Волгу — вот что придавило Павла на подходе к МТФ.
— Сержант Гранищев!.. Знакомая интонация.
— Дозаправиться, — чеканил Егошин, не зная к нему снисхождения.
— Истребителей заправляют...
— Правильно: «ЯКи» прикрывают ферму. Заправитесь во вторую очередь — и три полета по кругу. После всего школяром «пилять по кругу»...
— Есть, товарищ командир! — ответил Гранищев.
— Варежку в небе не разевать!
(«Мессера», с их шакальим нюхом на дармовщинку, могут наведаться из-за Волги, их разящие удары опасны не только одиночкам...)
— Есть!..
Сержант, склонив голову, затрусил к своей машине, Егошин деловито, как по необходимости, срочной и обязательной, направился в поле, к посадочному знаку.
Примеряясь к ветру, к черной мельнице, возвышавшейся в степи, как маяк, Павел звякал нагрудным карабином, не попадавшим в замок, соединявший парашютные лямки. Дым, вскурившийся над мотором, пламя, взрыв, перешибивший змеистое тело колонны... Карабин проскальзывал, не зацеплялся. И снова попалась ему на глаза сигналыцица. Бахарева, вспомнил он, летчица истребительного полка Елена Бахарева. Мягким шагом, как бы в раздумье, шла она на летное поле, где поджидал его майор. «Ну, встреча, ну, майор, — думал Павел. — Устроил товарищ командир знакомство... Постарался...» Он понял наконец, что тычет в замок тыльной стороной карабина. Защелкнул грудную перемычку, устало опустился на пилотское сиденье...
На «пятачке» начальник разведки, как представитель оперативной службы, предупредил майора Егошина: «Указания получишь на месте, на МТФ. Главное — панике не поддаваться, упадочных настроений не допускать... Панику — каленым железом, Михаил Николаевич!» — «Понял».
«Понял», — сказал майор Егошин, а себе признался, что момента, как следует быть, не схватил. «Настроения... каленым железом» — эти напутствия понял.
Указаний, обещанных дивизией и вносящих ясность, нет, задача полку не ставится, поддерживать настроение на левом берегу, Егошин чувствует, труднее. Дешевые шуточки не проходят. Не до шуточек... Ему надо было побыть одному. Мысль о волжском боевом рубеже, об уходе за Волгу два месяца назад показалась бы Михаилу Николаевичу кощунственной. «Не видать им красавицы Волги и не пить им из Волги воды», — пела, грозно сдвигая брови, занимая собою экран, чародейка Любовь Орлова, и командир полка Михаил Егошин, летчики полка молча, с гордостью, с сознанием собственной силы вторили ей... Два месяца!.. Два дня назад перебазирование полка за Волгу обсуждению не подлежало, разговоры на эту тему были исключены...
А сегодня нет за спиной могучей реки. Нет опоры. Есть бескрайняя степь, десяток саманных строений, ветряк с крестом неподвижных крыл...
Местечко возле брезентового, выложенного буквой «Т» полотнища — излюбленный Егошиным пост, где в славные, далекие теперь времена он часами простаивал, руководя тренировочными полетами, выводя свой молодежный, полнокровного состава полк — один из ста намеченных к формированию, только что созданный, — на передовое место в округе, и когда сам Егошин, вернувшийся из Испании, слыл как методист одним из лучших в бригаде... Случались и в жизни передовика «крутящие моменты», не без того... Голубым огнем горел Егошин, когда его летчик в молодецком подпитии угнал «эмку» и, куролеся по ночному городу с подружкой, влетел в кювет. Егошин за него вступился; парень из портовых рабочих, стропаль шестого разряда, хорошо летает, кадр, полезный для авиации. А хозяин «эмки» — прокурор округа, бригвоенюрист! И чем больше Егошин старался перед командиром бригады, через которого просил за парня, тем сильнее вредил себе в глазах начальства, того же командира бригады. Несноровист был, негибок. Идеализм, мешающий корректировать первое решение, — серьезный минус. Поднял бучу, а тут у самого поломка — пустяк, дужку крыла подломил всего лишь, но в принципе поломка, и вот уже самого Егошина требуют на парткомиссию, где все, естественно, берется вкупе: гнилой либерализм, преступная халатность, утрата боевитости... такой букет. Лихачу не помог, сам сел в яму.
«О чем я? — удивился своим мыслям Егошии. — Какое сейчас это имеет значение? Лихач, поломанная дужка, парткомиссия — откуда все это нахлынуло?.. Зачем?..»
Но «Т», посадочный знак, доставленный в заволжскую степь и расстилавшийся в ногах Михаила Николаевича, был толикой прошлого, проросшей в бурой, сухой степи, прошлого, от которого в горький час ему уйти невозможно. Да и нужно ли? Красвоенлеты, пилоты-старшины, поднявшиеся до комбригов и генералов, проходили этот пост. Все, кто поверил мечте, небу в алмазах, готов был служить ей верой и правдой. Егошин — в числе принявших эстафету. Однажды рядом с ним, на шаг впереди, возвышался в поле возле «Т» генерал Хрюкин, глава московской инспекции. В ярко-синем комбинезоне, перехваченном командирским ремнем со звездой, в генеральской фуражке, оттенявшей свежесть молодого лица, Хрюкин был един в двух лицах: и глава инспекции, и судья. Инспектор — по должности, судья — по своему почину: положив на стартовое полотнище портсигар литого серебра, память Мадрида, Хрюкин объявил состязание летчиков на лучшую посадку и выступал как арбитр. Победит тот, кто коснется земли, ни на сантиметр не отклонившись от границ посадочного знака. Портсигар, тускло мерцавший, объединяя, сплачивал всех летавших, разница состояла в том, что Хрюкин завоевал право учреждать свой приз, уделом остальных было его оспаривать. Генерал посматривал на Егошина с выражением: что, командир, выспорят твои орлы мое серебро?.. Егошин, не удержавшись, сам попытал счастья, да метров на пять промахнулся. «За такую посадку, — сказал ему Хрюкин, — надо бы с тебя получить портсигар...» Лучший результат, по мнению компетентного судьи, показал лейтенант Алексей Горов. Глядя на рослого, длинноногого лейтенанта, Хрюкин поинтересовался, не кубанец ли Горов, не земляк ли генерала... «Волжанин, — ответил летчик. — Из-под Саратова». — «А произношение чистое, — отметил Хрюкин. — Без «оканья». — «Меня с детдомом увезли в Сибирь...» Хрюкин поощрил лейтенанта устно, пожал руку — генеральская награда никому не досталась, уплыла в Москву. В последний раз Егошин видел, как Хрюкин разыгрывал свое серебро на осенних учениях сорокового года. Лейтенанта Горова командир отметил сам, выдвинув его на должность командира звена...
Самозванка-регулировщица, ловко семафорившая в пользу «ЯКов», отвлекла Егошина. Задержавшись между «Т» и концом посадочной, она, видимо, решила, куда податься, где встать, чтобы ее не турнули...
«Не мудри, везде достану...»
Затея генерала Хрюкина с портсигаром была близка и памятна Михаилу Николаевичу потому, что время самого курсанта Егошина видело первое достоинство пилота в умении произвести посадку. Ритмичную, по строго выверенному профилю, с таким плавным подводом машины, чтобы молнией сверкнул просвет между колесами и землей в тридцать — не более! — сантиметров. Понятие «летчик», разумеется, шире, полнее этого навыка, но после выхода человека в пятый океан стало ясно, что благополучное возвращение на землю следует ценить выше прочих достоинств пилота. «Сколько взлетов вам, столько и посадок». И сам Егошин, схватив однажды нехитрое искусство приземления, раскрепостил себя от ига мифов, которыми окружена посадка, сам уверовал в изречение и другим его внушал: «Есть профиль — летчик в кабине, нет профиля — сундук».
ЗАПовский конвейер, в темпе военного времени переоснащавший парк ВВС и готовивший летчиков для фронта, в лице сержанта Гранищева поставил ему «сундука»...
Сигналыцица-доброходка, приняв решение, направилась в дальний конец полосы.
— Ко мне! — скомандовал ей Егошин. — Ко мне! — прокричал он, энергичным взмахом рук показывая, что все команды на аэродроме выполняются бегом.
Она направилась к нему трусцой.
— Сержант Бахарева! — Лена взяла под козырек.
— Комендант аэродрома против самозваных действий предупреждал?
— Я не самозванка...
Какое это самозванство, если она, единственная в наземном эшелоне летчица, знающая толк в стартовой службе, подъезжая на полуторке к МТФ, еще издалека увидела, что посадочные знаки выкладываются безграмотно? А «ЯКи» с минуты на минуту начнут садиться? Она спрыгнула на ходу и стала все перекраивать.
— Не самозванка я, товарищ майор, — повторила Лена, приведя для примера, какую околесицу нес комендант, представитель племени колхозных счетоводов: «Не швыряй полотнище! — кричал он. — Полотнищ больше ни одного, «юнкерсы» все измочалили, эти из-за Волги привезены, а ты их как дерюгу по земле волочишь!»
— Вас комендант отсюда выставил — вы опять здесь!
— Спасибо лучше бы сказал комендант: старт выложил поперек ветра!
И добавила, пояснила, что это она развернула, расстелила знаки согласно правилам НПП, а потом выбрала местечко незаметней, чтобы сигналить, куда истребителям рулить. На чужой, незнакомой площадке летчик, стесненный обзором, ориентируется хуже, чем в воздухе...
«Чем я виновата?» — всем своим видом спрашивала Лена, жаждавшая безотложных действий, как, впрочем, и сам Михаил Николаевич, вдруг оказавшийся в странной тишине и покое левобережья. Но были еще и свои особые причины, побуждавшие Лену хозяйничать на полосе.
— Или летчики должны садиться поперек ветра? С боковиком? — продолжала она, думая о старшем лейтенанте Баранове, после госпиталя вновь занявшем место в кабине «ЯКа». — Ведь они с задания, товарищ майор. Ветерок меняется, крепчает, могут не учесть — и пожалуйста, предпосылка для поломки, для аварии... — Лично встретить благополучно севший самолет Баранова, может быть, сопроводить его до капонира — вот в чем состояло тайное желание Лены.
«Ишачок», «ишачок», прикрой хвостик!..» — вспомнил Егошин девичий голосок в эфире.
— С КП передали, товарищ майор, группа «ЯКов» на подходе...
— Группе «ЯКов» мы не помеша... — отозвался и не кончил фразы Егошин: сержант Гранищев, домовито прогудев над фермой, приготовился сесть.
Лена за свой короткий авиационный век уже успела немало повидать диковинного на посадочной полосе, арене славы летчика и его оглушительных крахов. Коленца, какие выбрасывали здесь новички и учлеты, поражали разнообразием, не давала скучать и фронтовая молодежь: в час высшего драматизма природа полосы оставалась неизменной. Гранищев, к примеру, осуществлял приготовление к посадке странным, пугающим образом: он наклонял нос самолета к земле так круто, целил в землю под таким углом, что впору было подумать, не сдурел ли он, не решился ли несчастный покончить счеты с жизнью. Затем его пышущий жаром «ИЛ», переломив опасный угол, прянул к земле плашмя, взметнув опахалом широких крыльев вместе с колючкой и пылью развернутую брезентовую штуку посадочного знака, — Лена едва успела отскочить в сторону.
— Еще заход! — зло показал летчику рукой Егошин, поднимаясь и отряхиваясь.
— Постращать захотелось, — сказала Лена, как говаривал начлет Старче, когда на посадочной полосе аэроклуба начинался очередной номер авиационного циркового представления. — Молодые люди любят постращать...
В ЗАПе, просматривая личное дело сержанта, Егошин прочел свежую запись: «Перспективы в истребительной авиации не имеет...» «А в штурмовой?» — спросил Егошин инструктора, автора формулировки. «Летчик строя, — пожал плечами инструктор. — Куда все, туда и он. Сам ориентироваться не может. Третьего дня, пожалуйста, пропер от дома за семьдесят верст... Так и умахал!» — «Один?» — «Со мной, я в задней кабине сидел...» — «Вы что, уснули?» — «Дал ему волю, хотел проверить, на что способен?» — «И семьдесят верст хлопали ушами?» Странные объяснения.
За три дня Гранищев оседлал «ИЛ-2», вылетел с полком под Харьков...
А теперь этот горе-истребитель бесчинствовал. Вел себя на посадочной разнузданно. Второй его заход, не менее удручающий, на первый, однако, не походил.
— Сержантская посадка! — клокотал Егошин, повелевая Гранищеву конвейерный взлет.
— Почему сержантская, товарищ майор? — возразила Лена, задетая за живое. — Не все сержанты так...
— Сержантская посадка, — не желал объясняться с нею майор, вкладывая в сакраментальные слова не уничижительный смысл, как слышалось Лене, а горестное сочувствие юнцам, призванным в РККА «по тревоге», вызванной срочным формированием ста полков, и не сумевшим вместе с сержантскими треугольниками получить добротной подготовки в пилотаже.
— По танкам ударил! Экипаж потерял!.. Профиль не держит! — отрывисто, бессвязно восклицал Егошин, и Лена понимала: нашла коса на камень.
При очередном заходе «ИЛ» сержанта взмыл по-галочьи — распластав крылья, покачиваясь, заваливаясь на бок. «Еще!» — погнал его в небо майор, зная, что опасность прямого удара о землю в последний момент самим же сержантом будет снята, что он выхватит и плавно приземлит самолет (и Лена видела это). Сноровка, хватка угадывались в Гранищеве, глаз и самообладание... Но профиль посадки!.. Свет такого не видывал.
«Действительно, коряво, — думала Лена, не одобряя расходившегося майора, сочувствуя измочаленному летчику, с которого после задания сходит семь потов. — Коряво, да надежно...»
— Баранова мог зарубить, меня под монастырь подвести! — не унимался Егошин, уже не о профиле посадки думая, а о том, что ждет его полк, его пять уцелевших «ИЛов» на МТФ, скоро ли без Василия Михайловича доберется сюда наземный эшелон, в чем и где искать защиты от «мессеров»... «Передислодрапированный», как съязвил «дед», на левый берег, Егошин был растерян.
Чем труднее обстановка, тем сильнее неосознанная тяга человека к знакомому, в чем он издавна привык искать и находить опору. Побыть Егошину одному не удалось, но мысли его прояснились. Левый берег, о котором он не смел заикнуться, о котором страшился думать, открывался ему нежданно знакомой стороной. Заблаговременно возведенные, широко раскинутые капониры снимали с него заботу об укрытии, маскировке самолетов. Летчиков ждали добротные, в четыре наката землянки. Впервые за время отступления предстал перед ним комендант аэродрома, радеющий о службе... Микроскопичность этих перемен получала наглядность, стоило Михаилу Николаевичу вспомнить прорезавшие открытую степь танковые колонны, мощь артиллерийского огня и удары по городу с воздуха. И все же усилия по наведению желанного, жизненно важного порядка — реальность. Не должен он, командир полка, бросаться, как в донской степи, с обнаженной шашкой на головотяпов, оставивших «ИЛ-вторые» без капли горючего, — по стоянкам МТФ с урчанием ползают, взвывают движками пузатые бензозаправщики. И устрашающие посадки Гранищева, по сути, — давние знакомцы майора, привычное дело, за которое он, признанный методист, освобожденный от мелочных забот, ухватился сразу, как только ступил на левый берег. Заняв пост у посадочного «Т», он с головой ушел в то немногое, что он в силах изменить, выправить, на что способен повлиять в интересах горящего Сталинграда, оставленного авиацией. «Еще заход!» — командовал Егошин сержанту и клял немца, высохшую степь, угадывая профессиональные намерения Гранищева прежде, чем они возникали, и лучше, чем сержант, зная способы устранения просчета. «Еще!» — честил он ЗАП, призывая на помощь своего бывшего инструктора-«деда» и тех двоих, что тащатся с наземным эшелоном, и друга-истребителя Михаила Баранова, в предвоенную пору прошедших горнило армейской службы... все силы, всю свою надежду устоять на чахлом выпасе заволжской фермы — последнем, крайнем рубеже полка, вступившего в бой под Харьковом, — вкладывал Егошин в летчика, в профиль его посадки...
И сержант, опрометчиво взятый им в ЗАПе, становился ему ближе...
Лена, единственная летчица, заброшенная на МТФ с передовой командой, не слушая попреков усача-коменданта («Не верти полотнища, не дергай!..»), разругавшись с ним, осталась на полосе с флажками, чтобы встретить своих летчиков, а главное, сопроводить старшего лейтенанта Баранова на приготовленное ему местечко. Выкрик вошедшего в раж майора «Мог зарубить Баранова!» ужаснул ее и просветлил, как бывает, когда события, гнетущие душу, неожиданно находят новое, желанное для человека освещение. Впечатление от победы Баранова в Конной было так глубоко и сильно, что возможность обелить старшего лейтенанта в собственных глазах Лена восприняла с радостью. Снять с него некую вину за жалкое существование, уготованное ей после Обливской... Вот кто срубил барановский «ЯК» — сержант! Вот кто, по сути, оставил ее без машины... Она переносила вину на сержанта, которого гоняет — и правильно делает — командир полка. Она переменилась к сержанту. Понимая, что через полчаса, через час он пойдет на задание, она становилась на сторону майора и с чувством некоторого превосходства над сержантом склонялась к мысли, что при такой выучке ему, для его же собственного блага, необходима серьезная шлифовка... На ходу, между вылетами, когда же?
— Я так рада, что вас вижу, товарищ майор, — неожиданно, очень серьезно проговорила Бахарева. — Мы вас при штурмовке Обливской прикрывали, — добавила она несмело.
— На Обливскую не летал!
— Вас... не сбили?
— Представьте, нет!
— Я не в том смысле, товарищ майор!.. Господи!.. Меня так мариновали, не пускали и не пускали. Не знаю, как я их уговорила... Я с вынужденной самолет пригналя! — спешила она объяснить, от торопливости и волнения забавно, как первоклашка, смягчая глагол (и больше Егошин уже не сомневался в том, кто призывал в эфире «ишачка» на помощь). — Сама меняла в поле дюрит, сама его драила... И у меня его отняли!.. Но если бы вы видели, как все произошло, вы бы тоже сказали, что я не виновата, и мне бы дали самолет!
— Не надо горячиться, Бахарева. Не надо пороть горячки:
— А чего ждать? — в упор спросила Лена. — Вы можете ответить, товарищ майор: чего сейчас ждать?!
...Ее пытались урезонить и раньше, еще в аэроклубе. «Бахарева, куда ты рвешься?» — спросил ее однажды инструктор как бы по-свойски, а вместе и неодобрительно.
В дни полетов курсанты аэроклуба получали булочку из сеяной муки и стакан молока, «ворошиловский завтрак». Климент Ефремович Ворошилов перед войной во главе Красной Армии не стоял, наркомом обороны не являлся, но ребята, метко бившие из мелкокалиберки по стандартным мишеням типа «фашист», носили нагрудный знак «Ворошиловский стрелок», и завтраки, введенные его известным в летной среде приказом, назывались «ворошиловскими». Завтраки были бесплатными и как нельзя лучше отвечали зову вечной студенческой голодухи.
Сидя в опустевшем бараке за одним столом с инструктором Дралкиным, Лена, сдерживая свой аппетит и несколько церемонно отставляя в сторону пальчик, — но и крошки при этом не обронив, — расправлялась с булочкой, осененной именем маршала, и тут Дралкин задал ей свой неожиданный вопрос: «Куда ты рвешься?..»
— Летать, — легко, не задумываясь, ответила Лена.
С инструктором ей повезло.
Она поняла это, когда поутихли среди курсантов страсти, поднятые первой встречей с небом. Что творилось! Что за гвалт стоял в этих же стенах! Не снимая тяжелых комбинезонов, красуясь в них посреди столовой или подпирая стены в углах, новобранцы аэроклуба изливали друг другу переполнявшие их чувства: «Ка-ак инструктор крен заложит, у меня сопли из носу!.. Он смеется, тычет крагой вниз:
«Школу видишь?» Какое!.. Где небо, где земля — все бело... «Вижу, — кричу, — вижу!» — «А мой: высоту набрал, стучит по ручке, дескать, бери управление, веди самолет... Я обеими руками — хвать! «Не зажимай, медведь!» — «Я к начлету попал, к Старче. Ну, думаю, звезданет он мне сейчас по кумполу...» Лена, слушая товарищей, помалкивала: в воздухе у нее заслезились глаза. Приборная доска плыла, шкальные показания двоились. Очки, опущенные на глаза, запотели, без очков наворачивались и все затуманивали слезы... Судя по разговорам, никто из парней ничего подобного не испытывал. Или помалкивали? Расспрашивать их она, единственная в летном отряде девушка, не смела. Это было бы с ее стороны риском, неоправданным риском. Она струхнула и расстроилась, ей уже мерещился приказ по личному составу с убийственным словом «отчислить»...
После волнений первого знакомства наступили будни, — каждодневные тренировки в воздухе, бесцеремонные разборы на земле.
Теперь курсанты, облаченные в меха амуниции, уже не отыскивали в себе украдкой сходства с кем-то из прославленных героев пятого океана. Жизнь, сбрасывая наружные одежки, выявляла годность или негодность учлетов к заманчивой профессии. Роль верховных судей принадлежала инструкторам, и она была им всласть. Одни, чиня громовые разборы, упивались своим могуществом, другие выказывали проницательность и такт... Нелишне заметить, что среди авиационных инструкторов находились подлинные таланты, достойные благодарной памяти не меньше, чем, скажем, французские мастера рапиры, обучавшие фехтованию королевских мушкетеров, — хотя бы по вкладу, внесенному корпусом инструкторов в оборону страны...
Григорий Дралкин только начинал, и была заметна в нем одна странность, молодости, вообще-то говоря, несвойственная, — склонность к предостережениям. К толкованию неясного. «Главное в том, — изрек он запальчиво на первом же разборе, — чтобы правильно распорядиться временем, остающимся для принятия решения!» Курсанты, доверчиво ему внимавшие, не вполне поняли инструктора... Он запнулся, примолк, уставился в свой замызганный талмуд... «Курсант Бахарева!» — отступил он от занимавшей его темы. Лена сидела ни жива ни мертва, щеки ее горели. «Бахаревой я сегодня ставлю «пять»!» — заявил Дралкин, продолжая разбор, призывая «братцев-кроликов», то есть мужскую часть летной группы, следовать примеру Лены, лучше всех себя показавшей. Он как бы сразу взял ее сторону. «Братцы-кролики» скисли. Не за тем пошли они в аэроклуб, чтобы выслушивать похвалы какой-то медичке. Авиация, аэроклуб влекли каждого надеждой на личный успех.
Страдали самолюбия, рушились планы, разгорались мечты. Женька Гарт, знаток всесоюзных и мировых авиационных рекордов, штабов ВВС и самолетных парков всех европейских стран, в воздухе соображал не так хорошо и, когда над ним нависла угроза отчисления, плакал. Курсант соседней группы Володька Сургин, преуспевая, бронзовел. Однажды Дралкин снял с него шлем, подвернутый Володькой на особый манер, «чепчиком», как делал это Чкалов, распустил его, расправил и, нахлобучив на голову Сургина, сказал: «Носи, как все, понял?» — не зло, но с чувством сказал, чтобы помнил. Кожаного пальто в отличие от других Дралкин не имел, летал в куртке. Бахаревой иногда выговаривал, бывал недоволен ею, сердит, но никогда ее не ругал. И Лена понимала, что с инструктором ей повезло.
В бараке-времянке, где она чинно уминала булочку, на доске объявлений белел под кнопкой обрывок «молнии», известившей недавно личный состав аэроклуба о том, что «курсант В. Сургин, отлично успевая в школе, первым закончил программу по НПГП с оценкой «пять».
В академических успехах Володьки Лена позволила себе усомниться. Она им просто не поверила. Чтобы на выпуске из десятого класса, да занимаясь четыре раза в неделю в аэроклубе, иметь кругом «пять»? Пусть не рассказывает сказки... Бахвал он порядочный, Володька. «Первым даже в очереди на трамвай стоять приятно!» — откровенничал Сургин. Когда же трамвай трогался, отъезжал с остановки, не взяв и половины возвращавшихся домой курсантов, тот же Володька останавливал его, оттягивая контактную дугу, — только бы показать себя, отличиться. А взлеты и посадки Сургина, как говорит инструктор, «в норме». Не более того. И у нее — «в норме». Так что прославленный «молнией» Сургин перед ней, собственно, ничем не взял. Глаза, напугавшие Лену, теперь не слезятся, она на этот счет спокойна, а Володьку, как он сам ей признался, в первый день полетов рвало. Выпил вечером дома воды — и его стошнило... То и другое — с непривычки, так что и здесь они равны.
А на пороге такого важного события, как самостоятельный вылет, — неожиданное обращение к ней Дралкина, вопрос, за которым что-то стоит... Что?
— Летать, — повторила Лена, настораживаясь.
— А зачем?
— Интересно. Нравится, — сказала она, стараясь уловить, откуда дует ветер. Неприятностей можно было ждать, во-первых, от тетки, родной сестры матери, у которой она квартировала, оправдывая свое местечко на сундуке стиркой и уборкой. Если тетка узнает про аэроклуб да сообщит об этом маме, быть скандалу. Хорошо бы еще в том духе, что, дескать, небо девке ни к чему... Тетка, медалистка Всесоюзной сельхозвыставки, с боем вышла из колхоза и всюду, где могла, поносила без удержу и председателя и колхоз... А потом за нее отвечай. Во-вторых, неприятностей можно было ждать от начлета аэроклуба Старче. Сутулый, краснолицый начлет с венчиком жестких седых волос, по ходу разносов воинственно встававших, знал, что курсанты его боятся, и тешился этим. «Лопату в руки, — гнал он нерадивых, — и на «оборонный объект»!» В военной игре, проходившей с участием городского партийного и комсомольского актива, аэроклуб, экономя бензин, участвовал как пехотное подразделение, и ему было указано на плохое состояние подъездных путей; поэтому строящуюся к городу дорогу начлет называл «оборонным объектом». «Бегом! — кричал он, приседая от натуги. — Все команды на аэродроме выполняются бегом...» «Только бы не Старче», — думала Лена.
— Что нравится? Можешь сказать вразумительно?
Григорий Дралкин, повторяем, был молод, его натура законченного склада еще не получила. Белесые глаза под темными бровями, сильно разросшимися, то оживляли лицо инструктора со следами первых жизненных невзгод, то западали, гасли. Бесплатный завтрак в дни полетов не доставлял ему, как другим, удовольствия, потому что к мягкой булочке и стакану молока легко могли примешаться воспоминания о помянутом уже приказе наркома, направленном на борьбу с аварийностью, о новейших мерах по усилению этой борьбы — о том, что привело к увольнению Дралкина из рядов РККА.
Боль, которая жила в нем, точила душу... страдание, ни с кем не поделенное.
Собственно, внятных, общедоступных объяснений у него и не было.
Он их не знал.
Двухмоторный самолет-бомбардировщик, играя бликами красиво приподнятых крыльев, стоял носом на город, позади темнел овраг, курсант Дралкин, готовясь к выпуску, взлетал на город, машину повело, повело, неудержимо повело в сторону, и она отделилась от земли носом на... овраг. Подобных взлетов, с разворотом на сто восемьдесят градусов, ВВС — страна чудес не помнила...
Когда же, описав традиционный круг, бомбардировщик мягко коснулся земли и остановился, он не был тем самолетом, на котором выпускник Дралкин готовился выйти в люди: крылья его поникли, как подрезанные. «Отлетался!» — ужаснулся Дралкин неправдоподобной, совершившейся, однако же, перемене, думая о самолете и о себе. Его отстранили от полетов, выдворили со старта в казарму пешком. Его драили с песочком, раз, и другой, и третий выставляя перед строем. («Возомнил, самоуспокоился... Погубитель народного добра... в такой момент... не место таким, не место!..») Служение революции в рядах Военно-Воздушных Сил — только в них, больше нигде — сближало, роднило между собой представителей лучших слоев молодежи, причастность к ней была гордостью Дралкина, а теперь он выпадал из этого круга. Был из него изъят, отторгнут. Чувство, посещавшее Григория с приближением выпуска, что все идет как по маслу, что все само плывет ему в руки и что у него, Григория Дралкина, только так и должно быть, — это сладкое чувство оказалось блефом; доверившись ему, он вылетел за борт... Поникшие крылья бомбардировщика придавали его драме наглядность. Ко всему прочему — объяснения, письменные и устные. «Какой закончили аэроклуб? — спросил его военный дознаватель, капитан, с места в карьер начиная расследование аварии. «Тухачевский», — брякнул Дралкин. «Какой?!» В бывшей церкви, отошедшей Осоавиахиму, действовал рабочий клуб имени маршала Тухачевского, и, когда там разместили аэроклуб, вся слободка машинально, по старой памяти называла его «Тухачевским». Так Дралкин и ляпнул... И на всех этапах расследования, вплоть до штаба военного округа, где судили да рядили о корнях чепе, проходила эта злосчастная оговорка...
Уволенный из армии, Дралкин в родной городок не вернулся; слободка, где он жил, знала все дома и семьи, получившие похоронки с финской, наперечет были парни, добровольно или по призыву ушедшие служить. Попав в летное училище, Григорий выслал матери фотокарточку, запечатлевшую его в том эталонном виде, какой надлежало иметь курсанту-авиатору: меховой шлем с очками- «консервами», свитер выставлен поверх ворота гимнастерки, левый локоть с эмблемой, «курицей», несколько развернут наружу, петлички от руки подкрашены голубым, в каждой петличке по одному треугольничку. Вся улица бегала смотреть и обсуждать фотокарточку: в треугольниках никто не понимал, но ведь так-то просто их не дают, стало быть, отличился Гриша. И вдруг он, сын Сергея Михайловича, потомственного горнового, пришедшего с гражданской с клинком за Перекоп и похороненного рабочей слободкой с почестями, вдруг вчерашний курсает-военлет возвращается... штатским. Что стряслось, почему? Чем провинился перед властью?
Дралкин осел в областном центре. Работал на водной станции, в железнодорожном буфете, наконец определился в аэроклуб инструктором, но про себя так и не решил: начинать ли все сызнова, что-то кому-то доказывать, или же рвать с авиацией, забивать на этом деле болт?.. Отлетав в первую смену, Григорий отправлялся поболеть за «Спартачок» или в цирк, где первенствовал на ковре его кумир, несравненный Ян Цыган, или на водную станцию шпаклевать, ошкуривать яхту, «ловить ветер». Парусные гонки все сильнее его увлекали, по классу одиночек он мог претендовать на кубок области.
То, что Дралкин, летчик-запасник, инструктор, воротит, как заметила Лена, нос от аэроклуба, выискивает себе занятие на стороне, удивляло ее.
С аэроклубом она, можно сказать, сроднилась.
Первый красочный праздник, каких в ее родном Босоногове не бывало, она увидела здесь. Медь военного оркестра, белые скатерки выездных буфетов, нарядно одетые люди, толпами валившие за город, чтобы по ходу программы, исполняемой энтузиастами оборонного дела, полюбоваться авиацией... Скромен аэроклубовский парад под облаками, не так впечатляет, как репортажи из Тушина, главное в другом: и мы не ротозеи, готовимся ответить ударом на удар агрессора... Зрелище бомбового удара, дыма и огня захватывает дух: взрываются, летят вверх тормашками фанерные макеты танков, парашютисты, переговариваясь в воздухе, десантом падают на головы зевак («Гляди, Надюха Безматерных, нашего Николая Матвеевича дочь!»), очкастый, в коже, летнаб, наполовину выставившись из кабины, швыряет вниз листовки с насмешливыми рисунками и доходчивыми стихами, в речитативе пошедшими по стране:
«Всем охотникам до драки мы сумеем показать, где у нас зимуют раки, как зовут у Кузьки мать!..»
Поглазев на смельчаков, которым мало места на земле, которым в небе суждены боевые дороги, горожане тут же, на свежем воздухе, устраивались компаниями, семьями, парочками на весь день, и эхо военно-оборонного смотра еще долго гуляло по улицам уральского городка... Как не отозваться на его тревожный зов? Лена подала заявление в аэроклуб.
Весь интерес ее жизни — на «пятачке» аэроклуба, на взлетавших, садившихся коробчатокрылых машинах, где воздух, насыщенный парами бензина, смешивался с ароматами близких покосов, где на рассвете, в час общего «разлета» самолетов, она могла видеть с высоты и приветствовать игрушечное коровье стадо и такого же игрушечного пастуха, взмахами незримого кнута уводящего скотину от шумного места... Все было интересно ей в курсантском «квадрате» из четырех выносных скамеек на лужайке, среди сверстников, сердцем принявших комсомольский призыв: «Дадим стране сто пятьдесят тысяч летчиков!» Тут средоточие всех последних новостей: от вынужденной посадки, накануне всех всполошившей (у Лены ушки на макушке), до состава государственной комиссии, распределяющей выпускников, и пасьянса военных школ и училищ, готовых принять учлетов. Призыв дать стране сто пятьдесят тысяч летчиков на языке военных, ответственных за оборону государства, означал резко возросшую потребность в людском резерве, в кадрах для ста новых авиационных полков; училища спешили засылать в аэроклуб своих представителей, «купцов», чтобы отобрать ребят получше, побольше, с запасом на отсев: новый начальник ВВС (за последние три года третий), требуя от училищ интенсивной работы, строго предупреждал против снижения качества. Все, чем встретит армия будущих летчиков и о чем ни звука нельзя было выведать в книжках про авиацию, обсуждалось на лужайке аэроклуба: что брать из вещей, стригут ли наголо или разрешают прическу до двух сантиметров, нравы злыдней старшин, «губу», курс молодого бойца... На пороге завтрашней, вполне самостоятельной жизни, сопряженной с опасностью войны, недостатков в образцах для подражания у курсантов не было. Белозубый старший лейтенант, вернувшийся из легендарной Испании домой комбригом, — один из них... мчится в Ленинград, умыкает пленившую его актрису в Москву... «С первого взгляда... на самолете», — судачит курсантский «квадрат». С ума сойти...
«Летчик Львиное сердце» — вот он кто, далекий комбриг... Но и тут, в аэроклубе, выявлялись личности, достойные внимания. Когда мотор пролетавшего над ее головой Дралкина вдруг смолк, оборвался, она впервые поняла, как чуток, отзывчив аэродром, и она, дежурный хронометрист, в том числе, на малейшую перемену в рабочем гудении неба: мотор обрезал, сердце ее упало, все вокруг остановились, замерли в тех местах, где их застала тишина тревоги. «Господи, да что же это?» — охнула Лена, видя, как, клюнув носом и быстро, бесшумно снижаясь, пошел в сторону выпаса самолет Дралкина. Отставив хронометраж, она кинулась бежать за ним следом. Маленький пастух увел свое стадо, Дралкин, сильно подскальзывая, метил на свободное пространство луга. Сорвалась со стоянки, громко сигналя, дежурная полуторка. «Назад, Бахарева! — прокричал начлет Старче, распахнув на ходу дверцу и держась за нее. — Кто разрешил оставить пост? Назад!..» Дралкин сел на выбитом скотиной лугу, хорошо видном с возвышения аэродрома. Мимо Лены, возбужденно говоря, проходили ребята, побывавшие на месте посадки. «Сел, как часики», — говорили они. «Как его теперь оттуда выдернут?» — «Срезало контровую гайку, пять минут работы... Сменят гайку, законтачат проводку, сам и взлетит...» — «С коровьего выпаса?» — «Взлететь-то легче!» Она слушала всех и ждала, как выйдет из положения Гриша Дралкин. Вот полуторка откатила в сторону, пришел в движение пропеллер, самолет начал разбег... что видела, что знала она в своем Босоногове? Вкалывала по хозяйству, крутилась как белка в колесе. А медучилище? Пока стипендии дождешься, с тоски подохнешь. Опасная, с отказавшим мотором посадка и быстрый взлет невредимого Дралкина распаляли интерес аэроклубовской жизни. Не понимая, как, зачем сорвалась она бежать за инструктором, восхищаясь Дралкиным, о котором только все и говорили, Лена проникалась верой в свою судьбу, в ее значимость. Тот, другой, способный, быть может, превзойти отважного комбрига, получал в ее ожиданиях черты неуловимого и вместе определенного сходства с инструктором... Как все это ему объяснить? Как выразить?
— Другие же летают, — сказала Лена.
— Тебе учиться надо. В какой-нито институт подать, получить хорошую специальность.
С первых полетов пойдя в ногу с напористым Сургиным, Лена решила для себя этот вопрос.
Выбрала специальность. Именно хорошую, по душе.
— Не женское это дело — летать, — хмуро сказал Дралкин и потупился, хорошо зная глупости, какие предстоит ему в ответ услышать.
— Я об этом думала.
— Думала!..
— В актрисы бы, например, я пошла.
— С твоими данными возьмут.
— Вы, товарищ инструктор, не в курсе дела, — мягко и досадливо заметила Лена. Скривив в натянутой улыбке рот, добавила: — Я же нефотогенична. Пока на паспорт снялась, намучилась.
— Это еще не показатель.
— Знакомый товарищ проверил на практике.
— Из этих... из театра?
— Необязательно... Хорошо, скажу: фотокорреспондент (зимой на полетах мелькнул корреспондент молодежной газеты в ботиночках и кашне).
— Сцена бы тебе пошла, — повторил Дралкин.
— Слуха нет, — отрезала Лена. — Обожаю вокальные номера, сама же петь не могу. Вот так! Все противопоказано. — Она снова коротко улыбнулась. — В среду едем во Фролы, прыгать с парашютом.
— Других вариантов нет?
— Говорю, продумано... Фотогеничность, слух... Я бы, конечно, не посмотрела, если бы сказали: талант! А так... Мне летать нравится. Сколько Женька Гарт получил провозных, пока схватил высоту семь метров?
— Полетов двадцать. И не схватил.
— Он хороший парень, Женька. Комсомолец хороший, отзывчивый... Вы сказали: «Бахарева, покажи мне высоту семь метров», — я показала, что такого? Семь метров и один метр — разница, ее видно.
— Одним она открыта, как на блюдечке, другим нет...
— Но мне-то она видна! — Лена поймала Дралкина на слове. — Вы на Гарта не кричите. Он не понимает, когда кричат...
— Бахарева! — произнес в своей манере Дралкин. — Белоручка он. Гарт, жизни не нюхал. «Почему занятия пропускал, не сдал зачета?» — спрашиваю. «Мы с папой ездили отдыхать в горы...» Видишь... Школьником в горах отдыхает, натрудился. А доску для звеньевого ларя не приколотит, топор в руках не держал... Небо чему учит? Думать быстро, соображать, сноровку же нужно иметь... Ты небось корову доила?
— Не было у нас коровы.
— Я к примеру... Доить умеешь?
— И доить и жать. И снопы вязать...
— Об чем речь. Птенцы сначала в гнездах учатся, потом летают, Бахарева, — с силой произнес инструктор, хотя они сидели рядом; он как бы вслушивался в звук ее фамилии. — «Не кричите, не понимает, нужен подход...» Все это подпорки, середняка тянуть. А вот является курсант, может, один из сотни, и понимаешь, что вся эта бухгалтерия гроша не стоит, только помех ему не чини, приглядывай, чтобы опара через край не вышла... Да, с талантом надо родиться.
— Актрисой я, наверно, не родилась.
— Война будет, — продолжал инструктор о своем, насупливая брови и отставляя недопитый стакан. — Я иной раз так рассуждаю: баба против мужика. На ринге, к примеру. В перчатках, при судье... Ведь не потянет баба против мужика, согласна?.. Воздушный бой не ринг, там смерть в глазах пляшет, мужик при виде смерти сатанеет. Что нашего в бою возьми, что другой нации. Зло лютует. Пощады от него не жди.
— Воевать не пойдут, — суховато сказала Лена.
— Пойдут... Да знаешь, не бабье дело — молотком махать, ты меня прости, титьки мешают. И удар нежесткий.
— Родину все должны защищать.
— Об том ли речь, Бахарева. — Дралкин хлопал себя по карманам, нащупывая спички. — Еще с кем посоветуйся... Подруги-то есть?
— Подруги все секреты разбалтывают. Ни одна язык не держит.
— Разбалтывать секреты — последнее дело. Сон хороший?
— Иногда ворочаюсь, не могу заснуть.
(Сбросить одеяло, померзнуть, потом тепло укрыться и заснуть... В другой раз она бы и этого от Дралкина не утаила, но не сейчас.)
— Выспись, отдохни. Чтобы завтра без настроений... Легкость, удовольствие, азарт, с которым учлет-девица без единой запинки шла от упражнения к упражнению, радовали инструктора и страшили. Опыт, пусть небольшой, открывал Дралкину чересполосицу бытия — то светлая у него полоса, то черная. То он ждет лейтенантских «кубарей» и мечтает о высоких отличиях, то совершает аварию и свистит из училища униженный и растерянный в звании ефрейтора (в личном деле осталась курсантская фотография Григория). До его зачисления в штат никто в аэроклубе летчика-ефрейтора в глаза не видел; летчики-сержанты (тоже новое, непривычное для слуха словосочетание, в котором слышались диссонанс, принижение престижной профессии), летчики-сержанты уже появлялись, ефрейтор же был один — Дралкин. Это звание, похожее на кличку, плюс уму непостижимый взлет, вынесший его вместо города на овраг и за порог военного училища, давили его, напоминая о молве, катившей следом, о мнении, за ним утвердившемся: инструктор Дралкин — отрезанный ломоть... Он боялся ошибиться в Бахаревой, переоценить ее, поддаться бродившему в нем нетерпению. Побывав в зубьях жестокого механизма, он хотел бы и других от него оградить... Яхт-клуб тем привлекал, что стоял на отшибе, был тихой заводью, туда, несколько чопорно, тянулись семьями, большинство составляли люди пожившие, не чуждые земных интересов, житейских радостей. Бухгалтер из поликлиники водников собирал после гонок любителей преферанса, зав. овощным складом, бывший балтиец, кроил цветные паруса и придумывал лодкам пиратские названия, яхтсмен-гитарист составил трио поклонников Изабеллы Юрьевой... Фигура здорового двадцатилетнего штатского парня не должна была производить там страдного впечатления, но тоска по училищу его не оставляла. Выхаживая паруса, он получал разрядку. А когда смуглоголовые отец и дочь, в одинаковых брезентовых робах похожие на брата и сестру, подстроившись под гитару, заводили на два голоса «Камин горит, огнем охваченный», Григорий вообще забывал все на свете... — что, кроме песни над рекой да паруса, нужно штатскому человеку, отрезанному ломтю, ефрейтору запаса?.. Непостижимый взлет увел Дралкина с притягательной для сверстников и почитаемой в народе жизненной орбиты, а Бахарева в нее вписалась... вписывается. Кто это объяснит: чем он не взял? Ноша ли ему не по плечу? Или не набрал еще в характере твердости и решимости? А может быть, рисковать в небе, служить образцом отваги — не его удел? Искать себя, не следуя общему поветрию, в авиацию идут, поскольку «в воздухе пахнет грозой», но еще необязательно, что война начнется завтра...
Однажды на бонах клуба он увидел Бахареву; он даже предположить не мог, чем вызван ее приход! Отлучения от авиации, это он испытал на собственной шкуре, производились, но чтобы кто-то от нее отрекся добровольно?! Бахарева шла по хлопающим мосткам, постреливая глазами вправо и влево, — умела Лена, не поднимая глаз, далеко, настильно глянуть. «Если она меня поддержит, — подумал он, заводя за бон свою быструю яхточку «Ш», — если она со мной заодно... Только с чего бы вдруг?..» Предстоял отборочный заезд, ответственный этап в борьбе за кубок... Он не понимал появления Бахаревой. «Один рядится под Чкалова, — раздраженно вспомнил он Сургина, — другая не прочь создать себе фоторекламу... До чего нетерпеливые ребята!» Тут он ошибся. Корреспондент молодежной газеты задумал фотоэтюд «Учлеты» и хотел, чтобы в кадре на фоне мотора и винта красовались Вольдка Сургин и Лена (на которую его навели учлеты инструктора Дралкина) и чтобы Сургин, вскинув ладонь козырьком, смотрел в иебо («мечтательно и целеустремленно»)» а субтильная Лена рядом с ним являла собою образ подруги-единомышленницы... «Дралкину этот маскарад не понравится, — тотчас рассудила Лена. — Бог знает что обо мне подумает...» Она отказалась позировать корреспонденту. «Ушибся? — хотела сказать Лена инструктору. — Дай подую», — как говорила мама, видя синяки и ссадинки на ногах бедовой доченьки. Не надо раздваиваться, хотела посоветовать инструктору Лена, обижаться на «ефрейтора Дралкина». Вы хороший, очень хороший инструктор, самый лучший в аэроклубе, хладнокровный летчик... Будет война, хотела она сказать, как все говорили и думали, вы на этой лодочке пойдете сражаться, что ли? Из всех доводов, обдуманных ею, это был самый сильный, неотразимый довод.
Чувствуя, как насторожен Дралкин, Лена учтиво осмотрела его яхточку «Ш», «шавку».
— Забавно, — сказала она вслух, — перекувыркнешься — да и бултых в воду... А я плавать не умею... Дралкин на ее слова не отозвался. В яхт-клубе Бахарева больше не появлялась.
— Ты ведь не в общежитии живешь? — спросил Дралкин.
— Нет, у своих, у тетки.
— В родном доме стены греют, — сказал инструктор. «Гришенька, сынок, — писала ему мать, — приезжай, до коей поры тебе по чужим углам мыкаться. Приезжай, ничего такого не думай...» — Чтобы завтра быть как стеклышко.
У тетки, где квартировала Лена, стены не грели. Тетка осуждала племянницу («Матери бы, Алевтине, лучше помогала, чем по городу мотаться. Алевтина, как с Бахарем связалась, вовсе жизни не видела») и за то, что выбрала медучилище («Там одних нехристей и учат!»), поносила Лениного отца, изображая в лицах, как он, пастух по кличке Бахарь, последний в Босоногове бедняк-активист, сбежал, испугавшись кулацкого восстания, бросил общественное стадо, Алевтину, бьющую на сносях, жалко прятался («Сидел в камышах, дрожал», — показывала тетка, раскидывая руки). А поутихло, нацепил на штык две краюхи хлеба и пошлепал, рот до ушей, к роженице с дочкой. Тут его из кустов и стрельнули.
Покоя в доме тетки не было, а напутствия Дралкина означали: быть готовой к самостоятельному вылету. Завтра. если не подведет погода (будет ясно, ветерок 2 — 3 м/сек). Если даст разрешение командир отряда (или начлет Старче). Если, наконец, не перебежит ей дорожку Володька Сургин (в день начала самостоятельных вылетов обычно выпускают одного курсанта, этот-то первенец и остается в красной строке выпуска, его-то и прославляют «боевые листки» и «молнии»...).
Весь разговор инструктора, начавшийся вопросом: «Куда ты рвешься, Бахарева?» — Лена поняла так, что Дралкин на последнем этапе склонен ее придержать. Хотя бы из мужской солидарности с Володькой Сургиным. Почему же еще? Других причин она не находила. «Заявилась, незваная, в яхт-клуб, — рассуждала Лена задним числом, — так надо было все ему выложить как есть... Смотря кому отдаст на проверку: командиру отряда или начлету? — Она все-таки не теряла надежды. — Лучше, конечно, командиру отряда...»
Ни единого замечаньица не сделал ей командир отряда, только однажды создалась между ними неловкость — мимолетная, памятная, как все житейское, контрастное неземной аэроклубовской сфере: она увидела командира отряда на рынке, с кошелкой в очереди за картошкой. Он отвернулся, будто не узнал ее или не заметил... У него и фамилия славная — Добролюбов. От Старче же можно ждать любых подвохов.
— ...Бахарева! — знакомо и неподражаемо, в своей манере воззвал к ней Дралкин, отходя от самолета, хлопая по карманам куртки в поисках спичек и взглядывая на тянувшуюся перед ним Елену открыто и весело, зная все, что произойдет дальше, и наперед этому радуясь. — Вопросов нет? Все ясно?
Она молча, кивком головы подтвердила, мол, да, какие вопросы? Все ясно.
Чиркнув спичкой, Дралкин затянулся, смакуя дымок, его брови сложились домиком, занимавшим всю верхнюю часть лица, глаза потемнели. Ей показалось, что после такой затяжки он заговорит с ней о чем-то другом, к полетам не относящемся, — так он на нее посмотрел.
— Пирожочек с полки — заслужила, твой! — оборвал себя Дралкин и пошел с докладом о ней — она это видела — к Добролюбову. Умный, милый Гриша Дралкин, верный друг!..
Начлет упредил намерения инструктора. Начлет с инструктором не посчитался. Или он ему не доверял?!
Начлет решил проверить курсанта Бахареву лично.
Ее доклад о готовности к зачетному полету звучал как лепет.
Старче нашел, однако, что он не беспомощен, и оборвал ее, внушительно напомнив:
— Аэродром — не лебединое озеро, лебединых танцев не исполнять! Полет по кругу! — и жестом указал ей на кабину.
Мягкий шлем сидел на Старче тыковкой, в воздухе он обходился поношенной фуражкой армейского образца, повернутой козырьком назад.
Как сел к Лене спиной, склонив голову набок, так и сидел не шевелясь, ничем себя не обнаруживая, только в зеркало заднего вида поглядывал. «Как сыч, — подумала Лена после первой посадки, рассматривая треснувший козырек его фуражки. — Или заснул?»
— Нельзя, Бахарева! — прогремел начлет, оборачиваясь. — Никуда не годится! «Он меня законопатит!»
— Отвлекающие помехи — бич, — продолжал начлет. — В воздухе так: чуть моргнешь — и сглотнут, не поморщатся... Волосы, волосы, говорю, подбери, ведь мешают, в глаза лезут!
С ловкостью обезьяны выхватила она у раскрывшего рот техника кусок белой киперной ленты, приготовленной для обмотки маслопровода, и так ловко, а главное, молниеносно прибрала выбившуюся прядь, затянула шлем.
— Другое дело, — сказал начлет, отворачиваясь. — Еще кружок.
После второй посадки Старче, ни слова ей не сказав, выбрался из кабины, подозвал к себе инструктора Дралкина.
— В авиации заднего хода нет, так? — прокричал он сквозь бульканье мотора. — Надо выпускать!..
«Выпускать!»
Они отошли в сторонку.
Лена, сидя в кабине, угадывала их разговор, заглушенный мотором, то, что говорил, в частности, стоявший к ней лицом Старче, по движению его губ: «Ее? Первой?» Или: «С нее? Начнем?» Дралкин сказал: «Почему бы нет? С нее!» Или что-то в этом роде. Определенно сказал. Начлет переспросил: «С бабы?!» Лучшего возражения быть не могло. И удивление в нем, для всех понятное, и сомнение, достаточно скрытое... Она упустила нить разговора, но решение Старче прочла по его губам безошибочно: «Сургин!..» Дралкин слушал его покорно.
...Так она оказалась второй после Володьки Сургина, второй из шестидесяти шести курсантов, молодых парней, еще школьников, студентов, самостоятельно шагнувших в небо, не знавших, какие купели им уготованы, счастливых своим выбором в тот безветренный мой сорок первого года. «Почему он вас недослушал?» — спросила Лена инструктора про своего недоброжелателя, Старче. Дралкин пожал плечами: «Здесь меня всерьез не принимают...» — «Но ведь это несправедливо!» — «А я долго-то не задержусь... Только они меня и видели...» — «Тоже неправильно!» — «Что неправильно, Бахарева? — морщил лоб Дралкин. — Начлет, видишь, как смотрит: девицы, говорит, идут вне зачета. Сургин, скажем, послабее тебя, но на него есть разнарядка. А ты невоеннообязанная, на тебя разнарядки нет», — он впервые говорил с ней без недомолвок, она чувствовала в нем своего единомышленника. Второе место, поняла Лена, победа. И чем пышнее хвала, воздаваемая ей на старте («Летящая по облакам» — называлась передовичка в «боевом листке»), тем жестче ее соперничество с сильным полом.
«Сегодня я, как он, — думала Лена о белозубом комбриге, ворочаясь на теткином сундучке, ожидая сна-предчувствия, которому она верила и от которого у нее захватывало дух. — Сегодня я ему ровня...»
...Год с небольшим спустя на северо-западе, под Старой Руссой, командир экипажа пикирующего бомбардировщика «ПЕ-2» сержант Григорий Дралкин прочел в «Комсомолке» заметку о «питомице уральского аэроклуба Е. Бахаревой», вступившей в бой против немецкого разведчика «Дорнье-215». Он долго пытался и все не мог представить себе, как учлет-девица, красневшая на разборах от его похвал, схватилась с четырьмя профессионалами люфтваффе, составлявшими экипаж «Доры». Он понимал, что должен, наверно, увидеть — или вообразить — ее другой, преобразившейся, ожесточенной огнем войны, но это ему не давалось. Как о чем-то совершенно несбыточном он впервые тогда подумал: «Хорошо бы встретить Елену...»
Увидав Баранова под Сталинградом в первые минуты пребывания на фронтовом аэродроме, Лена забыла комбрига, забыла Дралкина, забыла всех...
Слова Дралкина: «Баба против мужика...» — она помнила, часто к ним возвращалась, продолжая спор с инструктором, думая не так, как Дралкин, поступая вопреки его советам; когда Григорий, получив на весенней регате кубок, бросил аэроклуб, уехал, Лена заняла его место инструктора.
Но в первые минуты пребывания в Конной под впечатлением поединка она, ошеломленная, должна была признать: то, что сделал в бою Баранов, ей недоступно.
И — непосильно...
...Спешно выдвинутый в засаду на волжский берег, Михаил Баранов отлеживался, приходил в себя.
За близкой рекой гремело и ухало, шальные самолеты, петляя по низинкам, мели береговую гальку, терпкий запах мазута держался над степью — Баранов, казалось, ничего этого не видел и не слышал. «Поднимать в случае команды по радио «Атака!» и на обед», — наказал он, укладываясь под крылом своего «ЯКа» с тугим парашютом в головах.
Счастливая способность «замыкаться на массу», то есть засыпать молодым, здоровым, усталым сном, изменила ему после ранения: прикорнув, он постанывал, вздрагивал, часто пробуждался, — ночь накануне Михаил провел плохо. Венька Лубок ввалился среди ночи, пьяный, в женскую землянку, просил у Бахаревой прощения («Я под Обливской напортачил, я!..»), ничего не выпросил, опять загорланил: «Все про тебя знаю, все!.. Как в окопчике с тем сержантом, что на «горбатом» сесть не может, от бомбежки два часа пряталась — знаю!.. Еще кой-чего!..» Прибежавшего на шум старшего политрука обозвал «бабским заступником», «бабским комиссаром», с ним схватился: «А вам известно, что она молилась?!. Да, молилась в землянке, на коленях!.. Я днем вошел, а она — на коленях, в угол уставилась, пальцы щепоткой... а еще комсомолка!..» Старший политрук поднял Баранова: Венька Лубок — его летчик, с распущенностью надо кончать...
Усталость физическая не так тяготила Баранова, как изнуряла его в обстановке неравных боев необходимость постоянной внутренней собранности. И на Дону — в июле и в августе — гнет был велик, но какие-то просветы все же случались. Даже в дни боев за переправы, делая на Калач, на Вертячий по пять-шесть вылетов, он мог себе позволить вечером разрядку. С отходом авиачастей на левый берег Волги отдушин не оставалось. Чем тяжелее становилось городу, тем большее место занимал он в мыслях Баранова, разрастаясь в одну неотступную думу о нем. Досуга, как, например, это дежурство, выпадали и сейчас, но внутренне он весь был во власти горящего Сталинграда; понимая, что здесь стоять до последнего, сомневался в одном: хватит ли его, Баранова, на всю эту сечу. «У нас на Руси силу в пазухе носи» — воистину так. Не на виду, а в пазухе, расходуй бережливо, с толком, растраченное ворохами не соберешь крохами. Широко, приветливо улыбаясь в ответ на поздравления с одержанной в воздухе победой, Баранов чувствовал себя на пределе, ему казалось: все видят, как он опустошен последним боем над Конной...
— Миша, не спи, — теребил Баранова его напарник по засаде Амет-хан Султан, беспокойно бодрствовавший рядом, — Миша, я утром летал на Карповку... Ты тоже туда летал. — Амет ногтем водил по карте к западу от города. — Пять минут лета по прямой...
— Шесть, — уточнил Баранов, привстав.
— Согласен, шесть. Сказали; здесь фланги наших армий, да? Шестьдесят четвертой и шестьдесят второй. Прикройте фланги... Ты на земле что видел? — поднял на Михаила темные глаза Амет.
Впечатление замкнутости, скрытости, создаваемое смуглым, по восточному лекалу очерченным лицом Амета с удлиненным разрезом глаз, матовой припухлостью век и строгой линией рта, исчезало, когда на летчика находил стих общения. Случалось это не часто, но когда случалось, то признания бывали до дна. Распахивая свою душу, Амет освобождал ее от сомнений и тревог. Он уже излился Баранову в обидах, нанесенных ему командиром полка («Думал, таран его успокоит — нет! Почему, его не спросясь, назвали Амет-хана почетным гражданином Ярославля?..»), посвятил в неудачу своей ночной вылазки в Верхне-Погромное, где в батальоне связи находилась сейчас бровастенькая бодистка Дуся, — но главного сказано еще не было.
— Ты людей видел? — продолжал Амет-хан.
— Нет.
— Технику нашу?
Баранов молчал, косясь на карту.
— И я... Ни людей, ни техники... На юг и на север от Карповки, сколько могли видеть летчики, прочесывая степь, фронт был оголен.
— Ни одной арбы, — сказал Амет, не отводя пальца от беззащитного участка и глядя перед собой темными, утратившими обычную живость и быстроту глазами.
Правый берег Волги крутым обрывом темнел впереди, напоминая о близкой, не знающей устали воде, катившей свои валы и подмывавшей породы, спрессованные веками.
— Ни одной арбы, — подтвердил Баранов, невольно вторя акценту Амета.
Среди летчиков Амет-хан — единственный, пожалуй, кому Баранов мог бы довериться после Конной: какое у Амета чутье! «Амет, сзади «мессер»! «Мессер» в хвосте!» — «Смажет», — коротко отвечал Амет — соколиный глаз, все видя и, главное, безошибочно распознавая в немце торопыгу, который не сумеет удержаться в хвосте. И все дальнейшее подтверждало правоту Амета: так и не открыв прицельного огня, немец уходил, отваливал переворотом, сочтя за лучшее не связываться с этим русским... Кому, как не Амету, открыться после необъяснимо-скрытного — на чистом месте, из ничего — возникновения над Конной «МЕ-109»? Впервые, кажется, Баранов упустил тот предшествующий схватке миг, когда противник, изготовляясь, словно бы приоткрывает себя, свою выучку, свой класс... Дорогой секунды упреждения, которой и Амет так мастерски пользовался, Михаил в тот раз не получил. «Видит заклепки!» — ожгла его смертельная близость вдруг возникшего в хвосте немца, и он испытал мгновенный паралич воли, когда летчик, застигнутый врасплох, чувствует себя пойманным в прицел. Отказ на «мессере» оружия, пустые оружейные ленты — только это спасло Михаила. Дальнейшее истолкованию вообще не поддавалось. Что он сделал, как увернулся и сам настиг «худого», Баранов не вполне понимал. Спрашивать кого-то нелепо, однако победный результат не должен закрывать просчетов и ошибок. Победитель обязан первым их знать и помнить, иначе недолго ему ходить в победителях.
Спроваживая Баранова на дежурство, начальник разведки, случайный очевидец быстрого боя над Конной, рассказывал: «Сбитый немец выбросился и сразу раскрыл парашют. Технари, солдаты из БАО вперегонки за ним, в плен брать, а он, стервец, сам из пистолета двоих убрал, хорошо, автоматчики подоспели, врезали очередь по ногам... Матерый тип, двенадцатого года рождения. Такую бузу поднял! Боксер в прошлом...» — «Зубр, зубр, — подтвердил Баранов. — Ко мне подкрался, я и не видел...» — «Буян хороший... И небо проклинал и землю. Переводчица носик морщит, фу, какой майор матерщинник, раненый, а привстал, как я подошел, наши знаки различия знает... «Мой бой, — твердит, — мой бой, пропустил удар! Пропустил удар!» — вроде как с обидой, с протестом. «Хотите видеть летчика, который вас сбил?» — «Нет!» Наотрез, категорически. «Сталинград возьмем, тогда!» Как же, третья эскадра «Удет» клятву фюреру принесла поставить русских летчиков на колени... Был отмечен еще самим Удетом, так говорит. Лично отмечен. Дескать, такие мастера, как он, майор, позволяли инспектору ВВС Удету уверенно думать о будущем Германии, «а слов на ветер Эрнст Удет, безвременно от нас ушедший, не бросал...» Короче говоря, фрукт майор. И не дурак. Англичане для вас, говорит, то же, что для нас итальянцы, польза от них одинакова. Как нам, так и вам придется драться своими силами до конца... Сирота. Темнит, похоже. Пленные из семей, поднявшихся при Гитлере, прикидываются сиротами, а дворяне, те своего происхождения не скрывают. Версия майора: родители рано померли, воспитывался в Саксонии бабкой, владелицей скобяной лавки...
Сомнительный сирота был первым немцем, о котором Баранов мог судить не только по впечатлениям боя, но вот и по таким, скудноватым, конечно, деталям личного свойства. Каждый, с кем пересеклась короткая небесная дорожка, — загадка, тайна: сколь бы ни был мал отрезок сближающего их времени, отошедший в небытие, он оседает в памяти, живет, тревожит молниеносностью своего вторжения и нераскрытостью... В дреме, сморившей Баранова, майор предстал затянутым в блестящие ремни участником допроса. «Он?» — спрашивал майора чей-то судный голос, эхом отдаваясь в мрачных сводах. «Это есть он, — мстительно свидетельствовал майор, наслаждаясь ужасом в лице маленькой женщины, хоронившейся в темном углу. — Русский ас Параноф, спитой мной над местечко Лошади!..» — «Я тебя сбил, сука!» — вскинулся Баранов на прогретом брезенте...
Долго сидел удрученно, растерянно.
Возвращался к странному видению, всматривался в глубины, не имевшие дна.
Амет, конечно, лучший, единственный советчик на этот случай.
Что-то удерживало Баранова от откровенности.
Пыль, рыжая пыль на самолетных стоянках Конной...
Высоко вздымаясь, издалека видимая, она была сигналом, знаком для «мессеров», пасшихся в ожидании добычи неподалеку: «ИЛы» взлетают... Летчик на старте, пуская машину, ничего, кроме прямой, по которой он набирает скорость, не знает, ничего, кроме выдерживания, сохранения прямой, сделать не в состоянии, Скованный взлетом по рукам и ногам, он — идеальная для «мессера» мишень... Рыжая пыль служила «сто девятым» сигналом к нападению.
«Подстраховать!» — вот с чем кинулся Баранов в сторону Конной.
Никто его не требовал, но горючее в баках и боезапас позволяли, а беззащитность стартовых секунд взывала: встань на стражу, поддержи штурмовиков морально. Даже один «ЯК» над головой в такой момент многое значит... Командир шестерки «ИЛов», прожигая свечи, окутанный пылью, почему-то медлил с разбегом, Баранов, возможно, на него отвлекся и — зевнул «мессера»...
«Капитан Авдыш не поднялся, — сказал о ведущем начальник разведки. — Разбил «горбатого» на взлете. Команду принял летчик Гранов... Гранищев...» — «Из молодых? Знаю... Встречались однова... Солдат?» — «Сержант». — «Прозвище у него Солдат». — «Возможно»...
Вот теперь и подумай: ввязываться, подставлять себя, как в случае с майором, если тот, ради кого рискуешь, взлететь не может, бьет машину...Да...
— Амет, чего она дрейфит? — спросил Баранов, возвращаясь к Дусе, к ночному походу Амета в Верхне-Погромное. Дуся, по словам Амета, дежурила, отлучиться не могла, подмениться не хотела, разговаривала с ним, стоя в приоткрытых дверях аппаратной, задернутых маскировочным полотнищем, грудастая недотрога, смелым разлетом бровей смахивающая на самого Амета.
— Не понимаю! — вскинул руку Амет.
— В госпитале они, по-моему, другие, — сказал Баранов.
— Миша, год воюю, в госпиталь не попадал...
— В госпитале они ничего не боятся.
— Нет?
— Ничего!.. Мужики хнычут, стонут, водицы просят, судно, они в этом — с головой. Присядет, послушает, улыбнется... Бабьей жалостью живут, ею же другим помогают. Медсестры все из Орла. Белозубые, как на подбор, халатики тугие. В шесть утра градусники ставят. У молодого в шесть утра самый сон, я как потянулся со сна, так ее и поцеловал... Не обиделась!
— Дуся другая, — нетерпеливо прервал его Амет. — Черствая.
— Но ведь хотела, чтобы ты пришел? Ждала?
— Не понимаю! Как подменили...
— А договаривались?
— Не узнаю, другой человек. Совсем другой. Чересчур черствый. «Нет, нет, нет!» Я ее отпустил. «Иди! — сказал я. — Иди!»
— Такая здоровая деваха...
— Вот! — с укором и радостью показал Амет рукой выше себя, ему, как всем коротышкам, в женщинах нравился рост. — Знаешь, откуда? Ты ие поверить, — Амет медлил с признанием, желанным и трудным для его пылкого сердца. — Из Ярославля, — сказал он, стыдясь за Дусю.
Из Ярославля, где нынче в мае он таранил немецкий бомбардировщик «Ю-88», за что и был удостоен звания почетного гражданина старинного русского города.
— Немца трухнула Евдокия, — сказал Баранов догадливо и горько, призывая тем самым по ней не сокрушаться. — Боится, что немец сюда достанет, — развивал он свою догадку. Возникновение «мессера» в ясном небе над Конной, исход быстротекущей схватки, вообще тайны боя в отличие от дел житейских не поддавались таким быстрым, уверенным о них суждениям.
— Вынесла мне на прощание арбуз, — говорил Амет расстроенно. — «Угощайся, свеженький, на день рождения привезли, только что с бахчи...»
— Боится, что немец сюда достанет, — развивал свою догадку Михаил. — До левого берега, до Верхне-Погромного...
Лицо Амета помрачнело, в нем снова выступила замкнутость.
— Новенькую видел? — спросил Амет.
— Бахареву?
Михаил встретил новенькую, живя госпиталем, последним госпитальным утром, поцелуем с Ксаной и разлукой, его оглушившей, и к Елене, к ее мальчишеской фигурке, терявшейся в толпе летчиков и все-таки заметной, не приглядывался.
— Бахареву — слышал, — уклонился он от ответа. — «Ишачок», «ишачок», — верещит над целью, — прикрой хвостик!..»
Амет не улыбнулся.
— Боязно, Миша, — проговорил он тихо. Баранов слушал, глядя в планшет.
— Брать новенькую с собой на задание боязно, — повторил Амет.
...Баранова отозвали обратно в полк с еще большей спешностью, чем она была проявлена при создании засады.
Амет-хан остался дежурить один.
Почта, отыскавшая полк на левом берегу Волги, принесла Егошину два письмеца из дома и тугой пакет, отправитель которого обратного адреса не указал. Быстро пробежав обе весточки от Клавы в сунув их в планшет, чтобы потом перечитать еще раз, Егошин разорвал увесистый пакет. «Уважаемых товарищ майор, любезный Михаил Николаевич!» — прочел он, но тут раздался звонок комдива. Потом его затребовал «Ротор», штаб армии, потом на час была сдвинута, сокращена готовность, вновь к чтению писем Михаил Николаевич приступил не скоро; по горло занятый, он нет-нет да и вспоминал о пришедшей почте и предвкушал удовольствие, которое получит, перечитывая письма...
Только один человек мог обратиться к нему так старомодно: «любезный» — летчик Алексей Горов, сослуживец по Дальнему Востоку. Сразу после 22 июня Егошин перебросил звено Горова вплотную к границе. «Смотреть в оба! — напутствовал он старшего лейтенанта. — Смотреть в оба и — стоять, Горов. как подобает бойцу передового заслона!» В лице и в голосе Егошина, когда он это говорил, была растроганность. Любимчиков он не имел, но многие считали, что Горов — слабость Егошина, хотя Михаил Николаевич ни в чем ему не потакал, протекций не оказывал... Вообще он больше удивлялся Горову, а то и просто перед ним терялся. Становился в тупик. Выиграв спор за портсигар, заслужив своими посадками похвалу Хрюкина, Горов, когда инспекция отбыла, принес Егошину извинения. Слов, какие он говорил, Михаил Николаевич не помнил, но выражение лица и глаз летчика его поразило: Горов мучился, страдал оттого, что своим умением потеснил Егошина. «Перестаньте, Горов, — выговорил ему Михаил Николаевич. — Вас отметил инспектор, это в жизни военного — событие, которым нужно гордиться». — «Инспектор в Москве, а вы — здесь... Нехорошо...»
Однажды Клава, жена Егошииа, силком затащила Горова к ним в дом, на обед... Аппетитом Горов отличался волчьим, но, как говорится, не в коня корм. Метаморфоза, претерпеваемая обычно деревенскими парнями, когда они после существования впроголодь переходят на казенный армейский кошт, Горова не коснулась: питаясь по знаменитой пятой норме, он неизменно оставался худ и жилист. С пищей же Алексей расправлялся на особый манер, как бы вступая с ней в быстрые истребительные поединки. Отправив кусок мяса по назначению и плотно сомкнув твердый рот, он несколько секунд медлил, к чему-то прислушиваясь (может быть, это был акт смакования), лицо Горова сохраняло непроницаемое выражение; потом начинал работу его развитый жевательный аппарат, он беззвучно раздавливал, расплющивал, растирал мясо до составных волокон — только желваки вздувались, — а жесткий взгляд летчика был уже нацелен на очередную порцию... За домашним столом, в ароматах Клавиной кухни Горов разомлел, вспомнил свое детство в Поволжье, голод двадцать первого года. Рассказывал не торопясь, зримо — из расположенности к хозяевам. Как ели березовые сережки, кору деревьев. Лебеда, кончавшаяся с первыми морозами, была нарасхват. Мужики бросали дома, детей, бежали куда глаза глядят, мать Горова, умирая, хихикала — сошла от голода с ума... Немногих ребятишек из деревни спас продуктовый эшелон, отправленный в Самарскую губернию рабочими Болгарии. Эшелон прибыл, а вывезти хлеб из волостного центра было нечем, ни одной лошаденки не осталось, голодные бабы сами впрягались в салазки, ползли по снегу, едва дотянули. «Братушки помогли, — повторял Алексей слова, слышанные в детстве. — Спасибо братушкам...»
Страх голода, однажды пережитого, был в Горове неистребим, но то, чего Алексей лично не испытал или не знал, не видел и что тем более являлось достоянием других, привлекало, жадно его интересовало, становилось подчас предметом неподдельного, хотя и скрытого восхищения. Вырастая без матери, вне родительских забот, не зная дружбы сверстников, он с ранних лет привык полагаться во всем на себя, на собственные силы. Сам решал, как ему поступить, в одиночку оплакивал свои поражения, не находил, с кем поделиться радостью. И так же рано испытал Алексей потребность в ком-то, кому можно в мыслях изливать свои горести и беды, на кого можно переложить ношу ответственности, бремя решений. Избранником подростка становился то литературный герой, то реальный, то совершенно чужой, далекий человек. С годами эта потребность в Горове углубилась, сделавшись еще более скрытной. Сейчас кумиром Алексея был командир полка. В знак полной к нему расположенности он рассказал Егошину о письме младшего братишки, которому посчастливилось недавно повидать Москву. «Что меня поразило в столице, — процитировал Горов присланный ему отчет, — это белые волосы, короткие юбки и высокие каблуки... Прямо психоз!» Горов-старший, с детства мечтавший о Москве, воспроизводил текст увлеченно, как стихи. Наблюдательность братишки, живость и меткость его характеристик были выше всяких похвал. «Номер в гостинице дали с умывальником, — продолжал он. — Здесь же встретил живого писателя Мих. Зощенко, он остановился на нашем этаже. Объездил все станции метро. Некоторые из них зарисовал («Пл. рев.», «Красные ворота», «Динамо»)...
Из гостиницы смотрел парад физкультурников — от начала и до конца... Видел правительство», — с почтением и завистью воспроизвел Горов самое удивительное для него место и тихо закончил: «Но все-таки очень далеко. Они почти все были в белом...»
Дата: 22 мая 1941 г.
Клава, тоже детдомовка, тоже в Москве не бывавшая, шумно вздыхала, слушая Алексея, и все подкладывала ему да подкладывала...
Звено Горова, переброшенное по тревоге на полевую площадку близ границы, чтобы встретить и отразить возможную агрессию Японии, боевого союзника Гитлера, Его-шин навещал несколько раз. Высадили их там десантом, с гончаркой, двумя примусами, запасом продуктов. Все хозяйственные работы, от рытья сортирных ям до складских навесов, выполнены летчиками. «Где наша не пропадала! — говорил сержант Житников, новичок, летом прибывший из училища. — Старшина звонит: «Пришлите лошадь дрова возить!» — «Нет лошади!» — «Тогда двух курсантов!..» В нем была свежа курсантская готовность на любую работенку, он выступал там заводилой во всем. «Слегу круче, круче заводите, товарищ старший лейтенант, и — бросили! Тут она, наша, никуда не денется!» — «Эй, скажи-ка, дядя Влас, — весело командовал Житников, когда брали с земли какой-то груз артелью, — ты за нас иль мы за вас?..»
Всем подчиненным, осаждавшим командира рапортами об отправке на фронт, Егошин отвечал: «Я тоже ни в чем не провинился...» — но, перед тем как самому отбыть в действующую армию, навестил дежурное звено еще раз. «Надо, надо попрощаться, — говорила Клава. — Горов молится на тебя...» Под конец рабочего дня, напарившись в кабинах, гуртом отправились на озеро — обмыть грешные тела, отвести душу, разрядиться.
Первым ворвался на поросший высокой травой берег тот же Егор Житников. Быстро сбросил с себя одежду, взобрался на корягу, нависавшую над водой, сделал, ни на кого не глядя, разминку, начал прыжки. Прыжок — и, отряхиваясь, как собака, на корягу, прыжок — и на корягу. Каждый нырок исполнял по-новому; то спинкой, то ласточкой, то переломившись. Набор номеров имел богатый, какая-то ненасытность толкала сержанта. Когда же восемь добрых молодцев затеяли на плаву сражение, имитацию воздушного
боя — с выполнением перестроений, нырков, внезапных атак. Житников был вездесущ и неуловим. Набрав полные легкие воздуха и раздув щеки, он уходил под воду, выныривал дельфином за спиной «противника», обрушивал на него Ниагару, вопил: «Я по-самурайски, тихой сапой!..» Они старались перед Егошиным, отбывавшим на фронт, одной ногой стоявшим уже там, на заветной черте, куда обращены все их помыслы, — Михаил Николаевич понимал молодых летчиков, их желание предугадать себя в бою. «С такой энергией и бесшабашностью они пока что больше готовы для драчки на кулачках, для рукопашной», — думал он.
Горов плавать не умел.
В воду он сходил осторожно, по-бабьи охая, его худоба бросалась в глаза. Замочив пуп, стал бочком, стыдливо прикрываясь от брызг ладошкой и глядя на верховода Житникова с покорностью, детской доверчивостью, больше всего страдая от того жалкого впечатления, которое он, не умеющий плавать, производит на майора Егошина...
«Кого он сейчас боготворит?» — думал Егошин, приступая наконец к письму, вспоминая тепло, сердечную расположенность, которые он испытывал к Алексею Горову, когда в иерархии ценностей летчика первое место отводилось ему, Егошину...
Передав от общих знакомых поклоны и приветы, Горов сообщал, «как обрадовались все наши за товарища майора Егошина, прочитав о нем в сводке Совинформбюро», и просил навести справки насчет старшего лейтенанта Баранова... У нас в училище был один Баранов, худенький, краснощекий, имени его не помню... тот Баранов прибыл, когда я находился на выпуске, ждал пошивки лейтенантского костюма, «через день на ремень», ходил в наряд пом. кар. нача... Соня он был хороший, тот Баранов, если припомнить. На пост его не добудишься. Да и на занятиях, рассказывали, отличался. Преподаватель в середине урока напишет на доске: «Тов. курсанты, кто не спит, — сидите» — и громко скомандует: «Встать!» Баранов первым вскакивал... В караульном помещении мы разговорились насчет женского пола, поэтому запомнил. У меня была фотография с надписью химическим карандашом: «Вспоминай порою, если того стою». Баранов, поглядев на снимок, сказал: «На артистку похожа». Так ему показалось. «Похожа, похожа», — говорил он уверенно. «У тебя есть?» — спросил я, имея в виду фотокарточку. «Была, — ответил Баранов и усмехнулся. — Ждать они не любят». — «Не все!» — «Не любят — все...
Одни терпят, как-то держатся, другие нет». Салажонок-подчасок, чтобы меня, выпускника, наставлять, а я почему-то Баранову поверил... «Проверено на практике, имей в виду...» — сказал он. Теперь «Красная звезда» напечатала: «Бесстрашный воздушный боец Баранов сбил фашистского пирата с иммельмана». Как это понять? Как вести поимку врага в прицел, если он — сзади тебя и выше? Как сойтись с ним, не забывая собственного беззащитного хвоста и брюха, ведомых, других самолетов на секущихся орбитах воздушного боя?! И неужели это тот, наш краснощекий Баранов?..»
Очередной звонок комдива застал майора на последних строках письма:
— Ночью надо ждать на старте «самого»!
«Сам» — это Хрюкин.
«Вот где наши резервы, — думал Егошин, выходя на проверку ночного старта, — на Востоке. Но их не тронут...»
В том, кто нынче кумир дальневосточника Горова, сомнений быть не могло, — Михаил Баранов.
...Танковые клинья врага, сидевшие у него в печенках, Хрюкин именовал не иначе как по-немецки: «панцеркайль» — расхожие словечки испанской ли, французской или китайской речи он схватывал на лету. Склоняя длинное туловище над низко разостланной картой с разведданными из района Вертячего, он приговаривал: «Панцеркайль», что звучало как ругательство или как заклятье от наваждения.
Генерал Новиков выехал, доложили ему. «Когда ждать?» — «Минут через сорок». Хрюкин, находясь у штаба на виду, умел вдруг исчезнуть и так же внезапно появиться. Куда он исчезал, знали немногие, когда появится, не знал никто. Извещенный о генерале Новикове, он исчез. На полчаса, знали в штабе. Нырнул, юркнул в свою «кузню», как называл он глухой, без окон, закуток. Полчаса — наедине с «бухгалтерией». С цифрами, сводками наличного состава и движения частей... Штурман Ваня Сухов, летавший с ним в одном экипаже в Китае, прозвал своего командира «tiefer Вшппеп», глубокий колодец — за умение молчать, держать язык за зубами, хранить тайну; круг лиц, допущенных Хрюкиным к сводкам, был узок, всю «бухгалтерию» своей армии генерал держал в голове, обмозговывал ее и балансировал, где бы ни находился, чем бы ни был занят. Станичная кузня, где он пятнадцати лет от роду ворочал и отбивал поковки, дышала жаром и звоном; сталинградский закуток был темным, сумрачным, душным, и ворочал он цифрами, но «бухгалтерия», его ноша, требовала недюжинных сил, — что там станичная кузня!..
В июле армия пополнилась двадцатью двумя авиационными полками, а исключил командарм из боевого состава, отправил на переформирование в ЗАПы — восемнадцать; в августе принял тридцать полков, а вывел в тыл двадцать восемь (не полков, разумеется, а единиц боевого учета, представляемых войсковым номером, боевым знаменем, начальником штаба и горсткой техников...). Итого в остатке — шесть полков...
Кроме цифр, в «бухгалтерию», его святая святых, хранилище надежд, куда не то что посторонним, самому заглядывать страшновато, вплетались факты, связанные с цифрами, далекие от них и неотделимые. Генерала Новикова, командующего ВВС, Хрюкин знал по Белоруссии, по финской, по осажденному Ленинграду; знал издалека, шапочно, и только в последнюю встречу, перед тем как войти в его кабинет, узнал Тимофей Тимофеевич, что Новиков — из семьи учителя и сам в прошлом учитель...
Первого в кубанской станице учителя Тимофей увидел восьми лет от роду: в сатиновой косоворотке, длинноволосый, тот направлялся на уроки, а Тимофей, не смея перечить последнему слову матери, — к Верстакам, наниматься в батраки. Восьми лет он учителя увидел, a голос его, подобный божескому, впервые услышал в шестнадцать. И первую книгу, неизреченной мудрости «Букварь», раскрыл в шестнадцать лет, исколесив с ватагой беспризорников весь юг от Геленджика до Воронежа и обратно, пройдя с рыболовецкой артелью морскую путину, отработав грузчиком в порту и молотобойцем — в сельской кузне. Восьми лет, отнятых у детства, матери, бросившей его, не простил, перед словом «учитель» благоговел...
Да, из московских встреч в особняке, где размещался Главный штаб ВВС, больше всего памятны Тимофею Тимофеевичу две: с Новиковым и Рычаговым...
...За год до войны в кабинете начальника ВВС Павел Рычагов, молодой хозяин кабинета, собрат по Испании, придержал Хрюкина после совещания, бросив вдогон, в спину: «Кино смотрел», — дескать, задержись, инспектор, к тебе обращаюсь... Экранных симпатий Рычагова он не знал, да, собственно, и не интересовался ими: все, что ему открывалось с момента появления Рычагова в Москве, в Главном штабе ВВС, накладывалось на впечатление первой встречи, не меняя его, а только дополняя и углубляя, — первой встречи Хрюкина с Рычаговым на пыльном, в красной щебенке и извести парапете «телефоника», мадридского здания-башни, служившего защитникам города фронтовым НП. В тот день эскадрилья Рычагова, отражая налет «фиатов» и «хейнкелей», сорвала бомбовый удар мятежников по Университетскому городку; Рычагов сам свалил «хейнкеля», но и его сбили, он выбросился с парашютом, опустился на бульваре Кастельяно, что в центре города, восторженная толпа подхватила его и понесла...
И вот он, Пабло Паланкар, как звали Рычагова в Испании, стоял на гранитных ступенях «телефоника», первый летчик из пекла боя, которого видел Хрюкин. С непокрытой головой, подфутболивая рассыпающийся шелковый ком парашюта, путаясь в стропах... Толпа не расходилась. На него глазели, щупали его меховую безрукавку, синий джемперок, его порывисто целовали, оставляя на щеках алые пятна помады. Воздушный бой отгремел, откатился, не оставив в небе следа, на окраине города гремела канонада, и летчик-герой был единственным, кто мог знать, что происходит. Смущенно вытирая помаду, улыбкой отзываясь на выкрики и приветствия, Рычагов, похоже, улавливал в энтузиазме окружавших его людей немой вопрос, который больше, важнее успеха его эскадрильи, — судьба республики, судьба свободы висела на волоске... «Но пасаран!.. Но пасаран!» — салютовал Рычагов толпе, путаясь в шелке, удивленно взглядывая на крыши, карнизы, балконы, мимо которых его пронесло, — не зацепился, не свернул шею, шлепнулся на осенний газон... Его вскинутая в салюте рука сделала жест неподдельной досады, относящейся, быть может, к шелковым путам в ногах, но продиктованной исходом, результатом боя, тем, что он хотя и цел, но повержен... а мог бы, мог удержаться!..
«Кино смотрел!» — как понял негромкое обращение в спину Хрюкин — повод, призыв к неофициальному общению. О чем? Приверженность Рычагова авиации была глубокой и беспримесной; розыгрыш личного приза за лучшую посадку Хрюкин, кстати сказать, перенял от него. Киноактрисами Рычагов не увлекался: вопреки веянию, захватившему некоторых военных, он в непредсказуемых делах сердечных оставался на стороне авиации, его жена Мария Нестеренко была военной летчицей, командовала в истребительном полку звеном, о чем не без гордости уведомил своих сослуживцев по Главному штабу ВВС Паша (его предшественников на высоком посту именовали суховато: «Товарищ командарм второго ранга», «Товарищ комкор», иногда смягчали обращение кличкой, полученной в Испании: «Товарищ Дуглас»; Рычагова, почти сверстника, вчерашнего комэска, своего, называли в кулуарах по-свойски: «Паша»), — накануне командир звена Мария Нестеренко проверялась в «зоне», и вполне естественно было желание Паши знать, не отразился ли на технике пилотирования Марии перерыв, вызванный переездом с Дальнего Востока (Рычагова взяли в Москву с Дальнего Востока). Или он хотел продолжить разговор, начатый на совещании?
Противник затяжных, терявших военную четкость обсуждений, Рычагов сам же их частенько создавал, выпуская джинна из бутылки. Так случилось с докладом «Современная фаза воздушной битвы за Англию». Обсуждались тенденции «новой войны», получавшие по ходу событий отчетливый, законченный вид, в частности массирование авиационных средств, во внушительных масштабах осуществляемое немцами. О наших возможностях речь впрямую не шла, однако сопоставления напрашивались, несколько вопросов Рычагова переводили проблему в плоскость практических решений...
Майор-адъютант, стоя в дверях, почтительно пропускал выходивших из кабинета участников затянувшегося совещания; дверь перед Хрюкиным он прикрыл бесшумно и плотно. «Собачий слух, — подумал Хрюкин о майоре. — Все слышит».
Они остались вдвоем.
Киношка, просмотренная в воскресенье на даче, была так себе; Рычагова задел за живое с симпатией поданный персонаж, заявивший: «Если потребуется, я ради революции рожать буду!» Склонив голову и щуря глаз. Рычагов не дождался, как отзовется на реплику доброго молодца Хрюкин. «Теперь мне говорят: роди сто полков! — глуховато сказал он. — Сто шесть, точнее. Тимофей, ты летчик, инспектор. Знаешь кадры, реальные сроки обучения... Полноценный летчик созревает, как яблочко, скороспелки да гнилушки в нашем деле... Но допустим, нажмем. Дадим форсаж на всю защелку. При самых бешеных темпах за год не управимся... Слушать не хотят! Чтобы завтра были, и баста! Вынь да положь».
Хрюкин знал: Рычагов умеет не согласиться. Умеет безбоязненно, компетентно возразить наркому, если их взгляды на предмет не сходятся. Рычагов, например, посчитал необходимым подготовить для руководящего состава ВВС доклад «Действия авиации по уничтожению крупных механизированных соединений, прорвавшихся в глубину нашей территории» и лично с этим докладом выступить. «Нас могут не понять», — сказал ему нарком. «Нам могут не простить, если мы не будем к этому готовы», — ответил Рычагов.
Правильно ответил, считал Хрюкин, ему импонировали склад мышления, манера молодого начальника ВВС держать себя.
Полученная Рычаговым вместе с кабинетом проблема ста полков дискуссии не подлежала, она нуждалась в решении с участием многих звеньев государственного механизма — планирующих, промышленных, учебных...
«Революция требует, — говорил Рычагов, — а я родить не могу, хоть ты меня убей... Это одна сторона. Другая: без ста новых полков, понятное дело, господства в воздухе мы не получим...» Он смолк, глядя на Хрюкина потемневшими от напряжения глазами. «Слух у адъютанта нормальный, — понял Хрюкин. — Знал, что Рычагов будет советоваться. Не со мной первым... Принял должность, нуждается в совете...»
«Сюда, — Рычагов приложил руку к геройской звезде, — дали. Сюда, — он коснулся петлиц генерал-лейтенанта авиации, — дали... А сюда?! — поднес он щепоткой сложенные пальцы ко лбу, поджал губы, вопросительно округлил глаз. — Сюда мне кто-нибудь добавит?.. — с беспощадностью истребителя, казнившего себя на парапете «телефоника», воскликнул Рычагов. — Чтобы я знал, где выход из положения?!»
...«Tiefer Brunnen», глубокий колодец, Хрюкин никого не посвятил в этот разговор. В себе, как свою, хранил доверенную ему боль, смятение, а здесь, в Сталинграде, где с удесятеренной силой сказывалось все, что не успели сделать, собрать до войны и потеряли в первые ее месяцы, он на себе чувствовал ношу, пригибавшую Павла Рычагова. Не сострадал ему, не сочувствовал — самого бы кто поддержал пониманием...
«Новиков меня поймет, — думал Хрюкин, появляясь на крыльце, чтобы встретить командующего ВВС. — Он меня поддержит...»
Зная, что Новиков старше годами, должностью, званием, окончил академию Фрунзе и что спрос будет суровым, Хрюкин помнил в нем учителя, и если робел предстоящих объяснений, то больше по этой причине...
Гранищев испугался, когда увидел кровь.
Он тронул бок, плечо, с брезгливой опаской посмотрел на пальцы — они были сухи... Алые брызги окропили желтый пульт под локтем, как с кисточки. «Истек кровью, потерял сознание», — говорят на земле, когда летчик разбивается, не дотянув до дома.
Вот она, кровь...
Наружный воздух, просачиваясь сквозь щели, растирал сочные брызги, рисовал темные, быстро просыхавшие бороздки.
Замирая сердцем, как новичок, Гранищев промерил взглядом пропасть за бортом... Семьсот — восемьсот метров. Жутью пахнула на него светлая бездна.
Далека МТФ, далека мельница, видная отовсюду, как маяк.
Самолет грузнеет, в руках усталость.
Он тянул на восток один, не зная, кто в группе сбит, кто уцелел; помнил горб капитанской машины; блеклые на утреннем солнце трассы скрещивались и расходились, хвосты «ИЛов» вздымались, оседали, елозили — каждый отбивался от «мессеров». Как мог, — черные разрывы, сгущаясь и стервенея, указывали на близость Обливской, немецкого аэродрома; не упуская ведущего из виду, он ахнул вслед за ним свои «сотки», вспух, облегченный, взял в свою сторону — не по компасу, чутьем, на солнце, «курс девяносто» он брал уверенно...
Не успел порадоваться избавлению от огня, сообразить, кто где, — капли крови бросились ему в глаза.
Кабина, прибранная перед вылетом, вроде бы не поврежденная, тоже изменилась: по ней гуляет пыль, парашют, его седалище, сдвинулся, триммер бездействует.
Кровь сочится, силы тают...
Вымахнуть с парашютом?
Но внизу — немцы.
Тянуть,тянуть к своим!
Далека Волга, рука немеет.
Он локтем подправил планшет, плечевой ремешок планшета ослаб, упал на колени.
Нижним неотчетливым зрением он рассмотрел ремешок, примерился к нему. Великоват. Слишком длинен, узел долго не схватывался. Изловчившись, накинул ремешковую петлю на ручку управления. Связал себя с нею, как монтер с телеграфным столбом. Уперся ногами в педали — монтер, но без «кошек», — откинулся корпусом назад, ремешок натянулся. Он сильнее напряг спину, какую-то тяжесть с руки, державшей штурвал, сняло.
«Взнуздал «горбатого», — подумал Гранищев. — Связал себя с «ИЛом» одной веревочкой». В летном училище подсобного транспорта мало, курсантов много, взвалили курсанту Гранищеву на спину четырехпудовый бензобак — тащи, Солдат! (Прозвище Гранищев получил — Солдат.) По рыхлому снегу, шатаясь и увязая, поволок Солдат бензобак в ангар. «Умаялся, поди, лица не видно, — встретил его старшина. — Бензобаку в ангаре не место, давай обратно. Давай, давай, крестец у мужика должен быть твердый...»
Твердел крестец Солдата...
«А дотяну, — подумал Гранищев, ободренный своим приспособлением-постромкой, — появлюсь на МТФ... в окопчике, где сладко обмер от жара собственной крови... притопаю, на стоянке — сомнения, как в прошлый раз: капитан ранен, старший лейтенант сбит, а сержант-колобок явился! Самолет измочален, сам невредим — как? Почему?»
Кто знает...
Он увидел внизу лошадей.
Табун, сильно пыля, тянулся за вожаком, пересекая путь самолета.
Крепыш, вылитый Крепыш, и родом донец, воздал он должное ходу жеребца. Родные, наезжавшие к ним из деревни, летом — телегами, зимой — на санях, наполняли дом новостями, уже не имевшими для Гранищевых, казалось бы, прежнего значения, поскольку Пол-Заозерье было брошено ими безвозвратно, но после каждого наезда земляков и мать и отец подолгу не успокаивались, обсуждая последние деревенские события. Донец Крепыш, гордость конефермы, занимал в их разговорах одно из первых мест, споры о нем не утихали. Причина, собственно, была не в Крепыше, а в распре, с незапамятных времен шедшей между Селябой, окраиной Пол-Заозерья, где селилась и строилась плодовитая материнская родня, «карпята», по имени основателя рода Карпа, и Церковным Угором, где поставил свой первый сруб другой первожитель Пол-Заозерья, Исай, давший начало отцовской ветви, «исаятам». Рано выпорхнув из родного гнезда, Павел так и не дознался причины вековечной вражды «карпят» и «исаят», да вряд ли и поддавалась она какому-то одному истолкованию, как и многое в далеком от нас прошлом... Крепыш являлся пунктом, по которому покладистый отец матери не уступал, а Павел, подсаженный однажды отцом на теплый шелковистый круп жеребца и проделавший на нем полкруга по двору конефермы, держал сторону отца...
...Вожак во главе табуна рухнул, как от подсечки. Быстрая тень скользнула по живому завалу, и внизу, в стороне, Гранищев увидел узкую, щучьей раскраски спину «мессера»; хищно воспарив над жертвой, немец уходил к своим, на запад.
«Пронесет!» — обомлел Гранищев. Не шевелясь, он ждал, чтобы немец, упившись торжеством над животным, скрылся.
Ничего не изменилось, все сделалось вокруг другим.
Павел провожал глазами тупокрылый самолет, творя губами подобие молитвы: убирайся, немец. Уходи. Улепетывай...
Слюдяной луч солнца сверкнул в острых гранях чужой кабины. Тусклый, бритвенно тонкий «мессер», будто почуяв присутствие беззащитного «ИЛа», развернулся, обнаружил «горбатого», кинулся за ним вдогон...
Метнуться на подбитом «ИЛе» в сторону Гранищев не мог, укрыться было некуда.
Нагоняя «горбатого», немец подзадирал нос, гасил скорость своей машины. Превосходство в скорости ему мешало, точнее, создавало некоторое неудобство: прицеливаться, вести огонь в воздухе сподручнее на равных скоростях. Немец выпустил шасси, два колеса на спичечных ножках. Шасси — как тормоза, съедят излишек, сблизят скорости «сто девятого» и «ИЛа»...
Опытен, сука!
Свободный охотник.
Горючего с запасом, снарядов вдосталь...
Глазаст.
«Меня углядел, когда я и не думал...»
Гранищев вдавливался в бронеплиту, ожидая трассы... «Медлит с огнем, тянет».
«Мессер», не сделав выстрела, аккуратно к нему подстроился, всплыл рядом, крыло к крылу.
Создалась близость — неправдоподобная и вместе безопасная.
За промытым стеклом кабины — оранжевое пятно шапочки-сетки, надвинутой низко на лоб, на самые брови, розовато-белесое, маленькое лицо.
Медленно проходя вдоль левого борта «горбатого» — скорость выше — и видя, наверное, как он исхлестан, догадываясь, возможно, что он плохо управляем, что триммер бездействует, немец слегка растянул рот и выставил два пальца, разведенные буквой «у». «Zwei!» — прожестикулировал он, помогая себе губами: «Zwei!»
«Делаю два захода», — понял его Гранищев, натягивая спиной поводок, чтобы самолет не клюнул. Или: «Даю тебе два захода...»
Первый — пробный, для пристрелки. Второй...
Не дожидаясь, как русский отзовется на уведомление, «мессер» отвалил, показав свой узкий, без моторной копоти и подтеков масла живот. Скорый уход с быстрым уменьшением в размерах...
Торопится — азарт, лихорадка удачи...
То знакомое летчику возбуждение, когда в каждой клеточке тела легкость и как бы слитность с машиной, отвечающей на мановение пальца... Да, так он ушел, забираясь ему в хвост, чтобы издалека начать расчетливый, прицельный гон...
«И нет тех «ЯКов», — оглядываясь вокруг обеспокоенно и жестко, Павел вспомнил истребителей, так резво игравших над базой, над МТФ. Не раз пробиваясь к Обливской без прикрытия, он притерпелся к их отсутствию. «Солдат сам себе голова...» Августовская косовица в небе, которую вел хозяин сталинградского клина — четвертый воздушный флот Рихтгофена, создавала «мессеробоязнь», каждая тучка, птичка на горизонте грозили обернуться сворой псов-истребителей, рвущих друг у друга из пасти лакомую кость, одноместного «горбатого», и надеяться, кроме как на себя, было не на кого. Никаких иллюзий на этот счет у Павла не оставалось.
Сочные алые пятна изредка садились на пульт, но голова сохраняла ясность, все происходящее за бортом он примечал так зорко, как перемены внутри кабины.
К лужице водопоя, сверкнувшей по курсу, брели коровы. Светка, почудилось ему, покачивая опущенной головой, тесня соседок пышными боками, выбивается из ревущего на вечерней деревенской улице стада, подавая своим хозяевам знак, дескать, видит их, дальше родных ворот не уйдет.
«Земля — наша, небо — чужое...»
«Земля — наша, небо — чужое, — сказала Лена, когда бомбежка кончилась, отряхиваясь в узкой, по грудь отрытой щели. — А я купаться собиралась, представляешь?» — «Я купался, — ответил он, как будто это было важно. — На том берегу. Ездили на озеро...» Он смахнул с ее комбинезона глину. В тесном окопчике за капонирами они были вдвоем. «Я — из Анисовки... Ты?» После налета, впервые пережитого, ей, невредимой, море было по колено. «Не знаю Анисовки... Анисовка мне не попадалась...» — «Мы с вами вместе не служили, — улыбалась Лена. — Она же не здесь, она же под Саратовом! А с техсоставом нашим что, с девчатами! — оживленно говорила она. — Мы ведь своим ходом шли, на «ЯКах», а их, наших технарочек, погрузили на «СБ»... — «В бомболюки?» — «Представляешь? Набили, как сельдей... Половину укачало, все пилотки перепачкали, не успели ступить на землю — бомбежка. Их давай кулями в щель кидать... Милое дело...» Поджав губы, она покачала головой. «А тебя — финишером? — вспомнил он свой прилет на МТФ, как гоняла она его при заруливании. — «Маленьких» влево, «горбатых» вправо?.. Такая работа?» — «Не пускают, — подтвердила она. — После Обливской объявили запрет». После Обливской! Значит, она прикрывала их в тот раз. Пара «ЯКов», с таким трудом Егошиным заполученная и на подходе к цели куда-то пропавшая... Он сделал вид, что слово «Обливская» не расслышал. Не спугнуть ее, против себя не настроить. «Правильно», — сказал он твердо. Ей бы одно — не предстать перед другими трусихой. Что угодно, только не это... То есть о войне, о бое никакого понятия. Но его посадки на МТФ видела. Как гонял его майор Егошин, знает. Самое-то страшное, когда случается не то, чего ждешь, — вот когда все проверяется, когда вся середка наружу... Он, Гранищев, внешне мало меняется, разве что худеет. Да лупится на солнце, малиново сияет его вздернутый, в легких оспинках нос, объясняющий вместе с шалыми, небесного цвета глазами и прямой линией доброго рта курсантскую кличку. Солдат. Внешне... А душа его кровоточит. Нет живого места на ней.
Каждый вылет на подступах к Волге потрясает Солдата, и новые рубцы и метины рядом с тем, июльским, саднят душу...
«Земля — наша, небо — чужое»... Встревоженное лицо, румянец предчувствий. «Наша земля», — подтвердил он глухо, не шевелясь, расправив плечи; пальцы его опущенных рук дрожали, и все, что он говорил — грубовато, невпопад — от ее дурманящей близости, от гула крови в ушах. Вспомнил Морозовскую. «Думал, все, каюк, а видишь, тебя встретил...» Обеспокоенная теснотой окопа, его лицом, она молчала. «Где Райка, где все?» — процитировал он зачем-то из «Цирка». Сощуренные, поднятые на него глаза непроницаемы; он, чувствуя ненужность слов, продолжал: «Однажды летом» «У самого синего моря» сидели «Подруги», к ним подошли «Веселые ребята» и сказали: «Мы — из Кронштадта»...» — «Паша, — она улыбнулась, вспомнив свою первую ночь в казарме — спали на полу, на голых матрацах. Двери без запора, боялись раздеться; она улыбнулась своим тогдашним страхам, прервав его, улыбка вышла принужденной. — Сейчас здесь спим, — и придавила сапожком моторный чехол, устилавший дно окопа. — Свежий воздух... Растянешься, в небе звезды плывут... У тебя две белые точки в глазах. Не знаешь? У всех одна, у тебя две... я открыла...»
Пальцы его опущенных рук дрожали, он не смел, боялся ими шевельнуть.
«И небо — наше», — тянул на себя уздечку, напрягал мокрую между лопаток спину Гранищев, не позволяя «ИЛу» завалиться, затылком чуя приближение «мессера». «Как сына вели на расстрел», — хрипел он, сильно кося глазами вбок, ожидая беззвучного лета жаркой трассы... Всегдашний «хвостовик», бессменный замыкающий, — куда еще ставить сержанта, как не в хвост, если наскребается группа из лейтенантов да капитанов? — Гранищев первым принимал и первым же должен был парировать удары нахрапистых «мессеров» сзади, — только сзади! — собственной шкурой постигая излюбленные ими приемы и уловки... А сколько хлебал он горя, сколько скопил в душе злобы и боли, видя чуть ли не в каждом бою, как цепенеют, застывают охваченные ужасом «мессеробоязни» новички, и прут, не шелохнувшись, напрямую... либо судорожно, беспомощно сучат ногами. Чужие драмы терзали его по ночам, как свои, власть их над летчиком была велика...
Опыт предостерегал Гранищева против губительного ухода от «мессера» по прямой, а подбитый, плохо ему повиновавшийся «ИЛ» и собственная немощь лишали возможности размашистого, энергичного, как при лыжном слаломе, маневра. Чтобы не подставлять себя, он подскальзывал в сторону от «мессера» — едва-едва, на сантиметры. Вся его надежда была в скрытности, неуловимости этого смещения. Звон раздался в его ушах, дрожь сотрясла машину. «Врезал!» — он не понял — куда, вслед за гулким, как по воде, ударом ждал сбоя, обрыва в моторе, его наполненный, неизменившийся тембр отозвался в нем коротко: «Жив!»
Оранжевая ермолка в поле его зрения продвинулась вперед. Оранжевый, низко надвинутый на глаза колпак. В быстром, попутном с «ИЛом» движении немец показал ему кулак с отставленным, выгнутым назад большим пальцем. Хвала? Выдержал атаку на большой?
Издевка... Горькая издевка: его тайное, скрытое скольжение, попытка создать впечатление, внушить, будто «ИЛ» неуправляем, будто он чушка, мишень, — эта хитрость разгадана, раскрыта, и теперь, во второй обещанный заход, немец внесет поправку...
.. .Погрузилась ли в дрему открытая за капонирами на все стороны степь — ни оврага, ни белеющих известью угоров, — или же все отступило, отодвинулось от них, замерло в ожидании, и оба они, оглушенные друг другом, слышали только друг друга...
Болью, тоской, бесконечной тоской отозвался в Павле тот редкий час над Заволжьем, отходившим к ночи, — так и не решился, не посмел, не собрался с духом...
Сквозняк, ворвавшийся в кабину, предостерег: «ИЛ» качается, может грохнуться...
Павел выровнял самолет, укротил осязаемые мокрым от пота и крови лицом поднявшиеся в кабине завихрения воздуха — «ИЛ» пошел юзом или стал проседать — удивляясь собственной прыти перед развязкой, перед концом; обшарпанный фюзеляж «мессера», дюралевые нашлепки на нем, хвостовое колесико, уменьшаясь, скрывались из виду, когда на сходящем на нет обводе чужого крыла Павел разглядел нитяной разрез щели...
«А, «африканец»! — уличил немца, раскусил его Гранищев. — Ас из армии Роммеля! Спохватился, завилял хвостом!»
Конечно же это они, «африканцы», прибыв под Сталинград, могли щеголять в таких плетенках-сеточках вместо громоздких, жарких для Сахары шлемофонов.
«Я тебя сразу раскусил, «африканец»!»
Не сразу.
И не в «африканце» суть.
Близость немца, главное, необычность, размеренность, поэтапность затеянного им преследования без ставки на одноразовую убойную атаку выявляли нечто новое в отлаженном механизме истребления. Сержант-«хвостовик», испивший в схватках с «МЕ-109» чашу страданий до дна, улавливал перемену нутром, не зная Туниса, Афин, Бухареста, где отведенные на зимние квартиры летчики люфтваффе упивались отчетами газет о встречах фюрера с героями Восточного фронта, удостоенными Рыцарского креста с бриллиантами, примеривались к новому нарукавному знаку «За Сталинград», который будет учрежден по образцу геройских нашивок за Крым и Нарвик, понятия не имея о трехдневном перелете «африканцев» по трассе, проложенной с учетом действующих ночных кабаре для офицеров... А стол, накрытый на финише, в донской станице под Калачом, — откуда знать о нем измордованному, на исходе сил сержанту? Между тем кто только не приветствовал летчиков, явившихся издалека, чтобы поддержать завершающий таран танкистов, кто не предлагал краткого, сердечного тоста за них! Генералы и офицеры высших штабов, никогда так близко к фронту не подъезжавшие, эксперты зондерфюрера по сельскому хозяйству, инструкторы по вербовке рабочей силы, журналисты, фоторепортеры — все хлынули к коридору, по которому устремился в прорыв доблестный 14-й корпус, у всех на устах были слова командира передового танка, прозвучавшие в эфире: «Мы стоим на берегу великой русской реки как победители, и перед нашим мысленным взором в кроваво-красном отблеске распростерта поврежденная дикая страна...» Прекрасно сказано! Кроваво-красный отблеск... дикая страна... Духом великого Арминия, древних германцев веет от этих Слов. Командир передового танка увенчан Рыцарским крестом с дубовыми листьями. Достойная награда. Впереди — казахская степь, кочевники, вооруженные луком да стрелами, и теперь, конечно, возможны отступления от директивы, провозгласившей в канун великого похода, что «вооруженная борьба в России не должна иметь ничего общего с рыцарским поведением солдата...». Не только можно, но и должно, дабы снять негативный эффект карательных акций, увы, сказавшихся на авторитете германской армии, хотя речь должна идти лишь об отдельных частях СС... И впервые за время Восточной кампании немецкие летчики позволяют себе вспомнить о рыцарстве и совершенно на рыцарский лад бросают русским перчатки в виде вымпелов, вызывая их на воздушные ристалища в заведомо неравном составе: один «мессер» против двух «ЯКов», два «мессера» — против четырех...
Вот и «африканец», на гребне победной волны подловив раненого сержанта, затеял с ним игрище, утеху для души...
Не сквозняк, а щель в обводе тупого крыла «мессера» ободрила Гранищева: узкая и темная, она говорила: шасси «африканцу» не помогли! Тормоза, на которые он рассчитывал, чтобы сбросить, уравнять скорость с «ИЛом», оказались слабыми, и он прибегнул к дополнительному средству — выпустил посадочное приспособление, щитки. Но это с досады, в расстроенных чувствах. Железной собранности, залога и спутника победы, в немце нет. Помощь от посадочных щитков не так велика, ее недостаточно...
Догадка, что сила, которая держит нас в страхе, не способна к незамедлительной расправе, что кара, нависшая над головой, непреднамеренно отодвигается, — это открытие, если им воспользоваться, может дать много.
«Ein!» — «Один!» «Еще один заход!» — означал выставленный в его сторону толстый палец...
Так...
Павел облизнул спекшиеся губы, подтянул уздечку.
Кровь его уже не страшила.
Он понял, откуда она на желтом пульте.
Кровь сочилась из подбородка, задетого осколком.
От этого не умирают.
Двухцветная напористая трасса вспарывала воздух над крылом, рядом со створкой, заляпанной кровью, со смертной силой повелевая ему: «Увернись!.. Рвани в сторону!.. Уйди!..» Замерев под защитой бронеплиты, может быть, не дыша, он трезвостью и расчетом подавлял могучий зов инстинкта, побуждая себя к самому трудному для человека и солдата — новому: подскальзывал, ведя и удерживая самолет в устрашающей близости от раскаленного снопа трассы, не допуская губительного с ним соприкосновения. Окопчик, вобравший в себя все, неизъяснимое и стыдное, был, как и прежде, далек, Гранищев тянул, страшась ошибки, капкана, готового щелкнуть... «Мессер» ли гонит «горбатого», он ли связал, приневолил врага? — это длилось вечность, но дарующим жизнь сантиметровым зазором управлял он, Гранищев, вынуждая «мессера» проскакать вперед, промахиваться вторично...
Предчувствие, наитие, мистическое прозрение — трудно сказать. Но, прежде чем совершилось то, что совершилось, Гранищев, весь во власти боя, предугадал шаг врага: вторично промазывая, заигравшийся немец не отвалит в сторону. Ожесточенный промахом, несостоявшейся утехой, он, чтобы оставить за собой последнее слово, показать свой верх, свое конечное торжество, пройдет у него перед носом, пересечет ему дорогу...
И с безоглядностью смертной муки сержант всадил в зависшего перед ним истязателя все, что оставалось в снарядных ящиках «ИЛа». Ременная постромка ослабла, «горбатый», качаясь, пронесся над откосом правого берега Волги, оставляя за хвостом бурунный след, вымахнул на песчаную косу.
Упреждая удар, Павел вскинул обе ноги, уперся подошвами сапог в приборную доску.
Он ждал огня, преследования, взрыва, рвался из кабины и кричал, не слыша себя, с усилием разомкнув веки. Секундная стрелка бортовых часов, не успев обежать полного круга, остановилась при ударе, показывая, что с начала атаки немца прошло пятьдесят семь секунд.
На том высоком берегу он увидел клубящийся черный дым и всполохи желтого пламени, какие всегда долго мечутся и пляшут на месте взрыва самолетных бензобаков!.
Летописец вермахта, офицер генерального штаба В. Шерф, пометил в своем дневнике, что «поспешное решение Гитлера снять 4-ю танковую армию со сталинградского направления и бросить ее на Кавказ» привело вскоре самого фюрера «в состояние депрессии, тягостное для персонала, прибывшего с ним в бункер под Винницей». Фюрер метался, сознавая ошибочность сделанного им хода и не в силах от него отказаться, и тут случай: оперсводка о победе русского штурмовика над роммелевским асом-истребителем. Гитлер знал «африканца», удостоенного высшей воинской награды. Его гибель над Волгой дала новый импульс «мыслям фюрера, напомнила о главной цели, и он вновь направил на Сталинград танки 4-й армии... Но противник сумел собраться с силами...».
...Отлеживаясь в рыбацком шалаше, Гранищев впадал в дрему, в забытье. То мотор ударял в уши и обрывался, то гремела стрельба, то мерещился ему завиток волос, выбившийся из-под белой киперной ленты, и быстрое движение, мановение кисти, которым Лена с некоторой картинностью — сетуя на свою привычку и, видимо, дорожа ею — упрятывала завиток под ленту...
Ночью Гранищев выбрался к воде.
Снизу доносился артиллерийский гул и взрывы, на дальнем правом берегу горел уткнувшийся в песок баркас, по волнам плясали красные блики. Он искал глазами место, куда рухнул «мессер». «Африканец» мог воскреснуть десантом, артналетом, понтонной переправой для танков — никому на свете не было дела до сбитого сержанта...
Где-то ходил по балкам на «кукурузнике» Юрка Фолин, курсантское прозвище Фолимон, правофланговый и запевала, наделенный басом-профундо, которым не мог достаточно насладиться сам старшина: когда под белеными сводами казармы прокатывалось громовое Юркино «Подъем!», маленький старшина, стоя с ним рядом и глядя на него снизу, приседал от удовольствия... Где-то здесь обретается, тарахтит на своей букашке большеглазый Фолимон. Хорошо, не Фолимон, — полуторка. Телега... Как будто мало Гранищеву страданий боя! Как будто обязан он сносить еще все, что перепадает всаднику, вышибленному из седла.
«А ведь я дотянул, — думал Павел, — сел у своих...» Как бывает после сильной встряски, много думал — о своих несчастьях, откуда они, почему. Искал одну причину, главную, и чаще всего уходил в свои первые вылеты, в свое фронтовое начало — оно на войне неповторимо и особенно для каждого. Тут, считал он, завязь, отсюда все идет. Как летчик, командир экипажа, он имел все: машину с конвейера, подчиненных — механика и оружейника, подтвержденное росписью командира в «Летной книжке» право выполнять боевую работу на самолете «ИЛ-2». Не знал он одного — боя. Ждал его, ждал, страшился... В то тихое июльское утро теплый дождь омыл зеленое овсяное поле. С веток падали и расшибались о планшет редкие капли, в лужицах, заполнявших след танковых гусениц на дороге, отражались светлая тополевая посадка и низкие облака, готовые снова пролиться благодатным дождем, первым за лето; сидя под деревом, он ждал, когда их соберут, поставят задачу. Его подчиненные, механик и оружейник, двигались наземным эшелоном, самолет готовил военинженер третьего ранга. Орлиный нос, впалые щеки чахоточного... Он обхаживал машину, как заведенный, с пуком светлой ветоши в руках. Останавливался, подолгу глядел в сторону КП. «В гроб краше кладут», — думал Павел об инженере, как должное принимая участие такого высокого чина, военинженера третьего ранга, в осмотре и подготовке его, сержанта, «ИЛа», настраиваясь на удар, о котором шла речь с вечера, делая слабые, со стороны почти незаметные телодвижения, помогая себе то рукой, то головой, а больше воображением: сваливал послушный и грузноватый, начиненный бомбами «ИЛ» на крыло, влево, падал веретенообразным носом вниз, на врага, извергая огонь из пушек и пулеметов... Все, что предшествует этим главным мгновениям боя, он опускал; о том, как командир, сверх прямых обязанностей пилота, должен сработать еще за искусного навигатора, меткого бомбардира и умного тактика, он не думал, это считалось в порядке вещей. Покинув в ЗАПе приятелей, с кем вместе хлебал щи из курсантского котелка, оставшись один, он доверился майору, готов был следовать за ним с закрытыми глазами. Выход на цель — его забота. Гранищев ждал, когда Егошин призовет их, построит, скажет краткое напутствие...
Ни построения, ни объявления задачи, ни последнего перед стартом: «Атакуем с левым разворотом!» Вместо этого — натужный, как бы через силу, вскрик инженера: «Сержант, взлетать!» Вскрик — и ожидание, настороженное, неуверенное, будто не ту подал команду... Ревели моторы, клубилась пыль, след беззвучной ракеты полого тянулся в сторону сержанта — все подтверждало: взлет!.. Мимо, переваливаясь на кочках, прорулил капитан Авдыш, коротким, злым взмахом руки показывая ему: «За мной!» «За ним, за ним, за Авдышем!» — подстегивал Павла инженер, решительно жестикулируя. Гранищев — какие могут быть сомнения? — ретиво покатил за Авдышем, его, сержанта, ведущим. Самолет Авдыша, быстро двигаясь по неровностям овсяного, не дающего пыли покрова, стал на ходу осыпаться. Сначала взвилась в небо сорванная моторной струёй крышка какого-то лючка, второпях не закрытого, потом черной птицей выпорхнул и унесся далеко в сторону шарф летчика, затем Гранищев увидел, как вырвался наружу и затрепетал, ударяясь о борт кабины, его планшет. Планшет капитан Авдыш, правда, поймал, втянул за ремешок в кабину, но в довершение всего встал на старте во главе группы. Занял место майора Егошина. Павел глазам своим не поверил. Это значило, что Егошин остается на земле, группу ведет Авдыш. «Кого нам дали? — возмутился Павел. — За что?.. Хорош ведущий, все валится из рук». Взлетел Авдыш с грехом пополам, развернувшись градусов на двадцать... «Он все знал!» — вспомнил Павел инженера, не в его высоком чине, а в заблаговременном знании неведомых ему, сержанту, обстоятельств, усматривая его действительное над ним превосходство... Павел чувствовал себя обреченным. Куда повел их Авдыш, он не знал. С вечера, как все последние дни, разговор был о танках, полк бросали против танковых колонн, угрожавших нашим флангам, Гранищев готовился бить по броне, а встретился ему грозовой ливень, не более знакомый, чем немецкие танки. Струи дождя оплавляли лобовое стекло, в кабине сгустился сумрак, потом наступила тьма — или в глазах у него потемнело? — вдруг все небо стало белым, что-то оглушительно треснуло над самым теменем Павла — и сила и прежде всего неожиданность грозового разряда, во сто крат перекрывшего привычный, не замечаемый слухом моторный гул, потрясли летчика. Вобрав голову в плечи, он закричал, осаживая Илью-пророка, и с этим невнятным воплем на устах он сделал больше, чем умел, чем был обучен: удержался в строю. Прервались облака, вновь брызнуло солнце: он оставался на своем месте, и самолет Авдыша, нежданного командира, быстро обсыхая на ветру, победно сиял и звал за собой, и уже сам черт был Гранищеву не брат, ибо строй не рассыпался, повиновался капитану, и Авдыш оказался на высоте. Летчики, ободренные маленьким успехом, таким важным при подходе к цели, подтягивались, чтобы все вложить в не раз обговоренный и мысленно повторенный удар с левого разворота... а капитан Авдыш, с которого они не сводили глаз, в решающий момент ринулся вправо, ломая чудом сохранившийся в тропическом ливне строй, теряя управление, бросая своих ведомых.
Командир полка, не пошедший на задание, капитан Авдыш, переложивший вопреки общему ожиданию «ИЛ» вправо, — такая выстраивалась цепочка без начала и без конца...
...К поселку МТФ, к своему домику, Гранищев шел, опираясь на палку, страдая от пыли и пота, от своей ненужности, заброшенности.
Седенький с берданкой охранник бахчи, приглядевшись к нему в тени навеса, предложил: «Арбузиху бери, арбузиха слаще, воронье нынче сыто, на бахчу не зарится... Угощайся, женщины и арбуз хороши на вкус, а семечки в горстку собери да мне отдай, делянка сортная, на посев пойдут...» — «Когда сеять-то собираешься, дед?» — «Весной, когда же... К весне-то немца погоните?»
Камышинский арбуз от прикосновения ножа змеисто треснул. Разбитая губа мешала Павлу поглубже ухватить сахаристый, влажный ломоть, он забирал его и всасывал уголком непослушного рта, и вдруг — мотор, нежный рокот...
Родимый «М-11», еще вчера напевавший курсантам аэроклуба про тайны пятого океана и прочую дребедень, стеснил ему душу: самолет, как понял Гранищев, осторожно крался... Обычно летчики-связники выходили в сталинградскую степь затемно, на исходе ночи, когда горизонт затянут и мглист и плывут по земле туманы, помогая маленьким машинам скрываться в пестроте ландшафта. В дневную пору связисты не летали; приказ Хрюкина требовал доставлять донесения о ходе боевой работы «без ссылки на объективные причины, всеми доступными средствами», и оперативные сводки из строевых полков пересылались в штаб армии на боевых «ЯКах», «ИЛах», даже на «ПЕ-2»...
«Кукурузник», шелестевший над бахчой, имел, как видно, безотложное предписание: держась от белесой травы не выше, чем на метр, он рассекал ее и укладывал за хвостом темным пружинистым клином. Быстро мелькнувший профиль летчика чем-то напомнил ему Фолимона после госпиталя: бугристый шрам, оставленный сгоревшим на шее целлулоидным подворотничком, стянул кожу, изменил посадку головы, и он держал ее, наклоняя вперед, голос его сипел; говоря и глядя исподлобья, Фолимон помогал себе вращением крупных глаз... Его бы списали, если бы не упорство, с которым отстаивал Юрка свое право на кабину пилота; в конце концов он добился назначения в «королевскую авиацию», или, что то же самое, в «придворную эскадру», как называли летчики-связники небольшой отряд «ПО-2» при штабе армии.
Приспущенный, упрямый, беззащитный нос «кукурузника», пересекавшего бахчу, выражал надежду летчика пройти, несмотря на высокое солнце, рискованный маршрут. «Давай, милый, давай, — приговаривал Павел с арбузным ломтем в руках, не зная, Фолимон ли это. — Давай!» — вздохнул он глубоко, с хрипом, сдерживая подступившую к сердцу боль — сдают нервишки, — сострадая летчику, который, крадучись, дерзает засветло выполнить приказ, всем друзьям-истребителям, разбросанным войной, неукротимым, как сиплый, с пригнутой головой Фолимон... Он приналег на ломоть, сглатывая сочную сладость вместе с солоноватой горечью, спускавшейся по горлу... Хвостовой костыль «кукурузника» чертил землю, как зуб бороны, винт, замедляя обороты, делался зримым... самолет сел! «Сдурел парень, — подумал Павел. — Жить надоело...» Вместо того чтобы уматывать отсюда, пока цел, летчик, прогромыхивая крыльями, катил к арбузным грядкам.
Стражник, всполошившись, кинулся к нему, Гранищев, на ходу утираясь, направился следом.
— Летчикам гостинец, летчикам! — торопливо объяснил деду пассажир-лейтенант, открывая под арбузы пристежную крышку грузового гаргрота.
— Ты что?! — кричал Павел, узнавая шедшего ему навстречу Фолимона, как кричал на него однажды в стартовом наряде, когда курсант Фолин снес при рулежке ограничительный флажок; вдруг нашедшее воспоминание курсантских дней почему-то показалось Павлу веселым.
— Здравствуй, Солдат, — говорил Фолимон. — Разукрасили? Помяли? — У него был тон человека, которому дано судить несчастья других, что он и делал, поглядывая одновременно за своим пассажиром-лейтенантом, не терявшим на делянке времени даром.
— Зачем сел, балда? — скорее задорно, чем с укором отозвался Павел на выходку товарища.
— У него спроси (пассажир-лейтенант на полусогнутых сновал между бахчой и самолетом). Говорит: у бабы день рождения, женщине нужен подарок.
— Послал бы ты его вместе с подарком.
— Баба симпатичная...
— А «мессер» прищучит?
— С арбузами, без арбузов, какая разница. — Юрка незнакомо улыбнулся, засипел, должно быть, засмеялся. «В одну воронку снаряд два раза не попадает», — было в его
словах.
— Юра, я не спросил, тебя «мессер» снял? Или зенитка?
— Два «мессера». От одного ушел, другому подставился. Глупо подставился... Тебя?
— «Мессер»... Пес-рыцарь.
— Все они из псов...
— Наших кого-нибудь встретил?
— В Актюбинске, в госпитале... Меня из-под Москвы санпоездом аж в Актюбинск укатили... Кончай! — крикнул он лейтенанту.: — Перегрузишь, центровка нарушится!..
Лейтенант, стоя под моторной струёй, надувавшей его гимнастерку, как наволочку на воде, кивнул с готовностью, кинулся к грядке, взял в руки по арбузу, третий локтем закатил на подол гимнастерки, прихватил край гимнастерки зубами, понес...
— Три хороша зараз, — уважительно сказал Юрка. — Баба у него славная... — О женщинах он говорил тем же тоном человека, всему знающего цену. — Честная баба.
Щелкнув замками гаргрота, лейтенант проворно полез в кабину. Волосы на его нестриженом затылке топорщились вверх.
И снова Павел строил цепочку, доискиваясь первопричин, мысли его от ЗАПа перебрасывались в летное училище, в десятилетку... Выпускной вечер, как он знал теперь из письма, справляли в субботу, 21 июня, полеты в тот день были во вторую смену, он пилотировал в «зоне», когда в актовом зале выпускники, вставши кругом, положив друг другу руки на плечи, отплясывали «молдаванеску», в уральской школе любили «молдаванеску»... Десятилетка, мечта матери, не сбылась, летное училище пройдено галопом... но десятый класс — пусть без аттестата, без выпускного бала — был, а только он, десятый класс, — не восьмой, не девятый — дает доподлинное ощущение школьной жизни. Без десятого класса и школа не школа. Это — лучшее, что он получил, что у него есть.
Если он еще на ногах, улыбается, глядя вслед бесшабашному Фолимону, то благодаря ей, школе...
В полку его первым встретил приземистый механик-тяжеловес с баллоном, лежавшим на широком плече.
Сбросив увесистый баллон на землю и несколько выпятив тощий живот, он на штатский манер раскинул руки:
— Товарищ сержант!
— Здравия желаю, — не узнал Павел однополчанина.
— Сержант Гранищев! — громче прежнего восклицал тяжеловес, стискивая его руку своими задубевшими клешнями. — Сержант Гранищев, — повторял он на разные лады, рдея, как человек, не обманувшийся в своих ожиданиях. — Жив, Солдат!
Он и прозвище его знал...
— Кто еще пришел? — спрашивал летчик деловито, со сдержанностью, большей, чем была необходима, а про себя думал: «Память отшибло, что ли?» Сердечность механика его тронула.
— Все стоянки наши, — невпопад отвечал тяжеловес. — Истребителей не осталось, перебросили в колхоз Кирова... «Лимузин» один вкалывает, я на нем как раз, на «Лимузине», — «Лимузин» был такой же, как и «Черт полосатый», изношенной и живучей машиной.
— Никто не пришел? — повторил вопрос Гранищев.
— Я в лицо не всех знаю... Я в полк прибыл, когда вы улетели...
— Откуда же меня знаешь?
— Наслышан, — улыбнулся механик. — Рассказывали и описывали... Как вас увидел, сразу понял: сержант Гранищев!
К поселку МТФ Павел подходил затемно; плохо видя, он все узнавал и угадывал. Разрыхленная земля под ногами напоминала, как они здесь авралили, сжигая и зарывая в землю отравленные диверсантами продукты; обломок фанерного «зонта», «гриба», говорил об усилиях, предпринимавшихся, чтобы уберечь дежурных летчиков от солнцепека. «Загон», где в день прибытия на МТФ красовались пригнанные отовсюду «Р-зеты», «Р-5», «Чайки», пустовал: ни одного экземпляра допотопной техники не уцелело, все поглотила битва.
Высматривая окопчик, вытягивая в том направлении шею, Павел проходил мимо него, не останавливаясь, не сворачивая, торопливо пронося тайну, которую никто не знает, и горечь, в которой трудно было признаться даже себе... «Как он меня перед нею выставил!» — вдруг подумал он о Егошине, вспомнив свои ужасные посадки на глазах у Лены. И остановился. Не захотел идти дальше, встречаться с майором, давать ему объяснения... В отношениях Лены к нему, понял Павел, тоже присутствует Егошин. Сам о том не ведая, присутствует...
Расторопный лейтенант, адъютант эскадрильи, служивший летчикам-сержантом и за дядьку и за няньку, облобызал Павла, как родного, снял с себя двухлитровый немецкий термос (с водой по-прежнему было скверно): «Пей и мойся!» — «Я арбуза наелся...» — «Мойся!» Сам сливал ему из колпачка, выспрашивая подробности Обливской («Ты первый пришел, данных в полку никаких... Будь другая цель, дивизия бы так, конечно, не трясла, а тут аэродром, сам понимаешь, каждая подробность на учете...»), перебивал себя новостями. Павел коротко рассказал о вылете, о бое с «мессером».
— Отоспишься — представишь рапорт, — наказал ему адъютант. — Все подробно.
— Витька Агеев живой?
— Дежурит!.. Мне помогает. Летать не дают: две недели плена...
— Меня теперь тоже зажмут?
— Но ты на нашем берегу упал? На левом?
— На левом...
— На оккупированной территории не был, другое дело.
— Агеев две недели по хуторам прятался, — возразил Гранищев. — Днем отсыпался, ночью шел.
— Ты с ним был? Видел? Вот в полку Клещева погиб сын Микояна... Вернее, сбили. Сбили, а падения летчика никто не видел. Никто ничего сказать не может... Может, и не сбили... может, он в плену сидит... Так что две недели Виктора Агеева без проверки оставлять нельзя! Помолчали.
— Кто продукты-то травил, узнали?
— Ищут. Он тогда еще летал.
— Да я не к тому... Я бы Виктора сейчас пустил. Пусть воюет.
— Не хотел бы я быть на его месте.
— Живой, значит, везучий. Свое возьмет. Когда проняла заволжские аэродромы лихорадка: «Немцы взяли Рынок!» — рассказывал лейтенант, задания на вылет то ставились, то отменялись, в полк примчался Раздаев, и под конец дня на КП лейтенант услышал радио, какого за всю войну ему слыхивать не приходилось: открытым текстом ставилась боевая задача дивизии. Командиру бомбардировочной дивизии предписывалось всеми силами ударить по Ерзовке — не по Рынку, по Ерзовке и по дороге от нее на юг, к Сталинграду, куда прорвались немецкие танки. «Всею наличностью, всею наличностью!» — взывал незнакомый, срывающийся голос, а командир бомбардировочной дивизии отвечал: «У меня в строю четыре, у меня в строю четыре...» Тут же раздался звонок от Хрюкина: «Поднять все на Ерзовку и по дороге от Ерзовки на юг, к Сталинграду, по танкам...» Хрюкин, хозяин воздушной армии, знал, куда кинуться, если нет бомберов. Знал, кто выручит, — Раздаев выручит, Егошин — штурмовики, своевременно здесь же, под Сталинградом, получившие ночную подготовку. Случайность, а может, и предвидел генерал такой вариант. Факт тот, что поднялись в сумерках, после отбоя, экипажи для ночных условий не готовые, чехлили моторы... Да, прорыв со стороны Рынка был смертелен для города, но и контрудара штурмовиков немецкие танкисты тоже не ждали. Вышли «ИЛ-вторые» в бой на ночь глядя, сработал полк Егошина против лавины, катившей на завод, внезапность сокрушал внезапностью. Лег костями «дед», школьный инструктор, два его собрата по училищу, сержанты, обученные «дедом»,
— Дал я, между нами, Виктору Агееву совет... Знаешь какой? Выступи, говорю, на митинге, как лейтенант Кулев. Заверь командование: так, мол, и так, желаю бить ненавистных оккупантов... Кулев выступил, его тут же послали...
— Какой Кулев?
— Без тебя прибыл, штурман, лейтенант Кулев. По ошибке или как, не знаю: штурман, а попал в наш полк. Кантовался в штабе... Выступи, говорю, как Кулев, тебя сразу в боевой расчет поставят, пошлют на задание... Неловко, говорит Агеев. В грудь себя стукать не умею. Получается вроде как выставляюсь... Совесть моя чистая.
— Правильно считает.
— Ты говорливый стал, Паша... Донесение напишешь подробно, — повторил адъютант. — Мы тебе звездочку нарисуем. Как истребителю...
Звездочек тогда еще не рисовали.
Летчик-истребитель Амет-хан Султан извещал наземные службы об одержанной им победе, бабахая из пистолета в воздух. Летчик-истребитель Венька Лубок отметил первый сбитый им самолет, нарисовав на левом борту своего «ЯКа» алую розу, а на правом начертав женское имя «Света» (как звалась его подружка). Некоторые, припоминая красвоенлетов времен гражданской войны и встречая трофейные останки, брали на вооружение туза пик, черных кошек или драконов. Склонность к мистике пресекалась членом Военного совета в корне, да и сама бортовая геральдика в авиации решительно отвергалась — к чему она? Это восточный деспот Чингисхан красил своей кобыле хвост, чтобы все ее замечали, а пятнать краской боевую технику — только ее демаскировать. В сорок первом году в Белой Церкви так раскрасили, закамуфлировали один «СБ», ходивший на разведку, что свои же зенитчики его и сняли... «Чуждо...» «Принижает бойца Красной Армии...» — все так, а живописцы в авиационных полках не унимались.
Столь устойчивое тяготение к рисованному знаку — не сродни ли оно мужицкому желанию вплести на праздник в гриву своего Серка-кормильца нарядную тесемку? И разве не переносит летчик на боевую машину, на самолет, чувства, которые дед его и прадед, не вылезавшие из борозды, связывали с конем? «Мой брат Иван нынче на «Фордзоне» пашет, а я на «ишаке», — говорил курсант Сталинградского летного училища Венька Лубок.
...Под Валуйками, когда немец ломил на восток и дня не проходило без потери, старший лейтенант Баранов, сняв в бою «юнкерса», вывел на борту своего истребителя красную звездочку. «Возможно, не все из нас уцелеют, — объяснил Баранов, — звездочка скажет, как мы дрались...»
Звездочка как знак победы в воздушном бою утвердилась.
Узнав ее историю от адъютанта, Гранищев сказал:
— Если как истребителю... Такое отличие было ему по душе.
Кризис Сталинграда, назревая, в армейских штабах отзывался не так, как в районе Рынка, и на заволжских аэродромах иначе, чем на переправах, работавших под огнем. Сказывался он и на личных отношениях.
После 23 августа, когда штаб 8-й воздушной армии, за день до катастрофы переброшенный удачливым начальником штаба в левобережный совхоз, чудом уцелел, и после прорыва к Волге немецких танков, остановленных, но не разбитых летчиками Егошина, — после этих штыковых ударов, полученных городом в ближнем бою, в отношениях командарма Хрюкина и командующего ВВС Новикова произошла перемена. Взаимные симпатии, отличавшие бывшего сельского учителя и бывшего усердного ученика-переростка, уступали место сухости, жесткости, затяжным угрюмым паузам. Не потому, что командарм Хрюкин и командующий ВВС Новиков стали хуже думать друг о друге: война выстуживала тепло человеческого общения. Она в нем не нуждалась. И вдали от фронта, в столичных штабах и управлениях, чутких к затрудненному дыханию Сталинграда, боязнь за личную судьбу вытесняла сострадание к ближнему, участливость. «Революция не позволяет нам быть сентиментальными!» — говаривал начальник ГлавПУРа. Провалив Керчь, где только убитыми было потеряно свыше ста тысяч, он по возвращении в Москву первым делом потребовал от командующего ВВС Новикова «убрать Сосина», одного из лучших летчиков отряда, обслуживающего высшее крмандование РККА. «Больно разборчив Сосин... «Есть минимум, нет минимума», — брюзжал генерал. — А меня Ставка затребовала, я из-за хваленого Сосина в Ставку опоздал!» Унижением такого мастера, как майор Сосин, им же дважды представленного к награде, начальник ПУРа подчеркивал прочность собственного положения. Еще категоричней был он в общей оценке ВВС. «Главное, Александр Александрович, — напутствовал он Новикова перед Сталинградом, — обеспечить преломление первомайского приказа товарища Сталина в сознании летного состава, особенно истребительной авиации». Не любя недомолвок и не теряя лица, он за день до того, как был с треском снят и разжалован, дал молодому командующему ВВС, отбывавшему выправлять положение юго-западного фронта, рекомендацию: формировать в действующей армии штрафные эскадрильи... В штабе Новикова эта проблема не обсуждалась.
В левобережном совхозе Новиков поселился в избе, на задах которой взвод охраны отрыл на случай бомбежки окопчик. «Как у вас в Ленинграде, на Дворцовой площади», — заметил Хрюкин, знакомя гостя с расположением штабных служб. «Вашу заявку постарались выполнить, — отвечал ему Новиков. — Привезли двух шифровальщиков, две пишущие машинки, комплекты полетных карт...» Тронув носком сапога отвал чернозема, Новиков повторял слова начальника ГлавПУРа: воздушной армии необходимы штрафные эскадрильи...
— Моей армии?.. Восьмой воздушной?.. Летчик, сталинский сокол — и штрафные эскадрильи?! Но бойцовские качества летного состава, подавляющего большинства... трезво-то говоря, объективно... Смелости нашим летчикам не занимать. Зачем же для них средства устрашения?.. Какой от них прок?..
— Есть такое мнение, — печатал Новиков на землице след — один, второй, третий...
С рассветом Хрюкин выехал в район Рынка, на рацию наведения, выдвинутую по его приказу против танкоопасного участка. Дежурный вручил ему кодовую шпаргалку на картоне, написанную от руки, двумя карандашами: красным и синим. Вчерашний позывной истребителей «Ротор» заменялся «Сиренью». Другая новость: ночью немцы на том берегу купались. «Жарко им стало», — осадил дежурного Хрюкин, противясь неслужебным разговорам о фрицах... «Мазута на воде в два пальца, а они ухают, визжат, как бабы, бултыхаются...» — «Жахнули бы для веселья, минометная батарея рядом!..» — вспомнил Хрюкин Баранова: на донском еще берегу, под Вертячим, в том примерно месте, откуда немецкие танки рванули на Сталинград, Баранов и его ведомый застукали роту автоматчиков, начавшую купание, «и дали жизни из четырех стволов». «Ты, Гордеич, начал, ты и докладывай», — настаивал Баранов возле КП, не замечая, что Хрюкин, подымавшийся из землянки, их слышит. «Не могу, товарищ командир, меня смех разбирает... Кто в кусты, кто в воду с головой, как утица, только мокры ж..ы сверкают...» — докладывал Баранов, пунцовый от азарта и смущения. Встречу с купальщиками Баранов опустил. Напарник слушал его, кривя рот, лицо летчика светилось злобой, понятной Хрюкину и близкой...
В 9.17. командир эскадрильи капитан Д., возглавлявший шестерку «ЯКов», обозначил себя в эфире позывным «Сирень-два» и запнулся... смолк. «Этот?» — переспросил Хрюкин дежурного, всматриваясь в плотный строй истребителей, выходивших на Рынок. «Он, — подтвердил дежурный. — Он самый, «Сирень-два», тянет выводок навстречу «юнкерсам». Неравная схватка требовала от капитана какой-то предприимчивости, инициативы... не вести же бойцов на заклание! Прикрыться солнцем (солнца не было), использовать облачность (небо было мглистым), набрать высоту... Действовать внезапно, дерзко, с напором... Но капитан, как видно, сомлел в душе. Не пересекая Волги, стал отваливать в сторону, в сторону... вверх по течению. Уклонялся от встречи в буквальном смысле. Страх овладел капитаном и повел его, а ведомые, как бараны — за ним. Уступая поле боя «юнкерсам», выходившим на худосочный наш заслон, истребители отдали «лаптежникам» на растерзание оборонительный рубеж, с таким трудом воздвигнутый. Он был раздавлен и проутюжен.
Под грохот бомбежки Хрюкин затребовал к аппарату командира полка. Аэродром истребителей не отвечал. «Достать!» — рявкнул Хрюкин, и связь, похоже, ему повиновалась: «Слушаю вас, товарищ первый!»... Подкатила заляпанная комуфляжем «эмка» Новикова. Видел или не видел командующий ВВС позорище авиации над Волгой, Хрюкин не знал. Весь во власти стыда и гнева, он дожидался, пока Новиков подойдет к радиофургону. Он хотел, чтобы Новиков слышал его разговор. Присутствие Новикова поднимало накал его объяснений. «Гнешься, как трава! — кричал он в трубку. — И на ответственных у тебя постах не комэски!..»
Тут же, на рации, отдал он капитана Д. под трибунал, пообещав каждому, кто сыграет труса, штрафную эскадрилью...
Ночью, подрабатывая текст, занесенный под его диктовку в рабочую тетрадь, он писал: «Отдельные ловчилы и паникеры из среды летного состава своей трепотней создают вокруг немцев несуществующий ореол их непобедимости, преимущества, бегут с поля боя, оставляя без защиты, в одиночестве против численно превосходящего врага подлинных патриотов, героев нашей Родины. Но подлецы не поколеблют воли народа. Бесстрашный летчик-истребитель, как сержант Сузюмов Н. И., сбивший в неравном бою над Волгой одного «юнкерса» лично, а второго — в группе, будет всегда побеждать врага. Таких немец не осилит, от таких немец сам погибнет, от таких он и потерпит свой неминуемый полный крах...»
Рыжеволосый костромич Сузюмов... Житейские невзгоды еще не отпечатались на его лице, но видна усталость. И — успокоенность ожесточенного до крайности человека. В отличие от него, Хрюкина, — в Испании или Китае, — этот парень никому ничего не доказывал. Он делал на Волге то, чего никто другой за него не сделает. «Таких, как Сузюмов, штрафная эскадрилья не замарает, — рассудил Хрюкин. — А капитан Д. пусть хлебает, что заслужил. Пусть отмывается. Все цели одинаковы. Легких в Сталинграде нет. Для малодушных штрафная как чистилище, возможность искупить свою вину перед народом...»
«Выстоим, Коля?» — спросил он Сузюмова. «Живыми не уйдем, товарищ генерал», — ответил ему сержант.
Концовка приказа сложилась так:
«В целях пресечения отдельных фактов трусости и паникерства, препятствующих победе, и поддержания железной дисциплины в духе приказа № 227, создать в 8 ВА штрафные эскадрильи...»
«Хорошо отработан документ, убедительно», — сказал ему генерал Новиков, но не тоном учителя, радующегося успехам ученика; благословляя создание штрафных эскадрилий, командующий ВВС сам нуждался в одобрении и поддержке.
От полкового КП, бугром выступавшего, летчики уходят к своим машинам, на стоянку, небольшими группами, а возвращаются в тенистый уголок с подветренной стороны землянки вразброд, поодиночке; здесь людно, но неговорливо. Летчиков в заношенной фронтовой амуниции выделяет худоба, сухость, неулыбчивость лиц; ждут очередного вылета, пребывая под впечатлением последнего, улавливая все, что происходит на правом берегу реки...
Прошел слушок: Баранова посылают на Ельшанку. Где-то полегчало; под Ельшанкой, что на южной окраине города, напротив, жмет.
Вскоре сам Баранов, поднявшись по стертым глинистым ступеням КП, с раскрытым планшетом в руках подтверждает: да, на Ельшанку.
С кем?
Кого Баранов берет напарником?
В лицах летчиков как будто озабоченность сухой метущейся пылью: командирский выбор пока не сделан, Бахарева с тем же отсутствующим выражением лица сторонится мужской компании летчиков, чтобы не попасть под чью-нибудь тяжелую руку.
— Бахарева, — вслух отметил ее присутствие старший лейтенант, осторожно пробуя больную ногу.
Или поздоровался, отвлекаясь от раскрашенной цветным карандашом карты?
В моторном гуле аэродрома она, похоже, его расслышала. Взяла под козырек, сдвинув каблучки. Он ей кивнул, лицо его вытянулось. В щетине впалых щек блеснула рыжина.
В полку она недавно. С «ЯКом» обращается уверенно и мягко — это он отметил. После провала под Обливской в боевой расчет ее не ставят, на передний край не посылают. Поручают сопровождение московских «дугласов», прикрытие эшелонов, поступающих под разгрузку на станции фронтового тыла. «Дерзкая летчица, — доложился Баранову «Пинавт», ходивший с Еленой в его отсутствие на станцию Эльтон. — Так и рыщет!» «Пинавт» — небольшого росточка летчик со смешливым от природы, исхудавшим и как бы озлившимся, забывшим улыбку лицом — обязан своим прозвищем авиационному жаргону: «пинавт» в авиации примерно то же, что на флоте — салажонок. «Рыщет! — насмешливо передразнил его Лубок (вот кого она сторонится, переминаясь в одиночестве после неудачи под Обливской: Венька Лубок, возглавлявший их пару, с Бахаревой в контрах). — Слоняется тут как тень, то ли с ней летать, то ли ее... на танцы приглашать...»
Так заговорил нынче воитель.
Глазом, изощрившимся над Волгой, чутьем истребителя, не выходящего из боев, Баранов распознавал химеру страха во всех ее проявлениях; чем ожесточенней бой за город, тем она чувствительней, — одного срезает под корень, другому выедает душу постепенно. «Лубок, — обращался он к Веньке с глазу на глаз (замечания, особенно на людях, Венька воспринимает болезненно), — Лубок, ты в небе носишься, как гончий пес...» — «Так быстро?» — «Так прямо! Собака чешет обычно по прямой, не замечал? В сторону не берет. И ты... Собьют!.. За хвостом смотришь?» — «Во все глаза!» — «Солнце не упускай...» — «Слепит солнце. Ничего не видно». — «Орлы не боятся смотреть на солнце, — настаивал Баранов, — что и продлевает им жизнь...»
Слова, однако. Лубку не помогали.
Он их не воспринимал.
Боевой порядок, строй, место в строю — святая святых, а Лубок, чуть что: «За Родину!» — и за облака...
Баранов приучал его к порядку пулеметом.
Как вылезет Лубок, чтобы оторваться от группы и уйти, — очередь из пулеметов. Поверх плексигласовой кабины, над бортом... Из всех пулеметов. Для большей острастки иногда из пушки тоже. Чтобы вернее доходило. Чтобы на этот счет не заблуждался. И как будто достигли своей цели вразумляющие трассы Баранова. И, раз и другой почувствовав, как уязвим «мессер», как шарахается он, смертный, от хорошего удара в зубы, вроде бы совладал с химерами Лубок. Сам сбил одного. Ненароком, правда: вывалился из-за тучки, зажег «лапотника» на посадке — и деру... Радости было! Шлем об землю — трах, вдоль стоянки фертом шел, ведро краски истратил, раскрашивая свой «ЯК»... Гулял допоздна. «Я теперь их, гадов, щелкать буду!.. Я их как старший лейтенант Баранов!..» И поставил Веньку во главе эскорта из двух машин — он да Бахарева — прикрыть «горбатых». Венька, помявшись, положился на удачу: кривая вывезет... Сколько примеров на глазах, вывозит же кривая, чем Венька хуже? Да против молодчиков Удета, числом превосходящих, с их техникой, с их мастерством в огне, надобен опыт. Выдержка, терпение... великое терпение. А терпение — это дух. Нет духа — нет терпения.
Просчет-то, судя по всему, в том вылете на Обливскую допущен был элементарный: оторвался Лубок по старой памяти от «горбатых», ушел на высоту, а спина у «ИЛа» темная, на пестром фоне он как ящерица, его не разглядишь... тут нужен глаз, нужно внимание... предельное внимание. Шесть экипажей прикрывал Лубок — всех там и оставил. А на другой день, едва рассвело, — снова на Обливскую. Да, на Обливскую, пощады ей не было; штурмовать, блокировать аэродром, где, по агентурным данным, подтвержденным воздушной разведкой, до сотни «юнкерсов». Венька бледный, с закушенной губой... Приказано — повел, и снова тот же результат. Командир штурмовиков на Веньку с пистолетом: «Бросил, курва!..»
Подкосило Веньку, сломался.
При везении — нахал, под давлением — вибрирует, гнется. Чем его образумливать, приводить в чувство? Какими очередями?
Когда задание сорвано, незадачливый командир готов искать свое спасение в тех, кто не вернулся. Лубок валил ответственность на Бахареву: его команд не слушала, самовольно откололась, вот и сбили. Донесение писалось с его слов, он ответственный свидетель. А на третий день явилась Елена, да не на своих двоих, как, бывает, возвращаются с задания мужики, ставшие безлошадными, а на своем «ЯКе» («отремонтированном в полевых условиях» — подчеркивалось в донесении, пошедшем вслед за первым). Вспорхнула под носом у немцев, и — дома, и то, что наплел Венька, против него же и обернулось... Официальный разбор их вылета откладывался — некогда. «Освободим Обливскую, опросим жителей, тогда». Но Лубок упорствует, гнет свое. Распускает слух, будто ей предъявлены какие-то обвинения, будто ее вот-вот отчислят, куда-то переведут... мелочится. Он, Лубок, воюет, она, видите ли, слоняется.
Коротко кивнув Елене, Баранов посочувствовал ей. Не более.
Ибо чем Елынанка легче Питомника? Рынка? Других целей, куда ее не посылают?
Майор, высаженный им над Конной, мог промышлять и над Ельшанкой.
Кивнул, она в ответ что-то промямлила.
«Пойду», что ли?
...Прошлой осенью на полуразбитом станционном базарчике, пропускавшем эшелоны беженцев, наткнулся Баранов на обрез водопроводной трубы, торчавший из земли, как кладбищенская кость, и стал крутить сияющий медный кран, легкий в резьбе, не ржавеющий после бомбежки, поскольку его хватали и крутили сотни и тысячи жаждущих глотка воды... И тут какая-то бабуся выставила на ларь добрую макитру молока. «Молочная душа, — говорил о себе Михаил. — Меня мать до четырех лет молоком выпаивала». Осторожно приняв из рук бабуси крынку, он опорожнял ее, блаженно гукая, не замечая маленькой женщины с бледным лицом, подходившей к нему. Из всех летчиков, толкавшихся на базаре, она выбрала почему-то Баранова и шла на него издалека, как завороженная. «Желаю тебе счастья и любви, мой мальчик», — проговорила она, пригнув к себе и поцеловав Баранова в щеку. Держа на весу кувшин, летчик с молочными усиками на губах взирал на нее оторопело.
«Счастья и любви», — повторила она, вглядываясь в него и отходя, отступая к своему вагону. Он снова принялся было за кувшин. «А ты честным будь, честным!» — донеслась до него ругань, поднявшаяся рядом. Он слышал ее давно, но пропускал мимо ушей. «Я всю жизнь честно жила, так ты, бесстыжая морда, на мне наживаться будешь? — Женский голос от возмущения срывался. — На детях моих?» Зашедшаяся в крике женщина стояла перед «мордой», держа сухую ладошку на остром плече босоногого мальчика, сынишки или внучонка лет шести. «Не хочешь — не бери, я к тебе в карман не лезу, — отвечала «морда», ссыпая обратно в свое ведро мятые, с белесой гнильцой сливы. — А выбирать фрукту не дам!» Несколько слив скатилось на пыльную землю. Мальчонка схватил их, готовый бежать, старуха проворно поймала исчезнувшее было плечико и, высоко держа голову со сбившимся платком, пошла за ним, — она была слепа...
Пожелание счастья и любви в толпе галдящих беженцев, сцена со слепой, зашедшейся от обиды и горя старухой выставили Баранова в собственных глазах маленьким, беспомощным, неспособным и на йоту облегчить участь тех, кто лишился июньским утром крова и пищи, кого гонит в неизвестность, в нужду и страдания война; война, четыре месяца стоявшая перед его глазами, виденная им во всех ее обличьях, на исходе четвертого месяца — такой понадобился срок — входила в жизнь его сердца. Роль песчинки, которую она хотела бы навязать летчику, была не по нему.
В свои двадцать два года летчик Михаил Баранов достиг той зрелой, не всем фронтовым истребителям сужденной поры, когда опыт, умение и что-то еще позволяли ему делать в бою все, что он хотел. Делать все — еще не значит все осуществлять. Победы давались ему великим трудом, потом и кровью. Он вел им строгий, трепетный счет, и, будь он речист, как школьный приятель Гошка Козлов, увлекавший старых и малых своими докладами о Конвенте, Робеспьере, термидоре, будь он такой же рассказчик, он бы воссоздал историю каждого им сбитого... Не краткую, нет: вечность, вечность проходит, пока быстрая, прерывистая трасса, отлетая от стволов и упруго, подобно брандспойтной струе, покачиваясь, сузится, войдет, вонзится во вражеский бок, утопляя с собой надежду на быстрое возгорание пламени, на факел, и страх охватит душу — все!.. И только вечность, вечность спустя возбужденное и готовое померкнуть сознание — не торжествуя, но продолжая жить — получит награду за пережитое и сохранит какой-то фрагмент: или дымок, какими летом курятся торфяные поля, или извергнется из утробы «мессера» и радостно запляшет болотный огонь...
Все способно перемениться в эту вечность.
Мальчишкой вообразив себе авиационный мир таким, где все определяют личные достоинства, личные заслуги, он, кадровый военный с твердым знанием армейской иерархии, открыл для себя на фронте и стал почитать иную субординацию — ту, при которой бойцов по ступеням почета расставляет ратная слава. В бою он, случалось, промахивался, ошибался в ответах, тайный голос внушал ему: ослабь напор, ударь издалека, отступи от черты, обещающей победу, — он не поддавался искушению, он его пересиливал. Черные мухи подолгу плясали в глазах после схватки, подчас он не знал, дотянет ли до своих, смутно помнил сами возвращения. В Песковатке садился, забыв выпустить шасси, в Ленинске, одержав победу над двумя «худыми», обессилел в бою так, что из кабины его поднял и поддерживал за плечи, пока он был на крыле, механик. А потом, сидя на земле, как подкошенный, безучастно, тупо смотрел на механика, выводившего на борту его «ЯКа» знаки победы — звездочки. Трафаретки не было, механик старался от руки, звездочки легли неровно, долго не сохли и подтекали... Он не говорил: «Я победил» или «Я его сбил», — он говорил: «Убрал». Он делал все, что хотел, и, когда ему это удавалось, он был счастлив.
Любви он не знал.
Близость с женщиной, лица которой он не помнил, вызвала в нем приступ стыда, раскаяния, презрения к себе, а быстрый жаркий поцелуй с госпитальной сестрой Ксаной, склонившейся над ним с градусником в светлое, тихое утро его последнего дня в госпитале, он вспоминал, волнуясь. Все сберегла память: ее белый, хрустящий халат, белые стены, белую дверь, неплотно прикрытую, нисколько его не смутившую... «Я очень страдаю», — написал он Ксане через день после отъезда, удивляясь силе чувств, вызванных ее единственным поцелуем, поражаясь словам, слетавшим на листок с карандашного огрызка. «Душа моя в слезах», — писал он. Ксана ему не ответила.
...Бахарева, шагнув в его сторону, остановилась.
Приблизившись, не дошла.
Прищур на облака, на солнце, приподнятый подбородок — манера, свойственная нашему брату перед стартом, получала свою, милую, трогательную даже форму выражения, когда это ее прищур, ее закинутая голова... Робость Елены, остановившейся на полпути, подстегнула Баранова. Тем же безошибочным чувством, которым он распознавал химеру страха, забиравшую власть над Венькой, Баранов понял сейчас маету Елены, отстраненной от главного в Сталинграде дела, внял ее молчаливому зову о помощи.
— Пойдешь на Ельшанку? — спросил он. Нога, которой он после ранения мучился, отошла, успокоилась.
Он ее не замечал. Его тайной радостью было знать, что нога здорова.
— Пойду.
— Тогда по коням. — Он погрузился в карту, в отведенный ему район.
Нога вела себя молодцом.
На виду полка Баранов чувствовал себя вообще иначе, чем на дежурстве, — вовлеченным в дело, которое превосходит его; это давало ему новые силы. Бой не кончится ни сегодня, ни завтра. Ни через месяц, ни через год. Рывки, авралы — мощные, сверхмощные, но одноразовые — не изменят, не облегчат ноши, выпавшей всем им. Чтобы все выдержать и дойти до конца, нужны неослабные, слагающиеся из беззаветности каждого усилия — в каждый день, в каждый час этой жизни, этой битвы. Катить свои валы, как Волга.
В лицах вокруг — сочувствие, которым провожают, и облегчение, плохо скрываемое: выбор командира сделан,
Баранов рулил на взлетную с ветерком. Лена, чувствуя на себе внимание аэродрома, вопреки обычной мягкости и осторожности гнала свой «ЯК» по колдобинам. Поравнявшись с командиром, замерла на старте... Баранов повел в ее сторону головой, плотно охваченной лоснящимся шлемофоном, но что-то его отвлекло, остановило, и она увидела не его измененное сильно стянутым ремешком и поэтому асимметричное лицо, даже не профиль, а то, как сумрачно и ярко сверкнули во мраке глазных впадин его глаза.
Вслед за тем два маленьких самолета, подрагивая и вразнобой покачивая крыльями, со сдвоенным моторным ревом, нараставшим и падавшим в такт толчкам, устремились в сторону Волги... Рулежка, разбег не занимали летчика, его мыслями владела Ельшанка; Бахарева, напротив, была поглощена взлетом.
Мужская непреклонность командира, кроткое усердие напарницы.
Прощальный, громогласный рев двух «ЯКов» еще висел, замирая, над полем, когда открылся поднявшимся в прохладу неба летчикам рубеж из шевелившихся и отражавшихся в зеркале реки дымов и острых, сварочных проблесков огня; Баранов, минуту назад не думавший, что возьмет с собой Елену, понял тех, кто придерживал, отводил ее от бойни; только сейчас дошло до него прозвучавшее в словах «Пинавта» о Елене: «Так и рыщет», — нетерпение новичка.
Оглянувшись на Бахареву, начавшую заметно отставать, он пожалел о своем решении.
...Накреняя сильно пущенный по белесому льду корпус вправо, влево, нетерпеливо стуча клюшкой о лед, пробуя клюшку, пробуя лед, видя свой змеистый, парящий бег глазами трибун, чувствуя их одобрение, наслаждаясь собственной ловкостью и смятением во вражеском стане (воротник фланельки трепещет на ветру и бьется, как крылья птицы — «Хоба!») — так врывался центр нападения Баранов в зону противника...
Он оглянулся.
Бахарева плелась далеко внизу, где сквозь клубы черного, белого, желтого дыма прорывались беглые вспышки артиллерийской стрельбы. «Надо было брать Веньку, — снова подумал Баранов. — Отстанет, потеряется — все. До Ельшанки нас двадцать раз прихватят порознь и расщелкают... Я ведь у нее машину отнял, — вспомнил Баранов. — Новенький «ЯК», с конвейера...» В Конной он вскочил в указанный ему самолет по тревоге, не зная его хозяина, и ушел на задание, понимая одно: Баранова без «ЯКа» не оставили. Новая машина век прожила короткий, а встряска во время тарана, ранение, госпиталь, уход из Сталинграда заслонили в его памяти тот мелкий случай. Сейчас он вспомнил о нем. Понимая, что накололся, взяв с собой Елену, пытаясь себя оправдать, вспомнил отнятый у нее самолетик...
Вместе с тем он отмечал, как упорно ведет она догон.
Без суеты и без скованности, свойственной новичкам. Неторопливо перекладывает свой «ЯК» с крыла на крыло, подскальзывает и уходит от зенитных разрывов.
Видит пространство.
Хорошо видит, хорошо его контролирует.
«Не усугублять просчета, не упорствовать в ошибке», — говорил себе Баранов, этому война его научила тоже. Не зарываться. Боящийся признать ошибку ступает по трясине. Он был себе не рад, корил себя за безрассудство, и вот он что предпринял: растянуть маршрут. Удлинить его, получить запас высоты. Тем временем и Бахарева, возможно, совладает с собой. Подойти к Ельшанке, насыщенной огнем, с превышением... Такой складывался у Баранова план, план, редко когда совпадавший с реальным ходом боя, но всегда ему необходимый в качестве подспорья. Преимущество в высоте — отправная точка. Остальное — по обстоятельствам.
Он отвернул от города — за Волгу, в степь, на высоту.
«Великодушие требует жертв, — грыз он себя, в меру сил стараясь обезопасить Бахареву. — Подождет Ельшанка... Успеется».
Елена поняла его маневр. «Старается Елена... Жмет». Этого у женщин-летчиц не отнять — старательны. Очень. До беспощадности к себе. Выжимают все, на что способны, до последней капли.
В кабине становилось свежо, подступала граница кислородного питания.
Теперь — на Ельшанку.
Он принял план и следовал ему, но внутреннее напряжение не спадало. Белесый лед хоккейного поля, где он гонял по краю плетеный мячик, возник перед ним как напоминание о легкости, свободе, удали других вылетов, бремя ответственности давило его. «Боязно», — вспомнил он честного Амета. Поздно вспомнил. Бахарева в его мыслях была неотступно, что бы он ни делал, помнил с тревогой: она рядом.
Мощное облако вырисовалось впереди.
Снизу плоское, оно ступенчато высилось, громоздилось и заваливалось светлой вершиной, как преграда на их пути. Баранов чуть уменьшил скорость, уверенный, что делает это в интересах Елены, — сокращает разрыв, помогает Бахаревой достать его. Меж тем близость Ельшанки ее не страшила. Слабо начавшая вылет, она в пространстве, дышавшем опасностью, прибавляла у него на глазах, становилась раскованней, зорче. «То, что надо, то, что надо», — ободрял он себя, понимая, что сам нуждается в ней, опасаясь внезапного удара, который расколет их пару, отторгнет, отрежет от него Елену. Она была ему необходима. В одиночку сюда выходят разве что зубры вроде майора, сбитого над Конной, обычно «мессеры» пасутся вдоль реки стадами, табунятся в боевых порядках, кратных двум: четыре, шесть, восемь «худых», связанных одной радиоволной, скрепленных железным повиновением командиру. Шесть, восемь мобильных «мессеров», готовых располовиниться, расчлениться для удара с двух сторон... Словно бы читая его мысли, она подтянулась ближе... нагнала его, заняла свое место. В толще облака с завалившейся вершиной и льдистым отблеском основания таилась угроза. Лена приподнялась повыше, чтобы лучше все видеть. Кренится вправо, кренится влево, открывая себе обзор, расширяя его, упреждая опасность... Сторожит его, оберегает, господи ты боже мой... Готова ринуться вперед, всех разметать... Ну, девка!
Весь настороже, он боялся попасть под внезапный удар, под слаженную атаку численно превосходящих «мессеров», а случай, слепой и неусыпный господин войны, вознаградил их, Баранова и Лену, преподнося все выгоды, какие получает нападающая сторона: на божий свет из тьмы облачной громады выпал немецкий разведчик «Дорнье». Свалился на голову Баранова. На самое темечко. Точнее сказать, на загривок, на шею, что в первый момент лишало его возможности каких-то действий, — немец завис беззащитным толстым боком перед Бахаревой, сам подставил себя под ее
удар.
— Он же твоя жертва! — вскричал Баранов. Все отлетело от него с этой редчайшей возможностью влепить немецкому разведчику свинца не раздумывая... Если бы даже взбрело Михаилу в голову создать какие-то условия для ее почина, для ее первого боя, он бы не придумал ничего лучшего, чем этот увалень, двухкилевой «Дорнье» — разведчик, по собственной воле вставший под удар Бахаревой. Нажать гашетку, жахнуть!.. Он заклинал ее — ударь. Отсутствие навыка сказалось — Елена медлила. Стала задирать, задирать «ЯК», вздыбила его «свечой», заелозила, зашаталась, улавливая уходящую толстую «Дору» в прицел...
— Он же твоя жертва, — жарко повторял Баранов, находя уже собственную вину в том, что «Дора» от них ускользает: всю дорогу скребся, заполучая высоту, дабы ударить наверняка, каких-то метров недобрал...
Думая так, он круто, круто выворачивал вслед за удиравшим разведчиком, под хвостовой огонь его воздушных стрелков, не любивших, когда численное превосходство на стороне русских, сплоченных опасностью, отсекавших свою гибель, свою смерть встречными трассами...
...Распустив привязные ремни, устало выбросив руки на борт кабины, Баранов распорядился:
— Ведерко с краской! Механик, все поняв, побежал к соседу.
Командирский навык, сильный в Баранове, подсказывал ему: ждать, пока Елена подойдет с докладом. Но радость удачи подняла его из кабины, — он сам пошел ей навстречу. Смелые решения всегда лучше, вылет, сопряженный с риском, ближе к успеху, чем осторожное кружение по околице.
И бездонен, неизъясним процесс сближения!..
Он шел быстро, не замечая вновь появившейся боли в ноге, слегка на нее припадая, величаво-жуткое зрелище стояло у него в глазах, привлекая к себе и до конца ему не раскрываясь: «Дора» беззвучно, с нарастающей быстротой, не кувыркаясь, падала вниз, во мглу, стелившуюся над землей, растворилась в ней и вспыхнула спичкой.
Бахарева, казалось бы, должна совершенно его успокоить уже тем, что стоит в брезентовых сапожках, целехонька, с непокрытой на ветру головой, но как раз ее полное благополучие, ее молодцеватый вид напомнили Баранову растерянность, пережитую им в воздухе.
— Упустила «Дору»? — спросил Баранов с ходу. — Прошляпила?
Как будто затем спешил, чтобы укорить ее.
— Товарищ старший лейтенант, — возбужденно отозвалась Лена, — я его еще за облаком увидела! — Готовая все признать, она говорила правду. — Тень мелькнула — он! Немец!.. Я его ждала и подловила...
— Хотела подловить...
— Предохранитель!.. Нажимаю, стрельбы нет, а он уходит из прицела... предохранитель-то не снят!.. Товарищ старший лейтенант, забыла снять предохранитель!
— В полете коробок тупеет, — сдержанно, не очень строго пояснил Баранов, замечая, как пытается Бахарева и не может унять бьющий ее озноб. — Грохот мотора, голову трясет, все это сказывается. В воздухе не так хорошо соображаешь, как на земле. Процентов сорок, думаю, остается. Отсюда: порядок действий, свой маневр всегда знать твердо. Почему же ты меня не поддержала, как я за «Дорой» кинулся?
— Ужас, ужас, ужас, — говорила она, глядя в худое лицо старшего лейтенанта с еще более заметно проступившей за время полета щетиной, готовая принять справедливый гнев Баранова и страдая оттого, что оказалась беспомощной именно у такого летчика на глазах. — Я в штопор свалилась, — призналась она, как на эшафот всходя.
— От усердия, — улыбнулся Баранов: ее доверчивость, ее открытость дышали боем.
— В штопор на «ЯКе», представляете? Его же нарочно в штопор не загонишь, правда? Такая устойчивая машина.
— Спешка наша. — Баранов, начиная чувствовать боль, переступил с ноги на ногу. — Все норовят поскорее стрельнуть, поскорее фрица в сумку... Зачем? — спрашивал он, мельком взглядывая на ее спекшийся в жару кабины рот, на волосы, которые трепал ветер, и его решение взять с собой на Ельшанку не Веньку Лубка, а Бахареву представлялось ему сейчас не только оправданным, но единственным и обязательным. — А вот когда разместится в прицеле, тогда его бей!.. Коли враг открывается, его надо бить в сердце.
— Товарищ старший лейтенант, но я в него попала? Безжалостно правдивая, она была полна понятным ему смятением быстрой, непохожей на ожидание схватки, вместе с ним пережила впервые дохнувшую на нее вечность сближения, которым выцарапывается в воздушном бою победа.
— Куда?! — остановил Баранов механика, трусившего к его машине с ведерком краски.
— Звездочку малевать!
— Отставить!
Собственная правота, вопреки сомнениям и боязни торжествовавшая в риске и огне, служила Баранову лучшей наградой.
— Звездочку надлежит рисовать на самолете старшего сержанта Бахаревой!.. С левой стороны, повыше, чтобы все видели. Да без подтеков, ясно?..
Распоряжаясь звездочкой и наставляя механика, Баранов чувствовал, как прибывают в нем силы, в которых он так нуждался.
...Известие о том, что старший сержант Бахарева сбила немецкий бомбардировщик «Дорнье-215», распространилось быстро. Баранов и Лена были вызваны на КП дивизии к прибывшему из Москвы генералу.
— Зачем к генералу? — спрашивала Лена. — Я с генералом никогда не говорила...
— Поговоришь. Он тебе духи подарит...
— Какое имели задание? — без околичностей начал крупно сложенный рыжеватый генерал, подчеркнуто обращаясь к Баранову, летчицы как бы не замечая.
— Прикрыть с воздуха район Ельшанки...
— И как?
— В результате воздушного боя сбит немецкий разведчик «Дорнье-215».
— «Дорнье» — «Дорнье» и есть, а кто «горбатых» будет прикрывать?! — рявкнул генерал, имевший большие полномочия, но не имевший самолетов и летчиков, чтобы эти полномочия осуществлять. — Кто будет «ИЛов» прикрывать, старший лейтенант, я вас спрашиваю?! — генерал багровел, силясь и не умея установить конкретного виновника плохого прикрытия штурмовиков.
Лена слушала разнос, по-солдатски вытягиваясь в струнку.
Нелегко взять на себя ответственность за решение, навязанное превосходящими силами врага, едва ли меньшее мужество необходимо командарму, чтобы признать допущенный им просчет.
Испытанный способ подавления вражеской авиации, знакомый Хрюкину еще по Сарагосе и примененный немцами 22 июня почти на всем фронте вероломного вторжения, состоял в нанесении упреждающих ударов по аэродромам. Вот почему уничтожение самолетного парка на земле, как средство борьбы за господство в воздухе, составляло одну из важнейших задач Хрюкина под Сталинградом. Пытаясь блокировать узлы 4-го воздушного флота Рихтгофена, покрывшего все Придонье (1200 машин в боевом строю) наличными силами армии (в начале августа — 78 исправных самолетов), Хрюкин посылал на Морозовскую, Котельниково Обливскую, другие аэродромы экипажи одноместных штурмовиков «ИЛ-2» без эскорта истребителей. Да, оголенным боевым порядком, без прикрытия. «Надежная броня, скрытный подход к цели, умелое использование фактора внезапности, — обосновывал он свой приказ, — позволяют самолету «ИЛ-2» вести боевые действия автономно...» Противник на примере Обливской опровергал его решение, и Хрюкин, отступавший от границы до Волги, рабом своей идеи не сделался.
Жестокие потери в штурмовиках вынудили генерала отказаться от их автономного, без поддержки истребителей, использования. На ходу исправляя свою ошибку, он вместе с тем призывал командный состав армии и впредь «избегать шаблона, застывшего трафарета и схемы» и первым себя понуждал к новому поиску, к новому риску, на войне столь в цене дорогому.
Командующий 8-й ВА генерал-майор авиации Т. Т. Хрюкин — командиру штурмовой авиационной дивизии Ф. Т. Раздаеву, 29 августа 1942 года. Сталинградский фронт:
»... Части 8-й ВА в течение трех недель беспрерывно ведут напряженную боевую работу, отдельные экипажи «ИЛ-2» производят за день 2 — -3, а истребители 6 боевых вылетов, сопровождаемых жестокими воздушными боями, — летный состав устал. Отмечены случаи некоторого притупления бдительности в воздухе, проявления нездоровой нервозности, вспыльчивости на земле, в том числе факты применения без всякой необходимости личного оружия. Нервное перенапряжение ведет к неоправданным потерям в воздухе, чего следует избежать. В этих условиях необходимо особо тщательное проведение постановки боевой задачи — не как казенной меры, а как средства мобилизации всех способностей летчика на победу. Постоянным личным общением с экипажами «ИЛ-2», личным опытом и показом своевременно устранять элементы неуверенности и недостатки, поддерживать высокий боевой дух.
Обращаю внимание, что ни в одном донесении, где говорится о невозврате с боевого задания «ИЛ-2», не сообщается, почему же они не вернулись, то ли сбиты над территорией противника, то ли подбиты и произвели вынужденную посадку на нашей стороне. Никто от командира дивизии до писаря не желает задуматься над этим. Требую покончить с таким положением, когда гибнущие летчики и ценнейшие самолеты перестали быть в глазах «штабных чиновников» людьми с боевым оружием, а превратились в отвлеченные статистические единицы...
В штурмовых полках только отдельные летчики, как капитан Смильский, и лишь в тех случаях, когда другого выхода нет, вступают в активный бой против «мессеров». Подобные факты личной отваги и мастерства заслуживают всяческого поощрения. О них должны знать также летчики истребительных частей, чтобы всегда стремиться на помощь «ИЛ-второму». Ибо с чувством одиночества победить нельзя. Победить можно, когда любовь к Родине, сознание кровного единства с лучшими сынами народа, не щадящими себя в этой битве, вытеснят из души все побочные чувства.
Невзирая на трудности подвижного базирования частей дивизии под натиском врага, предлагаю изыскивать способы и при первой возможности осуществить совместный разбор боевой работы штурмовиков и истребителей, с тем чтобы такие мероприятия, укрепляющие спайку летного состава, носили систематический характер».
Командующий 8-й ВА генерал-майор авиации Т. Т. Хрюкин — командиру истребительной авиационной дивизии полковнику И. П. Дарьюшкину, 1 сентября 1942 года:
»...Находясь на передовом командном пункте в секторе ожесточенных воздушных боев за Сталинград, я вижу, что абсолютное большинство летчиков Вашей дивизии дерется замечательно, но есть единичные трусы, которые позорят имя человека русской земли, не знающего поражений, не гнущего свою спину ни перед кем. Попадая в воздух, клацая зубами от страха, эти ловчилы и негодяи при первой же отдаленной встрече с врагом бегут с поля боя, оставляют в одиночестве против превосходящего по количеству противника подлинных патриотов, героев нашей Родины, сами же поражаются немцами в спину и погибают, как бесславно погибает всякий трус. Пусть же дрожащий за свою шкуру наперед знает, что на земле его не ждет поддержка мягкосердечного командира или комиссара, что на земле его постигнет суровая кара, мука и позор перед народом...
Рост боевого мастерства не стал еще первостепенной заботой командного состава Вашей дивизии. Отсутствует четкое распределение обязанностей и организация боя в группах прикрытия. Воздушные бои ведутся гамузом, чрезмерно большое количество самолетов в одной атаке приводит к неразберихе, потере управления. На моих глазах девятка наших истребителей, сопровождавшая штурмовиков, ввязалась в бой против «МЕ-сто девятых», оголив группу «ИЛов». Желая исправить такое положение, летчик-истребитель старшина Лавриненков подал по радио команду: «Истребители, выходи налево, станьте по своим местам!» — и вторично:
«Истребители, ближе, ближе подойдите к «ИЛам»!» Обе грамотные команды хладнокровного старшины Лавриненкова отчетливо прослушивались мною по рации, но вместо их выполнения истребители, за исключением старшины Лавриненкова и его ведомого, ушли наверх и продолжали бой с «мессерами». Оставшиеся без должного прикрытия штурмовики понесли тяжелые потери.
Безынициативность и боязнь ответственности в такой решающий момент являются наибольшим злом. Требую покончить с формализмом, когда задача летному составу ставится шаблонно, без учета обстановки, без анализа тактики противника, без использования накопленного нами опыта, в частности в организации совместных боевых действий истребителей и штурмовиков. Все средства убеждения и разъяснения подчинить тому, что советский летчик-истребитель во всех случаях должен побеждать. От истребителя зависит наша победа в воздухе и обеспечение успешных действий войск на земле Сталинграда».
Командующий 8-й ВА генерал-майор авиации Т. Т. Хрюкин — члену Военного совета 8-й ВА, 30 августа 1942 г. Записка.
«Тов. бригадный комиссар!
По данным оперсводки, на аэродроме Обливская штурмовики т. Раздаева в результате налета уничтожили до 30-ти с-тов пр-ка. Это ложь. Она путает нам карты и очень вредна. Фотоконтроль, осуществленный по моему приказу, показал, что бомбометание выполнялось не прицельно, вражеская техника цела, летное поле исправно, аэродром действует интенсивно. Повторный налет на Обливскую вопреки донесению липача был также не эффективен.
Налицо порочная практика: нам врут, и мы врем. С этим безобразием надо кончать».
Командующий 8-й ВА генерал-майор авиации Т. Т. Хрюкин — командиру штурмовой авиационной дивизии полковнику Ф. Т. Раздаеву, 1 сентября 1942 года:
«В связи с Вашим запросом и необходимостью частичного переформирования на месте разрешаю проведение летно-тактической конференции 2 сентября. Лично присутствовать не могу. Анализировать строй и боевые порядки штурмовиков целесообразно с учетом специфики развернувшихся боев за город. Сегодня в центр внимания должен ставиться вопрос взаимодействия истребителей и штурмовиков как слабейший элемент боевой подготовки и практических действий авиации на поле боя. Доклады поручить авторитетным командирам. К обсуждению привлечь широкий круг летчиков. Выводами, рекомендациями конференции ознакомить меня безотлагательно».
Поздним вечером, когда укладывались спать завзятые, бог весть откуда привалившие гулены, адъютант эскадрильи объявил: сержанту Гранищеву завтра перелететь в поселок Ж. и принять участие в дивизионной конференции. «Что за конференция? О чем?» — раздались голоса. «Собирают летчиков... Насчет взаимодействия, — неопределенно отвечал адъютант. — Прочли докладную сержанта, велено быть...» Кто-то из молодых сострил: «Сообщение ТАСС: Солдат — делегат конференции...»
Перелет поручался Гранищеву с места в карьер, то есть без тренировки, предусмотренной и, пожалуй, не лишней после его падения.
Полное доверие.
Садись и лети.
«Дают передышку», — понял Павел.
«Спарку», двухместный учебно-тренировочный самолет в рыжеватых подпалинах моторной гари на светлых боках, готовил старшина Шебельниченко. Гранищев выжидательно прохаживался за хвостом машины. Поселок Ж., о котором много разговоров, — прифронтовая база, тыл, где действует палатка Военторга, садятся московские «дугласы», дают кино... Вчерашняя реплика «Сообщение ТАСС...» ему не понравилась. «Наш пострел везде поспел» — таков ее подтекст. Если не покруче...
Тем отраднее было видеть Павлу, как ретив на своем посту старшина Шебельниченко: «мессер», сбитый Гранищевым, вообще расположил к нему техников. «Ни одного командира пока не потерял», — счел нужным сообщить ему Шебельниченко. И верно, летчики, которых он обслуживал, попадали в госпиталь, к партизанам, один, оглохший от контузии, сошел с летной работы, но погибших за год войны не было. Усердие старшины имело также и корыстные мотивы. Искусство легкого, быстрого схождения с женщинами было даровано ему без знания тайны столь же непринужденного расставания с ними, и все его истории кончались скандалами. «Конечно, если в картохе или в чем другом ни одна не откажет, — оправдывался старшина, — а больше трех дней в деревне не стоим...» На днях он снова влип, дело дошло до батальонного комиссара, и в предчувствии беды старшина работал старательно. Садясь в кабину, всем своим видом обещал: «Послушайте... сейчас!..» — но магнето, как назло, давали сбой. «Искра в «дутик» ускакала!» — объяснял Шебельниченко и лез в мотор, в проводку, снова в кабину — мотор не запускался. Деловитость и темп, которыми он хотел бы окрасить проводы Солдата, смазывались. Взопревший старшина одаривал Гранищева полуизвинительной-полуободряющей улыбкой: дескать, не на задание, командир, не торопись, свое получишь... Возвестив наконец:
«Дилижанс подан!» — и встав рядом с летчиком, чтобы вместе полюбоваться исправным самолетом, сделавший свое дело старшина шепнул ему тихонько:
— Свидание состоится!..
— Какое? — насупился Павел, краснея.
— Не бойся, у самого холка в мыле: «Ухаживать за девчатами, проявлять распущенность — преступление во время Отечественной войны...» Знаю... Тем более — боевая летчица.
Понимая бессмысленность мальчишеского запирательства, Павел спросил кисло:
— От кого узнал?
— У меня по этой части глаз — алмаз!
— Старшина, чтобы дальше... чтобы, кроме тебя, ни гу-гу...
— Могила!.. Счастливого свидания, командир!
Выяснилось, что Гранищеву не дали талонов для питания. Летчик плюнул было на талоны. «Как можно, товарищ командир! — Лютый голод сверкнул в глазах Шебельниченко. — Вы что?!» Дождались посыльного. Вместе с талонами на стоянку прибыл завтрак для старшины — котелок каши.
Шебельниченко провожал машину, не выпуская котелка из рук, торопливо глотая теплое варево; пока Солдат рулил, замызганная «спарка», отработавшая все ресурсы, громыхала на рытвинах, что-то внутри ее бренькало, грозя лопнуть, треснуть, обломиться, и все это отражалось на лице старшины, страдавшего и верившего в свое детище, — пока с плавным отделением машины не восторжествовал в небе — ив душе механика — дух успокоения, распространяемый ровной песней мотора...
Развернувшись на восток, самолет низко над степью помчал Гранищева в прифронтовой поселок Ж. Павел радовался этому, как будто улетал за тридевять земель; чем дальше оставалась Волга, тем удивительней, неправдоподобней казалось ему все, что с ним происходило в степном междуречье, словно бы не они с Грозовым бомбили километровую колонну танков и не он дрался один на один с «мессером»; он не знал, сумеет ли в другой раз так с ним схватиться и расправиться, хватит ли у него сил... Он мчит туда, где Лена, и готов показать себя, как другие на «ИЛах» не показывали; проходя над поселком Ж., где его могли видеть все, — разумеется, и Лена («Свидание состоится»!), и прославленный Баранов, с которым он почеломкался, — Павел, заваливший «мессера», от избытка чувств провернул свой самолет вдоль продольной оси — крутанул в небе «бочку», фигуру, входившую в тренировочные программы летчиков-истребителей, но пилотажным реестром «ИЛ-2» не предусмотренную...
— Кто?! — поперхнулся полковник Раздаев, наблюдая за шальным «ИЛом» с порога аэродромного КП. Глаза полковника округлились, подбородок отяжелел, но гнева, обычного в нем в такие минуты, Федор Тарасович не испытал. Всю жизнь пролетав на тяжелых машинах, сам он и фантазии не имел крутить на «ИЛе» «бочку». Он даже толком не представлял, как технически она выполняется... Сколько задора и беззаботности должно быть в душе разгильдяя, если в такой момент он сверлит небо, сверкая крыльями, извещая всех и вся: «Я жив и здоров, да возрадуются ваши сердца по этому поводу!..»
— Чей летчик?
— Был звонок из хозяйства Егошина, — доложил дежурный. — На «спарке» вышел сержант Гранищев...
— Сначала Гранищев на земле откалывал номера, теперь... А взыскать не с кого!.. Еду в поселок, в клуб, — сказал Раздаев дежурному, садясь в машину.
Летно-тактическая конференция, на которой так настаивали генерал Хрюкин и его заместитель по политчасти Вихорев (сотоварищ Хрюкина по летной школе), начала свою работу 2 сентября 1942 года в 7 часов 20 минут в помещении поселкового клуба, присмотренного медицинской службой фронта под госпиталь (тес для постройки нар и топчанов, завезенный самолетами, лежал штабелями посреди двора, источая подзабытый запах леса, а задержку с началом плотницких работ дивизионный комиссар, начальник политотдела дивизии, покрыл тем, что помог медслужбе задействовать дополнительные «дугласы» для переброски раненых в тыл).
...Летчики рассаживались молча, высматривая в президиуме своих. За кухонным столиком, вынесенным на сцену, кроме сумрачного полковника Раздаева, главы президиума, уместились только двое: командиры полков — истребительного и штурмового. Остальные приглашенные сидели на табуретках неровными рядами. Из-за кулис выставлялись обмотки, «баллоны» и острые колени политрука, начальника клуба, до войны читавшего университетский курс истории. Сейчас политрук был занят тем, что наскоро обрабатывал «Анкету участника», им же составленную и пущенную по залу. Список представителей открывал полковник Раздаев: «Федор Тарасович, 1906 г. р., русский, член ВКП(б) с 1928 г., командир штурмовой авиационной дивизии, награжден орденом Красной Звезды...» Политрук — из запасных, чуткий к возрасту, — выделил триумвират старейших. В него, кроме Раздаева, вошли: командир истребительной авиационной дивизии полковник Сиднев Б. А. («1908 г. р., с прибытием задерживается, — отметил хронист. — Сбит в возд. бою, врач настаивает на госп.») и полковник Дарьюшкин И. П., также командир авиационной истребительной дивизии («1910 г. р. Вызван команд, ген. Хрюкиным на доклад»). Вывел политрук и средний возраст летного состава — 21 год. Цифра сложилась главным образом за счет выпускников Сталинградского имени «Сталинградского пролетариата», Молотовского и Чугуевского училищ, только что прибывших на фронт и боевой работы еще не начавших. «Почему не учел Баранова? — спросил Раздаев, бегло пробежав список. — Учти обязательно!»
«Слушаюсь!»
Старшего лейтенанта Михаила Баранова в зале не оказалось.
Летчики — без комбинезонов, с планшетами и шлемами на коленях, готовые проследовать из клуба прямо к самолетам, — терпеливо ждали начала, вверяясь полковнику Раздаеву, знавшему, обязанному знать все. Роль секретаря-стенографа сорокалетний политрук исполнял, проникнувшись сознанием момента. Поставив дату «2 сентября 1942 г.», он на полях убористо разместил вставку: «Пошел четвертый год второй мировой войны. 2 сентября 1812 года Наполеон на Поклонной горе ждал ключей от города, «но не пошла Москва моя к нему с повинной головою...». Навык конспектирования манускриптов-первоисточников помог политруку уловить главное в выступлениях незнакомых авиаторов. Полковник Раздаев Ф. Т. (в тишине, не повышая голоса):
— Товарищи, Сталинград объявлен на осадном положении. Получено обращение Военного совета к гражданам;
чтобы не затягивать, я зачту концовку: «Все, кто способен носить оружие, на баррикады, на защиту родного города, родного дома!» Это относится, конечно, и к летному составу нашей дивизии. Докладываю порядок следования на аэродром по получении сигнала. Первыми отбывают наши гости — истребители, за ними — личный состав майора Чумаченко, третьими — полк Васильева. Майор Егошин возвращается в полк сразу после доклада. Хочу сказать, что неблагоприятные условия немецкого засилья в воздухе, большие потери и недостаток материальной части не сломили нашей воли. Только в период с восьмого августа по первое сентября, невзирая на вынужденные перебазирования, в обстановке отхода войск, летчики нашей дивизии произвели свыше трехсот боевых вылетов. На сегодня положение остается тяжелым. За ночь оно ухудшилось. После выхода к Волге севернее города противник ценой огромных потерь пробил нашу оборону с юга. Линия боевого соприкосновения проходит сейчас по Конной, где мы базировались неделю назад, по Воропонову. В настоящее время немецкие танки прорвались на окраину Воропонова. Пояснить больше нечего. Здесь присутствуют молодые товарищи из пополнения. Выпускники Сталинградского училища знают, где Гумрак, где Воропоново...
— На физподготовке кросс до Воропонова гоняли! — подал реплику кто-то из дальнего угла, где сидели истребители-сержанты. На марафонца зашикали, он оправдывался: — Была дистанция, бегали! У нас в Бекетовке аэродром был!
— С опозданием усадил нас немец учиться, — заметил другой новичок, — сегодня второе сентября...
Поднялся шумок.
Раздаев умел цыкнуть. Зычно, «на нерве».
Новички-сержанты, поднявшие гомон в задних рядах, как он понимал, неспроста, могли схлопотать от полковника запросто.
Но Раздаев, терпеливо склонив голову, переждал «галерку».
Потом, глянув в шумный угол, с кроткой назидательностью произнес:
— Александр Македонский с восемнадцати лет воевал! В желании выказать себя эрудитом и ободрить молодых, в кривой усмешке организатора, который сам-то насчет речей и прений в данный момент заблуждается, проглянуло что-то заискивающее, жалкое... Уж лучше бы он цыкнул, как умел!
— Командующий генерал Хрюкин требует, — продолжал Раздаев, овладевая собой, — поставить взаимодействие между штурмовиками и истребителями как следует быть.
Мы сами знаем свои недоработки... Знаем. Надо назло врагу ликвидировать их. Группы на сегодня сформированы. По сигналу «Сокол» уничтожать вражеские войска в районе Гумрака, по сигналу «Смерч» — в районе Воропонова...
Он приподнял разведенные в стороны тяжелые руки, как орел, воздевающий крылья, чтобы толкнуться о воздух, и объявил:
— Начнем...
...Собравшиеся сгруппировались в зале по полкам, но не строго: молодые, радуясь встрече, — три дня не виделись, сколько новостей! — разобрались по училищам, по своим курсантским компаниям, а гроздья однополчан чередовались, так что размежевания зала на два клана, на истребительский и штурмовиков, не произошло.
Но единства в зале не было.
Летчики-истребители — цвет и гордость ВВС с довоенных времен: первыми Героями и гвардейцами советско-германского фронта стали они же, истребители... Цену себе истребители знают. Но трагический ход войны, отступления, мясорубка донских переправ, шквал августовских бомбежек при соотношении сил три, четыре, пять к одному в пользу противника заколебали ряды истребителей, тень легла на их былую славу. Предрассветный Гумрак, факелы «девятки» над ним след в душе Егошина оставили глубокий.
Летчики-штурмовики прошлым не кичатся, пехота им благоволит: «Где наши «ИЛы», там фрицам могилы. «ИЛ-два» — противовражеский самолет...»
Основного докладчика, Егошина, выставили штурмовики. Полковник Раздаев утвердил его не без сомнений.
Истребители, естественно, были настороже: знали, что их по головке не погладят, и ждали, какие эпизоды будут приводиться в качестве примеров; штурмовики, в свою очередь, надеялись, что их представитель проявит убедительность и такт.
«Конспекта проверять не буду!» — заявил докладчику Раздаев, делая быстрый отрицательный жест и вскидывая на майора взгляд в упор. Жест и взгляд означали, что Егошину предоставляется полная свобода действия... Карт-бланш. От кратких напутствий Раздаев, однако, не отказался. «Повода для настроений не создавать, напротив, у летного состава надо вызвать заряд активности!» — «Понял, товарищ полковник». Всю жизнь середнячок, равнявшийся на соседа и сейчас имевший перед глазами дивизию Степичева, Федор Тарасович оставался верен себе: «Включи в доклад эпизод с Рябошапкой!» Кто такой Рябошапка? Летчик Северо-Западного фронта, сбивший на самолете «ИЛ-2» «мессера». «Зачем чужого? — возразил Егошин. — У нас свои не хуже». — «Кто?» — «Сержант Гранищев». Подбородок Федора Тарасовича начал грузнеть. Сержант Гранищев, лупоглазый дроволом, едва не выбил из строя Баранова, нечего его возвеличивать. «Без отсебятины, Егошин, — и сделал другой жест, пальчиком. — Рябошапку апробировал командующий, на Рябошапку и сошлемся! Свобода действий — без отсебятины. Дело вести, как положено, все — в рамках, без отклонений. Умов не возбуждать, на авторитеты не замахиваться!» («Меня не задевать» — так следовало толковать замечание Раздаева, уже совершенно лишнее.) — «Понял».
Понял, а про себя Михаил Николаевич с полковником не согласился.
Внешне, по форме, конференция отвечала давним традициям армейской жизни, но, чтобы дать желанный результат сегодня, повлиять на ход воздушного сражения в Сталинграде, она не должна, не могла быть дежурным, для «галочки» проводимым мероприятием. Новый, грозный, решающий день требовал нового содержания.
При всех условиях докладчик обязан был не сплоховать.
И начал Михаил Николаевич, объявленный председательствующим, темпераментно, с размахом.
— Штурмовая авиация за год войны, — заявил он, — своими решительными боевыми действиями нанесла сокрушительные удары по оголтелой банде фашистских заправил!
Случая ударить непосредственно по банде фашистских заправил никому из летчиков не представлялось; но прицел, взятый оратором, хотя и далекий от заволжского поселка, где они сидели, равно как и сама горячность зачина, импонировали. Политрук, исполнявший обязанности стенографа, понимал, что клуб пойдет под госпиталь, его, политрука, вновь куда-то перебросят, и в свою последнюю роль на клубной сцене вкладывал также и то, что сумел приметить, вращаясь среди летчиков. Так появилась краткая, не по существу, запись о трех гимнастерках английского сукна, выделенных по армейской разнарядке для офицеров штаба дивизии Раздаева. Майор Егошин — представитель полкового звена, ни одна из трех гимнастерок, пожалованных союзниками, ему не предназначалась. Раздаев, однако, ожидая появления генерала Хрюкина на конференции, распорядился обмундировать докладчика, и Михаилу Николаевичу перешла гимнастерка не вернувшегося с задания начальника воздушно-стрелковой службы, ни разу им не надеванная. Егошину гимнастерка была маловата. Не прерывая речь, он раз или два осторожно запустил палец под тесный ворот и слегка его оттягивал, помогал себе движением подбородка... Воздавая должное штурмовой авиации, Егошин без нажима, но так, чтобы братцы-истребители мотали себе на ус, проводил мысль о высокой ценности каждой боевой единицы, каждого экземпляра «ИЛ-2»:
— Самолет конструктора Ильюшина является лучшим штурмовиком среди всех штурмовиков мира как по вооружению, так и по защите уязвимых мест...
Два дня назад Михаил Николаевич приковылял с задания на исхлестанной машине, многие, в том числе истребители, видели, как он, покачиваясь, щупая «дутиком» землю, садился, а потом и самого, выпотрошенного, будто сквозь строй прошедшего летчика; жадно затягиваясь дымком, он вялым жестом влажной, натруженной ладони отсылал от себя всех любопытствующих к «ИЛу», герою дня, к его как будто заговоренным уязвимым местам — рассказывать, давать объяснения летчику было невмоготу...
За полтора суток Михаил Николаевич, что называется, оклемался: отоспался, подготовил доклад и даже постригся, доверившись смелым портновским ножницам, отчего его волосы воинственно топорщились...
Воодушевленный созывом конференции, возможностью высказать соображения, такие важные сегодня и для него, и для всех, Михаил Николаевич счел уместным обрисовать, каковы же, по его представлениям, первейшие качества настоящего летчика-штурмовика.
— Этот человек, — веско суммировал он, — должен быть физически сильным, волевым, бесстрашным, мастерски владеющим самолетом на малой высоте...
Сходство между собирательной фигурой и личностью самого майора не только угадывалось, но и признавалось. Свой для штурмовиков, он располагал к себе и истребителей.
Чувствуя крепнущий контакт с аудиторией, Егошин сформулировал свой первый вывод:
— Главная причина срыва взаимодействия между истребителями и штурмовиками — плохая связь... Еще бы не она! Все согласны: так.
А в полках ответственные за службу связи лица подчас используются не по назначению и занимаются черт-те чем, от разведения хлорки до регулирования тросов... Где же выход?
— Базировать истребителей и штурмовиков вместе, на одном аэродроме! Что, к сожалению, — тут же признал докладчик, — не всегда возможно: создается скученность. Немцам при их господстве в воздухе такая скученность только на руку. Кроме того, велики трудности размещения, особенно летного состава. Жилья, элементарных условий для отдыха нет, пищеблок буксует... Практически штурмовики и истребители базируются пока что порознь и встречаются в воздухе, чтобы следовать на задание, двумя способами. Вариант первый, наилучший: «ИЛ-вторые» в назначенный час строем приходят на аэродром истребителей. «ЯКи» взлетают, как условлено (вот оно, труднейшее место доклада. Нет полка истребителей, стоявшего в Гумраке, сгинул без следа, и мог бы Егошин напомнить, какой ценой оплачена беспечность истребителей... Но — удержался: дружбу помни, а зло забывай, зла за зло не воздавай). Второй вариант: когда мы уже издали вместо клубов пыли видим мертвую пустыню и понимаем, что истребителей прикрытия мы сегодня не получим... Кстати, и в таких случаях сигнал с земли был бы желателен. Пусть посредством полотнищ, выложенных по системе «попхем»... Да, как в гражданскую, что делать? Хрестоматийный крест на земле, означающий: «Истребителей прикрытия нет, действуйте самостоятельно...»
— Иной раз истребители открещиваются от нас и на подходе к цели! — подал реплику Раздаев.
— Совершенно верно, — подтвердил Егошин. — Приходилось получать подобный крест в воздухе и нести его, оставшись в одиночестве. Товарищи еще скажут об этом.
— Хорошо, майор, не отвлекайтесь.
— Я говорю о том, что есть в жизни.
— Это — третий вариант. Худший. — Раздаев уже пожалел о своем вмешательстве. — Его обсуждать не будем.
— Слушаюсь. Перехожу к боевым строям и порядкам, — сказал Егошин.
После удачного вступления, задевшего за живое самого Раздаева, Михаил Николаевич еще больше утвердился в мысли, что конференцию следует вести именно по третьему варианту, по жизни — только так, только правдой о том, что наболело и мешает, можно вскрыть, привести в действие самые доступные, самые реальные резервы из всех, находящихсяв их распоряжении, — резервы духа. Правда возвышает язык, правда из огня спасает...
Выражение досады сошло с лица Раздаева.
Он коротко кивнул, как бы соглашаясь и говоря, что «боевые строи и порядки» — серьезный раздел, он сам послушает его с удовольствием. Полковник даже слегка развернулся корпусом в сторону оратора.
Да, так, почти академически, «строго в рамках» озаглавил Михаил Николаевич сердцевину своего доклада — «Боевые строи и порядки».
Боевые строи и порядки, если они удачны, обеспечивают относительную безопасность, создают предпосылки для слаженных ударов по врагу, разговор о них — это, по сути, обсуждение в специальных терминах таких животрепещущих проблем, как желанное и возможное, победа и поражение, жизнь и смерть. Именно этот сокровенный смысл и лежит в основе специальных терминов и доклада, к нему привлечено внимание летчиков. Сейчас тут много путаницы и неразберихи. Война отбросила старые, мирных дней представления и понятия, выдвинула новые, после года войны все только складывается, окончательного вида не имеет, а ждать нельзя. Нет такой возможности — ждать. Будешь ждать — всему конец, утопят в Волге...
Так что в душе Федора Тарасовича, с видимым удовольствием расположившегося послушать докладчика, спокойствия не было и быть не могло. Следя за рассуждениями майора, он, как и другие летчики, не мог не задаться вопросом: а сам ты что исповедуешь? Ты на что сегодня способен, полковник Раздаев?
Напомнив политруку о Баранове, Федор Тарасович искал, на кого бы ему опереться.
Действительно, опыт таких командиров-практиков, как старший лейтенант Баранов, много значит. Поднять бы его на трибуну. Самому посмотреть, другим показать — каков он, первый на фронте среди истребителей...
«С чего началось? Когда?» — думал всякий раз полковник, слыша фамилию старшего лейтенанта Баранова или заговаривая о нем.
В разгар летнего наступления немцев, — до того ли, казалось?.. ни радио не было, ни газет, — в июле, где-то за Калачом... да, как раз в середине июля пронесся слух: на севере погиб Борис Сафонов. И быль и небылица вместе. И дюжина немцев, якобы сбитых Борисом в последнем бою, и чуть ли не таран, и подводная лодка, подобравшая в открытом море бездыханного героя... Прощальные круги шли потом долго, то принося команду Сафонова, перехваченную радистами: «Прикройте сзади!», то попытку летчика приводнить подбитый самолет возле нашего эсминца... Худые вести не лежат на месте, печальный слух обычно верный. Среди кровавой сумятицы отчаянных деньков на кромке волжского берега Раздаев в него поверил, в этот первый слух. Прервался боевой счет летчика-истребителя Бориса Сафонова, начатый под Мурманском в первые дни войны, и что-то вместе с ним оборвалось. Надежда. Надежда, какую Федор Тарасович обычно лелеял, говоря: у нас-то скверно, хуже быть не может, а вот сосед, смотри, не поддается, у соседа звон идет... Да, такому упованию подошел конец. И другое, затаенное чувство испытал Федор Тарасович, близкое всем, кому вместе с голубыми петлицами выпала перед войной возможность ощутить, как благоволит народ своей авиации, не жалея ни средств на нее, ни добрых слов, и у кого с каждым шагом отступления кошки скребли на сердце, — чувство признательности североморцу. Погиб Степан Супрун, нет Сергея Грицевца... повыбило красу и гордость ВВС... Безвестный до войны, но тех же кровей, той же закваски Борис Сафонов принял на себя роль летчика номер один. На эту роль, никем не утвержденную, возводила молва, потребность армии и тыла в образце бесстрашия и стойкости, торжествовавшей в бою наперекор злой силе; ведь иной раз достаточно знать, что есть, где-то есть, существует один, не обманувший общих ожиданий, чтобы не рухнула, держалась вся вера...
Сафонова не стало, и тут явился фронту Михаил Баранов.
Не за Полярным кругом, здесь, под Сталинградом, куда стянуты лучшие силы люфтваффе.
Вот поставить бы добра молодца Михаилу сына Дмитрия перед всем честным народом и спросить: кто командир? Пусть ответит, не мудрствуя, не забираясь в дебри: кто отвечает персонально за совместный «ИЛов» и «ЯКов» вылет — истребитель или штурмовик? Пусть выскажется. Пояснит на конкретном случае, за примерами ходить недалеко. Можно взять и массированный удар, когда «Группу № 5» повел на задание он, Раздаев. Все расчеты исходили из удара по Тингуте, а на рассвете, когда вырулил Федор Тарасович во главе собранной им «армады» и запросил разрешения на взлет, затопали, замахали, закричали по живой цепочке от КП: «Отставить!»
Вместо намеченной, обдуманной Тингуты Хрюкин перенацеливал штурмовиков на Громославку: «Ч» — время удара — семь тринадцать. Громославка — клятое место, гнездование «мессеров»...
Задержанный в последний момент, Раздаев разослал своим ведомым гонцов: Тингута отменена, приказано бить по Громославке. Сам всей душой противясь Громославке, старался себя на нее настроить... Громославка для беззащитного «ИЛа» — гроб. Начал запускать мотор — заливочный плунжер не поддается. «И он не хочет», — подумал полковник о моторе. Плунжер заело, мотор молчит. «Ч» подпирает, времени в обрез. «Не опоздать!..» Подхватив руками парашют, Федор Тарасович выбрался из кабины и грузно потрусил к резервной — слава Богу, приберегли — машине. Взлетел, не застегнув шлемофона. Узкий кожаный ремешок больно стегал летчика по лицу, отвлекал, вдернуть его в пряжку или прибрать он не пытался — некогда. «ЯКи» прикрытия, поднявшись навстречу, кучно взбирались на высоту — вперед и выше. «Поршни», куда? Отставить!» — кричал им по рации полковник, не зная, пойдут ли «маленькие» вместе с «ИЛами» на Громославку или же, не получив предупреждения, проследуют ранее проложенным курсом на Тингуту. — «Поршни», отставить, кто командир?!» — выходил из себя, рвал глотку Раздаев по отказавшей рации (сгорел предохранитель: заменить его — секунда, но нет ее, секунды. Откуда?! Логово «мессеров» по курсу, Громославка!). Ремешок хлестал полковника по щеке, кто командир, он не знал. «Поршни» исчезли, растаяли в высоте, утренняя синева неба дышала холодом. Примолкший Раздаев тянул за собой «горбатых», понимая, что их вот-вот прихватят, не допустят к цели «мессера». «Не опоздать», — сипел он, проклиная бессовестно смывшихся истребителей. «Ведущего «Поршней» — в штрафную эскадрилью!» — испытал он жажду мести, может быть, уже и несбыточной... Только бы догнать, Авдыша, такого летаку, не пощадил, — вдруг вернулся он к своему поступку... жестокому... а как быть? — А этого — подавно... Со всеми потрохами, как в тридцать седьмом... Не опоздать!..» Никакая сила на свете не могла сдвинуть его в сторону от курса на Громославку, — непоколебимо вел он своих ведомых и шел сам на заклание...
Небо над Громославкой сияло спокойствием. Как будто волшебная метла прошла по страшному месту, очистив и обезопасив его... Лихорадка, терзавшая Раздаева, унялась, силы, прилившие с удачей, передались быстрой, по месту, по танкам, стиснутым балками, атаке...
Мучительно стыдно было сознавать Федору Тарасовичу на земле, какую великую службу сослужили им, штурмовикам, «ЯКи», ворвавшись в зону опасной Громославки за три-четыре минуты до прихода «ИЛов», связали боем немецких истребителей, это они увели, оттянули шакалов в сторону... Не расчет — случайность. Но возглавлял тех «ЯКов» Михаил Баранов, и он тут же обратил неразбериху себе на пользу: следующий вылет Михаил построил по стихийно возникшему образцу — намеренно упредил появление «ИЛ-2» над целью, расчистил для них воздушный плацдарм, как над Громославкой, создал «горбатым» условия для работы. Умение схватывать и творить на ходу у молодого Баранова, как говорится, в крови, это его и выделяет...
А что мог вынести на общий сбор он, Раздаев? Призыв к инициативе? Такие летчики, как Баранов, призывов не ожидают... «Бочки» крутят, черти полосатые!» — вспомнил он сверкнувшую над полем «спарку» Гранищева... Не застегнутый в спешке шлемофон, отказавшую в полете рацию?
Или публично раздеть себя, признавшись, что по сей день не знает, кто же несет ответственность за действия комбинированной группы — истребитель или штурмовик? Жизнь сильна обычаем.
Не все, что повторяется и получает распространение, входит в обычай: укореняются в жизни начала, для которых есть предпосылки, почва в сокровенных чаяниях и наклонностях человека. Обсуждения, подобные начатому, Раздаев устраивал и до войны: «Большой хурал», называли они такие сборища, летно-тактические конференции под конец сезонных учений, многолюдные, всегда для устроителя хлопотные, с необходимостью принять, разместить, накормить... предусмотреть все — от мелка и указки для инспектора до партийности выводов в развернутой резолюции и выдержанности программы заключительного концерта; эту-то сторону дела Федор Тарасович проводил без сучка без задоринки. Жизнь военного, как выяснилось, не только профессия, но и многое-многое другое, чему ни в пехотном училище, ни в летной школе не обучали и что приходится постигать самому... Как в тридцать седьмом, в Сарабузе, когда комэска капитан Раздаев стал врио, а вскоре и утвержденным командиром авиабригады. Усердием по службе, обходительностью с начальством и непреклонностью в отношениях с подчиненными покрывал Федор Тарасович то, чего недобирал в воздухе как летчик, как командир.
Но «Большой хурал» в прифронтовом поселке, подготовленный с помощью штаба и политотдела за несколько часов, напоминая обычай мирных дней, содержал в себе нечто такое, с чем Раздаев прежде не сталкивался. Чего он не знал и не умел. Докладчик же, Егошин, следует признать, при этом не пасует. И тогда, в лихорадке сборов «Группы № 5», терпеливо сносил его, Раздаева, вибрацию, и сейчас показывает хватку. Осуждая «мессеробоязнь», на Рябошапку, упрямец, не сослался. Выбрал для примера бой, проведенный сержантом Гранищевым, разобрал его по косточкам, да так, что летчики-штурмовики, сидящие в зале, поняли, какие возможности обнаруживает их верный «ИЛ», когда им управляют хладнокровие и расчет. Федор Тарасович простил ему Рябошапку...
Смертельная опасность, нависшая над городом и миром, волжский, последний в этой войне рубеж, подсказывали инициатору конференции генералу Хрюкину обращение к первородным достоинствам подобных сборов, присущим им от века, — к их артельному корню, артельному началу: один горюет, а артель воюет, артель сходкой крепка. Ставка делалась на то, что по ходу обсуждений пробудится инициатива, выявит себя и утвердится коллективный разум... Да, не впервые сыгран сбор, случалось, случалось взывать к уму и сердцу летного состава, — взывать и сплачивать, взывать и направлять, — но с такой безоглядностью, с такой полнотой решимости, как сейчас, и Хрюкин этого не делал. Историк-хронист занес в тетрадь: «Трудно выразить словами чувство Сталинграда, живущее в сердцах его защитников. Если земля, по образному суждению древних, глазное яблоко, то Сталинград сегодня — его зрачок, в котором отражается судьба планеты, охваченной пожаром мировой войны». Настаивая на конференции, Хрюкин исходил не из опыта — из веры в избранный путь и в тех, кто соберется, чтобы наполнить старые мехи молодым вином («Результаты конференции доложить незамедлительно!»), Федор же Тарасович тревожился больше о том, как бы при этом власть не выпала из его рук. «Я, как большевик, властью делиться ни с кем не намерен... Правильно, Борис Арсентьевич?» — спрашивал он командира истребительной дивизии полковника Сиднева, очень, очень — больше чем на себя — на него рассчитывая. «Я в двадцатые годы по народным судам ходил, — отвечал Сиднев. — Наблюдал сражения умов, состязания уездных наших Плевако... Зрелище! Лучше всякого театра. Аудитория, страсти, жажда истины, правды, — и вот она, является, как будто твоя, как будто ты сам ее выстрадал, и потому готов за нее в огонь и воду... Келейно этого не получишь, я за конференцию. Проводить, и как можно скорее...» — «Но вожжей из рук не выпускать?» — «Была бы голова, найдется и булава!»
Раздаеву передали две записки.
Первая гласила: «Немцы взяли Воропоново. НБЗ сержант Иванов С. И. и сержант Бяков В. Н.».
Во второй штаб извещал полковника, что старший лейтенант Баранов и лейтенант Амет-хан Султан по личному распоряжению командующего выделены для сопровождения двух экипажей «ПЕ-2» из полка Полбина, выполняющих особо важное задание... Вот так. Ни Сиднева, ни Баранова.
...Немецкий летчик действует уверенно только там, — говорил майор Егошин, подходя к окончательным выводам, — где он опирается на численное превосходство, и тогда, когда фактор внезапности на его стороне...
Сидя вполоборота к трибуне, полковник угрюмо поглядывал на членов президиума, на список записавшихся в прения, — гадал, на кого бы ему опереться, с кем вместе расхлебывать кашу...
...Опоздавший Гранищев внес со двора запах пиленой сосны и, не осмотревшись, не разглядев, кто есть в зале, кого нет, остановился, пригвожденный к месту словами оратора:
— .. .Следует изживать практику, когда истребители прикрытая на подходе к объекту вступают в бой, навязанный «мессерами», поскольку «ИЛ-вторые», идя к цели дальше, остаются одни...
«ИЛ-вторые», идя к цели дальше...» Это же — о нас, брошенных «ЯКами» под Обливской!..» — вся боль, необратимость происшедшего, — в этом, через силу осуществленном «ИЛами», беззаветном «идя дальше...».
— Дело в том, — продолжал Егошин, — что истребители, сопровождающие штурмовиков, не всегда поступают честно...
«Не всегда поступают честно!» — восхищенно и зло повторил Павел. Не всегда поступают честно, — глядел он в рот майору, стоявшему, что бы ни творилось на белом свете, за твердость оценок, единых для мира и войны. Павел воспитывался в том же убеждении. Примеры Егошин брал свои, выводы предлагал общие.
— Восемнадцатого августа шестерка «ИЛов» в конце дня была послана на Нижне-Чирскую, а соседи-истребители, выделенные для нашего прикрытия, сочли, что вылетать на задание уже поздно. Так они заявили. — В ровном тоне Егошина просквозила усмешка. — Штурмовикам, не имевшим тогда ночной подготовки, не поздно, а истребителям, обученным ночным полетам, поздно, — бесстрастно констатировал он, сильно, до покраснения кожи сдавливая складку, рассекавшую высокий лоб. Воли чувствам он не давал. Губастый рот его в коротких паузах плотно смыкался, подбородок на тонкокожем лице очерчивался резко. — В другом случае, — продолжал Егошин, не поддаваясь эмоциям, — «ЯКи» сопровождения встретили на маршруте два десятка «лапотников» под охраной «мессеров» и ввязались с ними в бой. «ИЛ-вторые» остались без защиты... Но картина будет односторонней, а потому неполной и неточной, если я определенно не скажу о другом. Старший лейтенант Баранов, сопровождавший нас до Калача и обратно, на пределе горючего, не садясь, развернулся и снова кинулся в сторону Калача, как только получил сообщение командной рации о том, что к переправе приближаются и угрожают нашим войскам «юнкерсы». А с другой стороны, положа руку на сердце, сколько раз мы, штурмовики, выходили на тот же Калач, на другие донские переправы, не меняя ни маршрута, ни направления захода, ни способа атаки? Шаблон ведет к потерям, это правда, но приходится признать, что шаблон имеет над ведущим большую власть. Очень большую. Следовать шаблону легче, чем отказаться от него.
Михаил Николаевич отставлял конспект, обращаясь прямо к участникам событий, сидящим в зале.
— В девяноста девяти случаях из ста мы бьем по цели с левого разворота, — говорил Егошин, — не считаясь с тем, что он не только изучен немцами, но и пристрелян по всем высотам. Провести же в жизнь незамысловатое, прежде не опробованное в бою командирское решение, — к примеру, развернуть группу над целью вправо, — для этого, поверьте, нужны недюжинные силы!
Увлеченный ходом выношенных суждений, чувствуя поддержку зала, Михаил Николаевич только в этот момент до конца осознал, почему для него лично так тягостен маневр, о котором он говорит, почему, ведя на цель шесть — восемь «ИЛов», он всякий раз внутренне ему противится, он, признанный среди летчиков методист, мастер пилотирования. Дело в том, понял майор, что необходимость правого разворота, довлея над ним, отвлекает его, заслоняя собою ведомых. «Забываю о них. Перестаю думать о группе, перестаю ее чувствовать, как чувствовал, пока шли по маршруту». Быстро наползающая цель, распознавание зениток, системы заградогня, оборона от «мессеров», противодействие им, да еще этот несподручный разворот... «Меня на все не хватает. Действую как индивидуум. Как экипаж-одиночка. В тот самый момент, когда летчикам группы больше всего необходим воевода...» Он вспомнил хутор Манойлин, к встрече с которым готовился так основательно... а в зоне огня о группе совершенно не помнил. Да и себя понимал плохо.
Павел занят был другим.
«Не опоздал, не опоздал», — радостно думал он, слушая Егошина. Ради такого выступления стоило лететь куда угодно. Вслух говоря о себе, командир полка как бы раскрывал Павлу глаза на подспудно совершавшуюся в нем, сержанте, работу освобождения от скованности, начавшуюся в сумрачный день удара по Морозовской и давшую свой результат под стволами «мессера», когда он, летчик Гранищев, превозмог соблазн привычной, выгодной немцу «змейки», принудил себя к неприметному, скрытому подскальзыванию...
Лены, как убедился Павел, трижды осмотревшись, в клубе не было; летчики, сидевшие рядом, молча, как и он, с такой же серьезностью внимали выступавшим, приемля одно, отклоняя другое, исподволь подходя к решениям, быть может, наилучшим и единственным в обстановке возраставшего вражеского напора.
«Со времени Фемистокла, — написал на полях историк, — ошеломившего врага под Саламинами неожиданным маневром своего флота, все победы на поле боя опираются на предшествующий им подвиг духа, ломающий рутинные привычки...»
Как знать, где, когда скажется скрытно осуществлявшийся процесс накопления сил, по крупицам собиравшийся здесь опыт, кому суждено, кому не суждено им воспользоваться, — но своевременность и необходимость «Большого хурала» были очевидны...
«Слава Богу, с докладчиком Егошиным не промахнулся, затравку дал хорошую, — думал Раздаев. — Рассуждает здраво...»
Дверь клуба снова приоткрылась.
Раздаев поднял голову — на пороге стоял капитан Авдыш.
«Пронесло», — думал Венька Лубок, возвратившись из «перегонки», как называли летчики получение и доставку воздухом «ЯКов», сошедших с заводского конвейера. «Пронесло», — думал он, слушая тех, кто уцелел двадцать третьего августа, в день воздушного тарана по центру города, обреченного на смерть посредством расчленения фугасом и огня. Говорливее других были сидевшие на левом берегу. Летчики, отражавшие налет, помалкивали, впечатлениями делились неохотно, скупо восстанавливали день, распадавшийся на две неравные, несопоставимые части, — на ясное утро, когда все шло, как обычно, и на вторую, черную половину, когда небо и земля обратились в преисподнюю... И Венька, вспоминая тихий, залитый солнцем, уставленный новенькими «ЯКами» двор авиационного завода, где ему посчастливилось в то время быть, повторял про себя: «Пронесло!..» ,
Но спокойствия в душе летчика не было.
После встречи с «мессером», доведшим его на виражах до изнеможения, до полной неспособности ворочать «ЛАГГом», выпадавшим из рук, и до такого ко всему безразличия, что он взмолился: «Только бы все это кончилось!» — после такой передряги что-то в нем надломилось. «Как обухом по кумполу», — признавался он Свете, ей одной открываясь...
Свету, пока он перегонял «ЯКи», из БАО сплавили.
«Согласно приказу двести двадцать семь, — заявил ей комиссар батальона, — беременность военнослужащих карается трибуналом, как членовредительство». Разговор происходил во время ночного привала на марше, когда батальон пылил от центральной переправы в сторону Житкура. Исчезновение Светы прошло незамеченным.
В том, как с ней расправились, крылась опасность и для него: летчик Лубок и боец стартового наряда Михайлова проходили в политдонесениях «в связке». «В. Лубок изнуряет себя этой «дружбой» с рядовой Михайловой», — писал комиссар полка. «Ты, Веня, с Барановым не задирайся», — осторожно советовала ему Света. «Отношения с командиром наладились, будь спок, — успокаивал ее Венька. — Между прочим, с Песковатки», — добавлял он значительно... Нигде так сладко им не жилось, как на окраине Песковатки, в шоферской кабине разбитого «ЗИСа». Кабина грузовика, снесенная взрывом на землю, была без стекол, с тугим пружинистым сиденьем. «Наш вигвам», — называла ее Света. Венька забирался туда сразу после ужина, Света, отрабатывая внеочередные наряды, появлялась позже. «Прошу, сударыня, — раскрывал он перед нею дверцу. — Куда прикажете?» — «В Сарапул, — отвечала Света, расстегивая гимнастерку, неторопливо приготавливаясь к ночной езде. — К маме». Разносолы пятой нормы в виде колбаски и пахучих сыров теперь на ужин летчикам не подавались, они хрумкали огурцы, уминали хлеб с солью, принесенный Венькой из столовой. Звезды, не отделенные ветровым стеклом, смотрели на них прямо, выхватывая из пучины войны, страшной своей неотвратимостью.
Веньку она захватила «на шахте угольной», в донецкой «Коммуне «Степь», куда он в пору весеннего цветения прибыл на пополнение из сталинградского полка ПВО. «Сержант Гордеев? — переспросил новичка Баранов. — Звучит!» — «Сержант Гордеич», — поправил он командира: сослуживцы, обходя фамилию, называли Веньку по отчеству... «Сержант Гордеич... Тоже неплохо», — оглядывал Баранов летчика: галифе с модным напуском, вшитый кант, офицерские сапожки... «Живем артелью, а хочешь селиться отдельно, — пожалуйста, твоя воля...» Венька вырастал в барачном поселке имени летчика Анатолия Крохолева, и отдельная светелка, и кто-то в ней, — может быть, настырная толстушка-проводница вагона, которым он ехал на фронт, или та, в старомодной шляпке с вуалью, несмело переступающая порог, — это мечтание, меняясь в деталях, тревожило его неотступно. «Я со всеми», — сказал Венька покорно. В холупе, куда привел его Баранов, на полу лежали матрацы, набитые соломой. Ему досталось место посередке, между Пинавтом и Мишкой Плотниковым. На рассвете раздался взрыв и задрожали стекла. Венька вскинулся, больше никто не поднялся. «Станцию бомбят, — определил на слух Пинавт. — До станции километра три...» Баранов, недовольно мыча, перевернулся, натянув одеяло на голову. Пинавт, прислушиваясь к гудению, стал угадывать разрывы. «Бах!» — взмахивал он рукой, и за окном гремело. «Бах!» — командовал Пинавт, и летчики, видя, каким могуществом наделен их маленький, голый по пояс, товарищ, сонно дыбились...
В первом же вылете зенитка изрешетила фюзеляж за спиной Веньки, но когда и как, он не понял. Стоянка сбежалась: «Врезал фриц!», «По касательной, по касательной...», «Залатаем к обеду, будет лучше нового!». Не вид драных пробоин, опоясавших кабину, но мысль о том, что все это после обеда повторится, ужаснула Веньку. «Подставили, — думал он, — если бы не вернулся, никто бы и не почухался...» И комбинезон ниже плеча был пропорот осколком, и гимнастерка задета... Вместе с жалостью к себе летчик испытал злость. Он не знал, на кого ее оборотить, — на румяного ли Баранова, на немца-зенитчика, управляющего счетверенным «Эрликоном», на механика, плохо выметавшего из кабины пыль... все ему было нехорошо. Приступы злобы искажали его остроносое лицо, он замыкался, уходил в себя с выражением человека, хлебнувшего уксуса. Однажды на взлете, когда весь свет был ему немил и он делал то, чему научен, плавно пуская машину с тормозов, он увидел впереди и сбоку солдатку с белым флажком стартера. Сделав флажком разрешительный жест, она опустила голову, потупилась. Не ведая, что происходит с летчиком, она ему не повелевала, а, скорее, отдавала честь, салютовала... И он в ответ улыбнулся и взлетел легко. На втором развороте, пристраиваясь к Баранову против солнца, ничего, кроме командирской машины, не видя, он забыл хор ангелов, прозвучавший в его душе... Потом он снова грянул в момент уныния... Так продолжалось до Новочеркасска, до аэродрома Хутунок, где повредившийся в уме воентехник гонял на штурмовике «ИЛ-2» по летному полю, — хвост трубой, в облаках пыли, — укладывая очередями из пулеметов и пушек всех, кто пытался накинуть на него смирительную рубаху... Спасаясь от безумца, он кинулся в капонир, и стартер Света, туда же загнанная, его узнала...
Поутру, садясь в кабину, он почувствовал запах полыни: букетик из серых степных трав был приторочен к борту белой киперной лентой. «Ты так улыбнулся», — вспоминала Света позже, в Песковатке, мелькавшие перед ней на взлете лица летчиков, однообразно отрешенные, с выражением готовности ко всему...
Песковатка, Песковатка...
Час назад Баранова и Амет-Хана послали на Нижне-Чирскую, где наблюдается активность тылов, возможна перегруппировка сил. Туда же, в интересах фронта, направлены опытные разведчики на «ПЕ-2».
Хорошему разведчику — хорошее прикрытие.
— Гордеич, — негромко окликнул тьму землянки адъютант, посланный с КП.
«Куда?» — обмер Венька в углу, на соломе, и медлил, страшась встречи с городом: на самый Сталинград, исхоженный Лубком в дни увольнений, его еще не посылали.
Заплавное — вот какая цель поставлена паре Лубок — Пинавт.
— Заплавное?! — воскликнул Пинавт удивленно. — На левом берегу?
— Заплавное, — подтвердил старшина Лубок. — На левом...
Когда он отбывал за «ЯКами» в тыл, самовольная переправа бойцов на левый берег пресекалась угрозой расстрела на месте, без суда и следствия...
— Мы люди не гордые, — сдерживал Пинавт в улыбке рот, обметанный простудой.. — На Нижне-Чирскую не заримся... над территорией противника... зачем?.. Нас свое Заплавное устроит!..
— Ты, Пинавт, не очень... на всю-то ивановскую не ори, — осадил его Лубок, вчерашний курсант Сталинградского авиационного училища имени Сталинградского пролетариата.
Заплавное — это зона... пилотажная зона. Из всех существующих в могучем Отечестве зон, едва ли не единственная привлекательная и желанная — пилотажная, учебная зона: только пройдя ее, курсант становится летчиком. Паспорт на пилотажную зону № 6, что в Заплавном, выдавал сам командир отряда. «Зона, — напутствовал он, — питомник Икаров. Лети, товарищ курсант, и возвращайся домой без блудежки...» Видимость мильон на мильон... Азиатский простор, восточно-степной ландшафт, дополнительный шанс безопасности... Однажды, тренируясь на «Р-5-м» в «слепом полете», под «колпаком», они этим шансом воспользовались, произведя удачную вынужденную посадку... Устранили неисправность, набрали на бахче арбузов, тут же и сами вкусили от низового плода. «Для матушки княгини угодны дыни, а для батюшки пуза надобно арбуза», — приговаривал Венька, сидя на корточках и вспоминая свой приезд в Сталинград, на Вокзал-1, и мимолетную, неправдоподобную, как во сне, встречу, когда, отделившись от своих, аэроклубовцев, приехавших поступать, он безотчетно, как сомнамбула, направился через вокзальный гомон на площадь за мороженым и встретил там... взгляд! Взгляд из-под старомодной шляпки. Взгляд изумления: так — бывает?! И тихой, смущенной, ободряющей радости: да, бывает... «Княгине надобны дыни... Она — княгиня...»
Не в себе, несколько растерянно встречал вчерашний курсант и стажер истребительного полка ПВО знакомую зону, с высоты тысячи метров охватывая панораму прифронтового левобережья, вспышки дальнобойных батарей, прикрытых поредевшим к осени лесочком и державших под огнем Гумрак, бывший аэродром училища. Узкоколейка, порученная истребителям, тянулась по степи, как седая нить. Ее не было не только на полетной карте, — весной ее не было на местности: шпалы, сложенные штабелями, склады-времянки, не разобранные подъемники вдоль полотна указывали на младенчество новорожденной. Большаки и тракты, прежде пустынные, едва прочерченные, выделялись продавленными колеями и выступали резко, — степь как бы старилась от выпавших ей невзгод.
Город темнел вдали страдающей громадой... безмолвно, укоряюще, грозно. Эшелоны через Заволжье пускали к нему ночью. Какой-то состав, пострадавший от бомбежки, проталкивали днем, и командование ПВО попросило поддержки. Задача Лубка и Пинавта — встретить эшелон в Заплавном.
Стеснен, скован был старшина, баражируя в зоне, где он не успел опериться, настороженно и нехотя поглядывая в сторону города, превращенного в могильник. И здесь, за Волгой, веяло от него кладбищем. «Лапотники», долбившие неподалеку пристань «Тракторный», четверка «худых», проскользнувшая внизу, над обмелевшей Ахтубой, дымы пожарищ на дальнем городском берегу предостерегали, теснили Веньку, поторапливали его отсюда убраться. «Не пронесло», — понял он.
Не дождался эшелона Лубок и вылез из кабины с тяжелым сердцем.
— Мотор грубого тембра, — выговорил он инженеру, за время полета мотора не замечавший. — Ухо режет.
— Не обкатан, — сдержанно возразил инженер: моторы на заводском дворе выбирал он. — Обкатаешь — будет петь.
— Кто запоет, а кто застонет... Тянет, но грубо, — повторил летчик.
Прикрываясь от ветра за кузовом полуторки с обедом и прихлебывая перловый супчик, он говорил Пинавту:
— Война началась, я в карауле стоял, у первого ангара. С поста сменился, стали рассуждать, кретины, дескать, на наш век войны не хватит. На фронт не успеем, срок-то обучения три года... Залп «катюш» видел?.. — спросил он, продолжая жить Заплавным. — А колонну грузовиков?.. Что же ты видел, Пинавт?
— Немец прет без удержу, вот что!
Вываренные, без вкуса, сухофрукты на третье дожевывали молча, потом Пинавт куда-то юркнул.
Баранов появился со следами дремы на розовой щеке: после Нижне-Чирской он и подкрепился, и немного вздремнул. Его сопровождал степенный сержант гвардейского роста в шинели и обмотках. Новенький шлемофон был ему тесен.
— Нашего полку прибыло, — сказал командир, собрав своих. — Хочу представить: сержант Нефедов.
— Нефёдов, — кротко уточнил сержант, похоже, ничем иным, кроме правильного звучания его фамилии, не озабоченный.
— Прости, Нефёдов, — Баранов уважительно оглядел детину, хранившего такое спокойствие перед первым вылетом.
Лубок, все это отмечая, ждал...
— Сержант привез из Богай-Барановки привет...
— Давай его скорее! — смешливо потребовал Пинавт, делая шаг вперед и протягивая руку: он где-то принял, не дожидаясь ужина, глаза его блестели. Самый звук поселка, переиначенного, конечно же, в Бугай-Барановку, — само название бесподобного ЗАПа, последней тыловой отрады перед отправкой на фронт, располагало истребителей к однокашнику Нефёдову. — Гимн третьей землянки, — припомнил Пинавт, воодушевляясь прекрасным прошлым, — «София Павловна, где вы теперь...».
— С учетом всего, — прервал его Баранов, — ставим Нефёдова справа. Лубок ждал.
— Цель, товарищи, нам хорошо знакома: Вокзал-один... Кровь схлынула с лица старшины; он стал запихивать полетную карту за голенище... Случалось, он взлетал по тревоге, — за спиной Баранова и зная район, — вообще без карты... Вспоминая позже этот свой наклон, старательность, с какой он упрятывал протершуюся на сгибах склейку в раструб кирзового сапога, он отмечал: вот когда он начал отделяться... «Нам с тобой не по пути», — подумал он о Баранове и не устрашился своей мысли в ту минуту.
— ...Задача жахнуть по «юнкерсам»... Шугануть их, поддержать пехоту... Зайдем от солнышка... — Баранов приподнял голову, представляя маневр, и две горестные, как у старца, складки пересекли его лоб. — Сержант Нефёдов, ты пообедал?
— Покушал хорошо, — Нефёдов ублаготворенно тронул пряжку курсантского ремня. — Силенок хватит.
— Тогда по коням, — сказал Баранов, отворотясь от новичка, готового, похоже, идти в бой с песней...
»...Вокзал-1, Вокзал-1», — думал Венька, набрасывая парашют, вопрошающе глядя на механика, как будто тот мог объяснить, что происходит, как все понимать... Вокзал-1 — конечная станция его «гражданки», черта, за которой в безвозвратном прошлом оставались Сысерть, молодецкие прыжки с плотины в воду, — девочки на берегу замирали и ахали, — соревнования на уктусском трамплине, первый полет в аэроклубе Арамиля... Он готовился, готовил себя, полагаясь почему-то не на наше превосходство, в котором нельзя было усомниться, а на равенство сил... получил же обухом по голове. Вокзал-1 — конец «гражданки», и — встреча, которую, напротив, ждал. Взгляд из-под шляпки: так бывает? Да, бывает...
Вот туда!
...Едва скрылся за хвостом ветряк, как темным провалом в степи обозначилась Волга. Не сбоку, не вдоль борта, как на пути в Заплавное, а поперек их движения. И город стал подниматься во всю свою непроходимую ширь. И все, дошедшее из него после двадцать третьего августа, понеслось перед летчиком бессвязно и пестро. Черное, в струпьях, неузнаваемое лицо обгоревшего Мишки Плотникова появлялось то в окне госпиталя, охваченного пожаром, то — в исподнем, хорошо заметном с воздуха, — в заторе центральной переправы, — то на барже, идущей ко дну... вся беспомощность и все отчаянье человека, теряющего жизнь в расцвете лет, — в раненом, которого добивают... Венька понял молчание взлетавших на отражение налета: они оглушены, подавлены, как был выпотрошен и раздавлен «мессером» он, и не смеют раскрыть рта, признать свое бессилие. Город, устрашавший его издалека, в Заплавном, готовил ему встречу с Мишкой, вел счет на минуты...
Вдруг раздался сбой мотора.
Венька расслышал его явственно.
Страшась Вокзала-1, страшась возврата с полпути, недоказуемости сбоя, такого очевидного, он уменьшил обороты... Приотстал... Баранов мчал на площадь, где мороженщик набивал формочки ценою в пятнадцать, тридцать, пятьдесят копеек, а теперь там немец, сумевший за год пропереть до Волги... Как? Почему? И он должен отдавать за это жизнь?!
Принужденно и вместе в согласии с собой, выворачивал он «ЯК» в сторону от города, на свой, левый берег, покаравший Свету, наполовину чужой...
Когда из пяти поднявшихся на задание возвращается один, стоянка в растерянности: кто?
«Лубок!», «Подбит?», «Неисправность мотора...».
Уткнувшись лбом в ладони, скрещенные на станине прицела, старшина отсиживался в прогретой кабине «ЯКа». Осенняя поземка завывала в щелях, а пришел он в полк среди майского цветения, и с каждым днем все круче был водоворот, подхвативший его, как щепку. В Песковатке попалась ему на глаза заметка: «Лейтенант Баранов сбил «Хейнкель-111». Московский корреспондент, и носа в полк не казавший («Прячется по щелям в штабе фронта», — говорили о нем), расписывал и облачность, и высоту, и ракурс, и то, как падал «хейнкель», «оставляя черный шлейф дыма», а про сержанта Лубка, участника боя, ни гугу. Как будто не Лубка в упор хлестал подфосфоренный свинец турельных установок... Баранов, стало быть, герой, о нем гремят газеты и листовки, а Лубок, видишь ты, щит героя. Как бы подручный, второй сорт... Это — -справедливо? Дудки! Нема дурных!.. Эскадрилья по-прежнему селилась кучно, Венька же теперь предпочитал «хутора». И ужинать ходил отдельно... в интересах Светы тоже... В Песковатке «юнкерса» раздолбали их так, что самолет Баранова, оставшись без хвоста, просел на попу, задрав нос, как карлик-коротышка. На самолете Веньки осколок срезал трубку Пито, торчащую из крыла подобно руке, замеряющей встречный поток воздуха. Машина стала безрукой, лишилась прибора скорости, в воздух такой самолет не поднимешь...
Не успели очухаться — гудит вторая волна «юнкерсов»...
«Вылазь!» — скомандовал ему Баранов, не имея исправного «ЯКа». И тут он впервые увидел лицо командира, каким оно, наверно, бывает при схватке с тем же «хейнкелем», которого они вдвоем давили до копра...
Плексиглас кабины скрыл ожидание опасности, преобразившее лицо Баранова. Не теряя времени на выруливание, он взлетел прямо со стоянки, по ветру, и на виду всей Песковатки, прыснувшей врассыпную, по щелям и укрытиям, с ходу отрубил ведущего «ю-восемьдесят восемь»... Грузный, толстобрюхий, он рухнул за деревней, технари тут же кинулись к «юнкерсу» на стартере — разжиться инструментом, проводкой, плексигласом...
Венька как сидел на траве, свесив ноги в щель, так и остался сидеть, потрясенный... Увидев Баранова не со стороны, а на его, Лубка, месте, в кабине, его, ослепленного, без прибора скорости «ЯКа», — скорость для летчика все, — Венька как бы прозрел. Как бы открыл для себя Баранова. Понял, кто перед ним. Какая пропасть разделяет его, курсанта-скороспелку, и летчика-истребителя мирного времени, божьим даром наделенного. «Великий Баранов», — признал он. И никто не мог изменить его нового, выстраданного взгляда на командира. Даже сам командир, вложивший в схватку с «юнкерсом» столько, что, заходя на посадку, забыл выпустить шасси... Света, первой кинувшаяся на место с флажками финишера, пульнула «ЯКу» в лоб красную ракету. Отрезвила Баранова, привела его в чувство, он сел благополучно...
«Вене Лубку, лучшему другу по Сталинградскому фронту, — надписал ему фотокарточку Баранов. — Помни Песковатку!»
— Вылазь! — донесся до Веньки голос Баранова, с непокрытой головой входившего в капонир в сопровождении двух летчиков. Инженер эскадрильи следовал за ними.
«Нет Нефёдова», — отметил Венька, кубарем скатываясь, в то время как старший лейтенант поднимался с противоположной стороны, чтобы перепроверить инженера, уже отгонявшего мотор.
На командира, собственно, никто не смотрел: все решал звук двигателя... Инженер, предоставляя свободу действий Баранову, отошел в сторонку; оба летчика не столько слушали, сколько под впечатлением гибели Нефёдова приходили в себя. Один Венька не сводил с Баранова глаз. Была надежда, что мотор не запустится. Но, почихав и покашляв, он перешел на шелестящий посвист малого газа. «Малый газ — не показатель», — сказал себе старшина, зная в душе, что мотор исправен и что штрафная эскадрилья ему уготована.
Штрафной эскадрильи ему не миновать... Средний режим озаботил Баранова. Переглядываясь с инженером, призывая его вслушаться, командир прощупывал сомнительный диапазон, проходясь по нему снизу доверху и раз, и другой, и третий. С каждой старательной пробой Лубок взлетал и падал, ожидая от Баранова то милости, то казни, то ненавидя его, то боготворя. Перед тем как дать полный газ, командир сделал паузу. Затем плавно, с усилием перевел мотор на максимальные обороты. Пустил его «на всю защелку». Исхудавшее лицо Веньки вытянулось. Штрафная эскадрилья куда-то отошла от него, отступила, исчезла, перестала его заботить и страшить. Тридцать, сорок секунд нарастающего до рези в ушах моторного рева звучали безжалостным и оглушительным, на весь мир, презрением к нему Баранова...
«Марало!» — врезал ему командир в наступившей тишине и тяжело сошел на землю.
Гуськом, погруженные в себя, направились невольные судьи в штаб: Баранов с непокрытой головой, прихрамывая, два летчика за ним, инженер... Бой над вокзалом, гибель товарища, спазм малодушия, каждым из них пересиленный, а старшину смявший, сближали горстку усталых, пестро одетых людей, сделавших для пехоты и города все, что могли.
Адъютант встретил их новостью: завтра Хрюкин будет вручать Баранову Золотую Звезду Героя.
— Велика честь, да радости мало, — приосанился старший лейтенант. — Насчет Лубка решение будет такое: я разберусь с ним своей властью.
— Война войной, а покушать надо!
Летчики, ходившие на Сталинград днем, и новички, только что прибывшие для пополнения, ужинали в затемненной брезентами столовой. Вчерашним курсантам был подан на аэродром грузовик — знак внимания, — они ехали в поселок степью, уже охваченной заревом горевшего города; орлы, встревоженные пожаром, сидели вдоль дороги с наветренной стороны, единообразно оборотив головы на Сталинград, не замечая вздымавшей пыль полуторки...
В столовой тесно: терпеливо ожидая, когда старожилы освободят места, новички и здесь чувствовали близость сражения. В свете коптилок, чадивших на дощатых столах, выступала худоба белолобых лиц, ранние морщины, которым так податлива молодая кожа, тугая на скулах, или, напротив, от усталости и скверного питания несколько дряблая ниже линии глаз; гимнастерки, ветшавшие без долгой замены, подштопанные в прелых местах мужской рукой; темнел на подоконнике баян, потерявший днем своего хозяина; чувствительны были и гробовые паузы. Тяжело воцаряясь над столами, они могли бы озадачить и летчиков, если бы сами летчики их замечали...
Полуторку, отвозившую новичков с аэродрома, Венька пропустил, побрел восвояси пешком, один... скверно было у него на душе. Посреди дороги он остановился... Светы в поселке нет. В столовой ждут его законные — после Заплавного — сто грамм, даже с добавкой, если потрясти адъютанта... Но там же и Баранов, и Пинавт. Он долго смотрел, как по горизонту то беспокойно разгораются, то спадают огни далекого Сталинграда. Грозные силы, вздувавшие этот горн, говорили о том, как слаб перед ними пилот-скороспелка, растерявший на быстром пути от сизых донецких копров до рыжего Заволжья весь авиационный джентльменский набор, некогда неотразимый. Единственный его доспех — трофейный парабеллум-девять, память Верхне-Бузиновки. Комдив Раздаев поглядывает на его трофей косо, — не то с осуждением, не то с завистью.
Достав беспощадный к сусликам «пугач», Лубок поискал глазами мишень, вскинул руку и, скособочившись, несколько раз бабахнул в воздух...
Столовая — из двух комнатушек. За ближним к входным дверям столом и возрастом и осанкой выделялся плечистый, наголо остриженный капитан. Рассеянно и молча управляясь с гуляшом, он изредка проводил пятерней ото лба к затылку, как делают люди, привыкшие носить мягкие, спадающие на лоб волосы.
— Кто сей колодник? — спросил Венька адъютанта.
— Артист, — шепнул адъютант.
— Трагик, — вглядывался Венька в капитана, в его снизу освещенные, сильно выступавшие надбровные дуги. — Исполнитель роли Отелло...
— Соло на баяне... Он днем в пустой столовой такой концерт исполнил... у поваров вся подлива сгорела... До того здорово, до того мощно... Я сам заслушался.
— Из ансамбля, что ли?
— Из штрафной эскадрильи... Капитан Авдыш...
Штрафная... То, чего Венька страшился и ждал, не признаваясь Свете...
— Струсил, — скорее назвал причину, чем задал вопрос истребитель-физиономист. «Сейчас меня потребует, — прислушивался он к голосу Баранова в соседней комнате. — И объявит. Прилюдно»... Вот что нестерпимее всего: штрафная эскадрилья — прилюдно.
— Был наказан на двадцать штрафных вылетов. Приказ комдива Раздаева. Меру определял он, Раздаев. Посылать на аэродромы, переправы, на фотографирование результатов.
— Короче, где кусается.
— Да. Задания выполнять, а вылеты в зачет не идут.
— Нагрешил капитан, за жизнь не отмоется, — сказал Лубок жестко, как бы ничего другого от Авдыша не ожидая, а сам, следя за речью Баранова, готовился к тому, что командир вот-вот его потребует.
— Мясцо парное! По случаю конференции? Чаще бы собирали конференции!
— Что за конференция? — спросил Лубок.
— Насчет прикрытия...
— Послать бы тех орателей на «Баррикады», чтобы зря не прели. Сколько фрицев, сколько наших — все наглядно, без Лиги Наций.
— При чем конференция? Генерал из Москвы дал духа.
БАО зашевелился, организовал в степи баранту...
Кто усердно подчищал тарелку и просил добавки, кто ковырял в еде вилкой.
— ...врезал «шульц» по моему «харрикейну» — все! Раздаются прощальные слова с КП: «Молодец, Баландин, один сражался против всей Германии, награждаю тебя посмертно медалью «За боевые заслуги»...»
Вспыхнули и погасли улыбки, снова резкие тени выступили на изможденных лицах, еще заметней сухость глаз, раздражительность в адрес тех, кто не знал сегодня маеты боевого вылета.
— На задание лететь — старт пустой, по пятой норме жрать — полна коробочка, — брюзжит Венька. — Не пойму, откуда столько ртов набежало...
Капитан Авдыш на беглые застольные разговоры не отзывался — он никого здесь не знал и знать не хотел. Когда-то, за Доном, водил Авдыш Гранищева, учил уму-разуму, но сейчас — что может быть между ними общего, между капитаном-штрафником и лихим сержантом, крутящим, по дурости или от избытка сил, «бочки» на «ИЛе»? Авдыш сержанта, появившегося в поселке, не замечал. Беспокойно проходясь пятерней по мощному черепу, он прислушивался к голосам из смежной комнаты.
— «Горбатые» тоже не всегда отважно действуют, — говорил Баранов. — Другой раз клюнут по цели — и деру...
— Когда такое прикрытие! — возражали ему.
— При любых условиях — пехоте надо помогать. Победы в воздухе ничего не стоят, если их не закрепит пехота.
Слушал голос Баранова, свободный и легкий. Самый звук его был приятен капитану.
Среди летчиков, знавших себе цену и умевших при случае подать товар лицом, Авдыш на удивление не честолюбив. Это сквозит во всем, вплоть до бильярда: прилично владея кием, капитан, проигрывая, не только не огорчался, но бывал рад хорошо пущенному шару соперника. Бесконечные рассуждения о том, кто что увидел, откуда зашел и как ударил, не были ему интересны. Приподняв крупную голову, ни на кого не глядя, пропускал он мимо ушей отзывы о Баранове: «Воздушный снайпер», «Мастер выбрать момент...». Все это частности. В Баранове заключена загадка, колдовская и горькая для капитана. Если коротко — талант. Как живописец безошибочно ударяет по холсту, так он — по вражине. Талант, сберегаемый удачей. В Конной, пустив с тормозов свой ревущий, готовый подняться «ИЛ», оставив за спиной примерно треть разбега, Авдыш увидел впереди «дракона» — двуносое, шестизевое чудище привиделось летчику. Однажды в небе «дракон» уже настиг капитана и так яростно изрыгал желто-красный огонь, что, только кувыркаясь в воздухе и нащупывая на левом плече вытяжное кольцо парашюта, сообразил Авдыш, что это два «мессера», как бы спарившись, метров с пятидесяти враз ударили по нему. В Конной «дракон» свалился, когда он, беззащитный, брал разбег; устрашенный первой встречей, уклоняясь от огня, Авдыш — на взлете! — рванулся влево... Она была еще цела, его машина, ее могучие двутавровые шасси, терпя непомерную боковую нагрузку, еще не подкосились, когда перекрыл дорогу дьяволу «ЯК». Отвлек от «ИЛа», принял на себя, загнал в вираж. Повинуясь воле «ЯКа», «дракон» на глазах Авдыша опрощался, лишаясь голов, изрыгавших смертоносное пламя, его тонкий хвост, хвост «худого», серийного «мессера», колотила предсмертная дрожь... Но, избавленный от страшных чар, овладевший собой Авдыш выправить искаженный страхом взлет не сумел...
Баранов ради спасения «ИЛа» рисковал собой, а он разнес свой самолет в дымину.
Таков Баранов, и вот чего стоит он, Авдыш.
«Признаю себя виновным...»
По приказу двести двадцать семь — в штрафную эскадрилью.
— Кто наблюдал Нефёдова над целью? — спросил Авдыш, глядя перед собой, его тень на стене расширилась и заколыхалась.
— Сгорел над Вокзалом-один.
Авдыш как наяву представил быстрый лет «ЯКа», словно бы стопорящийся от удара пламени, снаружи не видного, схватку летчика с огнем... дым, прорвавшийся, наконец, наружу, запоздалый признак катастрофы.
— Никто не прыгал?
— Нет.
— Ё-моё, сержант Нефёдов, — капитан со вздохом увлажнил хлебную корочку дефицитной горчицей. Специя, поданная к баранине, — лакомство, излюбленный деликатес под фронтовые сто граммов. — Нет, — сказал Авдыш, обращаясь к собственной судьбине. — «ИЛ-второму» нужна огневая точка в хвосте.
— Можно поставить «эрэсы», чтобы назад стреляли. Будут отпугивать.
— Фрица не пугать, сбивать надо. Требуется огневая точка, — повторил Авдыш, — сместить бензобак, высверлить гнездо для пулемета и посадить воздушным стрелком
женщину.
— Женщину, товарищ капитан?.. Не то!..
— Товарищ капитан пожелали женщину, — ввязался в разговор Лубок.
— Не в том дело, пожелал. — Ниже безгубого рта Авдыша прорезалась острая складка, будто на подбородок наложили и туго натянули нитку, придавая лицу капитана выражение скорбное и назидательное. — Война, мужчин нехватка, вторую единицу для боевого экипажа могут зажать. Шутите, поднять численный состав штурмовой авиации против нынешнего вдвое?
— Вы какого года рождения? — спрашивает Авдыш истребителя.
— Лет сколько? Двадцать.
. — Вы, старшина, еще пешком под стол ходили, а я уже летал, теперь вы же меня поучаете.
— На ошибках учатся как раз не все, — клял себя Венька в ожидании расправы, с которой Баранов медлит. — Большинство их повторяет, за что и платится...
Складка на подбородке Авдыша углубилась, он оборвал разговор.
Молча, не удостоив злобного истребителя ответом, Авдыш направился к соседям, где Баранов развивал интересную тему.
Баранов сидел так, что Гранищев со своего места за столом, поставленным на время ужина для гостей конференции, оставаясь в полумраке, видел его хорошо. «Прощай, водочка, здравствуй, кружечка», — приговаривал старший лейтенант, уверенно и безошибочно производя разлив. Понюхав смазанную горчицей корку и всем своим видом показывая, что у него ни в одном глазу, Баранов активно включился в общий разговор. «Напрасно я с этой «бочкой» вылез», — думал Павел, стыдясь Баранова, всей душой желая, чтобы Баранов ничего о «бочке» не знал. «Бочкой» ничего никому не докажешь, тем более — старшему лейтенанту. «Если бы Егошин меня раньше просветил!.. Не только Егошин. Не только меня...» Все разговоры вокруг были вызваны конференцией, и многие, видимо, как и он, Гранищев, испытывали тот прилив уверенности в себе, какой в обычной жизни приходит с годами, а на фронте — по прошествии дней и даже часов. Егошин — так показалось Павлу — исчерпал себя. Неожиданно открывшись, отдал все. «Больше он меня ничему не научит. А Баранов глубок...»
— Кто рядом, кто сзади идет — вот что важно, — говорил между тем Баранов. — От верных людей слышал: у Чкалова, когда в Америку летели, кровь носом хлестала, Егор Байдуков пилотировал, Егор кашлял... Угадал Чкалов напарника, не промахнулся. Напарник — щит героя. Тем более у нас, в истребиловке... Говорят: «гамузом» воюем, «роем». Как посмотреть! Теснота, скученность наша оттого, что поневоле жмемся друг к дружке, ищем локоть, плечо товарища, а как же: ватагой все веселее. На людях и смерть красна.
— Объединить колхозы! — формулирует задачу, дает лозунг летчик-штурмовик. Обсуждение все тех же вопросов по второму, третьему кругу — без регламента, без списка ораторов, под наркомовскую стопку — превращает вечернее застолье в подобие сельского схода. — Объединить колхозы, сплотить в одну боевую артель истребителей и штурмовиков!
Неотделимые от судьбы Сталинграда, побратавшиеся с ним кровью, горем потерь, жаждой отмщения, сжигающие в огне над Волгой свою молодость и в нем же мужающие, летчики сообща, как издревле на Руси, ищут, вырабатывают лучшую защиту от врага и смерти. Дух конференции и здесь, в столовой, побуждает их к сближению, да и как иначе, если на всех ярусах воздушной битвы в явной выгоде оказывается тот, кто действует бок о бок с другом, товарищем, просто приятелем...
И капитан Авдыш уже не дичится, — подает голос, вносит свою лепту в разговор, вспоминая учения, проходившие до войны под знаком опыта испанских боев, с надеждой ожидая, не отзовется ли Баранов...
— При чем здесь Испания! — возражают ему. — Между Испанией и Сталинградом — ничего общего.
— Крайности вредят, — говорит Авдыш. — «Ничего общего»! Испания опыт дала...
— Дала Испания опыт, но кому? Бомбардировщикам, кто на «СБ» летал. Истребителям на «чайках», на «ишаках»... А мы — штурмовая авиация. С какой высоты «СБ» бомбят? Полторы, две, три тысячи метров. А мы? На «ИЛах»? Миллерово прошлый раз штурманули, механик докладывает: товарищ командир, гондолы шасси забиты конским волосом... вот какая высота!.. Немцы в небе господствуют, навели «мессеробоязнь» — как быть? Ходить «клином»? Бомбить залпом?.. Думать надо, самим что-то изыскивать.
— Опытные летчики нужны, — стоит на своем Авдыш. — Их умело использовать, привлекать... Когда в строю один горох, — и косится в сторону Баранова, ища поддержки или понимания.
— Уж не знаю, какая причина, — говорит Баранов, не слыша Авдыша, — только московский генерал сбавил тон, вроде как решил со мной посоветоваться... Да. Я заявил прямо: «Отменять водку летному составу нельзя!» — «Почему так считаете?» — это генерал. «Условия боевой работы, — говорю. — Питание летчиков поставлено плохо...» — «Калорийность пищи соответствует норме! Я проверял!» — «Калорийность, может, и соответствует, а в глотку ничего не лезет. В обед первого никто не ест, на второе каша да макароны. Один компот идет. Оно и понятно: жара плюс нагрузка. Очень большая нервная нагрузка... Когда на твоих глазах живая душа в светлую сторону отлетает, товарищ генерал, аппетит, — говорю, — не очень. Три-четыре боя подряд в таких условиях быка свалят. Поэтому нужна разрядка. Боевой день кончился, летчик остался жив, нагрузку надо снять. И подкрепиться... Сто грамм с устатку — отдай и не греши... Он и поест, и развеется, и поспит лучше...» — «А для кого ваш командир дивизии затребовал двойную норму спиртного?.. Каков радетель! Это же, слушайте, спаивание! Мы так воздушных бойцов превратим в алкоголиков!» — «Командир дивизии, — говорю, — просил двойную норму для меня...» Генерал — тигром: лицо красное, волосы рыжие: «Собутыльник, что ли?» Я опешил. Кто собутыльник? Кому? «Никак нет, товарищ генерал, двойную норму — за сбитые мной самолеты...» — «Цистерну вам лакать за сбитые?» — «По приказу наркома... Сегодня провел три боя, вчера четыре... За два дня убрал троих. Триста грамм...» — «Каким нарядом сбили?» Так спросил: «Каким нарядом?» Это у конников, возможно, наряды, в авиации нарядов нет. «Один; товарищ генерал». — «И как вы их? На мушку?» Такие понятия: «наряд», «на мушку»... «Навскидку, — говорю, — товарищ генерал, навскидку. Глаз-то прищуривать некогда, такое дело».
Летчики заулыбались: молодец, Баранов, хорошо отбрил!
— Он слушает. Руки за спину, голову склонил... тигр! Потом: «Патриарх Алексий о Боге — спрашивал? Божественная тема — обсуждалась?..» — «Нет. Спросил бы, я б ответил. У меня, товарищ генерал, своя религия...»
Оживление за столом сменилось тишиной: раскрасневшиеся труженические лица посерьезнели; двое новичков, из тех, что побойчее, топчутся в дверях, не сводят глаз с Баранова, с его товарищей; изба красна пирогами, а сходка — головами: летчики внемлют Баранову.
— «Братолюб я, — говорил Баранов, будто бы не замечая отшельника Лубка, к нему обращаясь тоже. — В братскую поддержку верю, взаимопомощь — вот моя религия. Как сам ты поступил с другим, так, будь уверен, поступят и с тобой... Друг друга понимаем, друг за друга бьемся, — значит, победим». Генерал слушает... Потом: «Я с вами согласен!» — и пошел...
— По такому случаю, товарищ старший лейтенант, — подхватывает Пинавт...
— Я свое принял!
— Хлебнем ликера «Шасси»?
— Этиленгликоль с амортизационных стоек не сливать! — с шутливой строгостью предупредил Баранов. — Я, говорю, свое выбрал, разве вот адъютант расщедрится» Как, адъютант?
Адъютант склонился над плечом Баранова.
— Тем более, — отозвался старший лейтенант. — Где он? Не каждый день, надо отметить. Штурмовик-сержант, как? Гранищев?.. Гранищев? — дважды переспросил Баранов, всматриваясь в ту сторону, куда показывал адъютант. — Да мы знакомы... Встренулись, как говорится... Сержант Гранищев на «ИЛ-втором» сбил «сто девятого» — новость, которую не мешало бы проверить, — так прозвучали его слова. — Давай-ка из тьмы на свет, сержант Гранищев! Как «ИЛ» кабину «ЯКа» сечет, я знаю, интересно послушать, как иловцы управляются с «мессерами».
— Управляются, управляются, — подтвердил Авдыш, наконец-то услышанный Барановым: старший лейтенант глянул на бритоголового незнакомца, решая, стоит ли его слушать...
«Не мешкай, сержант, не мешкай, тебя!» — подтолкнул Авдыш Гранищева.
— Вообще-то я истребитель, — улыбнулся Павел, подходя к столу.
— Правду говорит, — пояснил капитан. — Формировались в спешке, хватали, что под руку попадет, ну, и замели сержанта... А так он — истребитель.
— Даже из одного училища с вами, товарищ старший лейтенант.
— Чугуевец? На чем кончал?
— На «И-шестнадцатом»... В ЗАПе переучился на «ЯК», да пришлось сесть на «горбатого»...
— Я говорю, хватали без разбора. — Адвокатствуя при сержанте, капитан все больше привлекал внимание Баранова. — Немец думал взять тебя голыми руками... Поделись, поделись опытом!
— Какой опыт... Я его первым увидел.
— Вот! — подхватил Баранов так, чтобы все его слышали. — Первым увидеть — все. Первым увидел, первым и ударил, если голова на плечах, а не кочан капусты.
— Он думал, я «змейку» начну...
— А ты? — Баранов живо, всем корпусом повернулся к сержанту — так важен был ему его ответ.
— «Змейка», конечно, сподручней, — не в первый раз толкуя пережитое, Гранищев сейчас держал в уме подсказку, полученную на конференции. — Но к «змейке», надо думать, он пристрелялся... Короче, я первое свое желание подавил. Пересилил себя. Подскользнул, подскользнул, — показал он руками, — усыпил его бдительность. Он и выставился под мои стволы...
— Обрел сержант свободу! — Баранов значительно и строго оглядел стол. — Человек до свободы жаден. Обрести в бою свободу — все равно что заново родиться. Я первого сбил — ничего не понял. То есть сам себе не поверил. Капитан кричит: «Баранов, поздравляю!» Я молчу... слепцом был. Думал, капитан так, наобум кричит, на арапа... А сейчас чем больше фрицев, тем даже лучше. В каком отношении? Они меня в общей кутерьме скорей всего прошляпят, а уж я своего дурака не упущу...
«Вот она, тайна: обрел в бою свободу», — думал Авдыш подавленно, презирая себя, сознавая свое ничтожество перед истребителем.
— Я люблю, когда мы в большинстве, — сказал Пинавт.
— Кто не любит! — отозвался Баранов. — Нет, против «роя» возражать не приходится.
— Можно подумать, тридцать или сорок машин вертятся в одном клубке, — с тонким пониманием дела вставил Авдыш.
— Действительно! А на практике? Дай Бог пять «ЯКов» наскребем. Да пару «ишаков». Да завалящий «ЛАГГ»... И вся свадьба. Вот тебе и «рой»... Дружно — не грузно, другой-то опоры нет...
— Плюс мастерство, конечно, — добавил Авдыш, думая о Конной.
Сколько он себя ни понукает, сколько ни подстегивает, — не откроется он Баранову, не выскажет ему своих чувств... всего, что думает о нем. И о себе.
— Что ж, мастерство, — не в правилах польщенного истребителя оставаться в долгу. — Некоторые, говорят, на «ИЛе» «бочку» крутят!..
— Сержант Гранищев, — назвал Авдыш своего однополчанина.
— Узнаю чугуевца: и «мессера» сбил, и «бочку» крутит... Полковник Раздаев с Егошина за «бочку» такую стружку снял, что Егошин, улетая, заявил: ну, говорит, сержант Гранищев, ты у меня получишь! Пусть, говорит, лучше в полку не появляется! Так ему и передайте!..
— Товарищ старший лейтенант, — Павел придвинулся к Баранову, чтобы не все его слышали. — Вы братолюб, говорите... помогите мне вернуться в истребиловку.
— Ловко вклинился, — улыбнулся Баранов, прощупывая сержанта взглядом.
— В истребиловке я лучше сработаю.
— Егошина испугался?
— В истребиловке я больше пользы принесу.
— Я тут рассказывал, патриарх всея Руси Алексий у нас садился, — сменил Баранов тему, обращаясь к собравшимся. — Я его сопровождал... Благословил меня патриарх крестным знаменем... а что делать? Стоял, как инок... Благословил и вручил, не знаю, как назвать, — вроде ладанки, или памятку. Примите, говорит, это коммунисту не зазорно, поскольку прорицание не божеское, а мирское, но истинное...
Из нагрудного кармана гимнастерки Баранов вынул аккуратно сложенный листок. На нем столбиком, старательно выписанным рукой летчика, друг под дружкой стояли шесть имен: Муссолини, Гитлер, Сталин, Этли, Квислинг, Маннергейм. Третьи буквы каждой фамилии, будучи прочитаны сверху вниз, составляли имя главы государства, которое победит: Сталин.
— Старшего лейтенанта Баранова — на выход! В отсутствие командира комментарии дарственной патриарха продолжались:
— Маннергейм — это в Финляндии, линия Маннергейма, а Квислинг примерно кто?
— Предатель, — коротко пояснил Авдыш. Клемент Этли, лидер лейбористов, летчиков не интересовал, Муссолини, открывавший список, напомнил «макаронщика», итальянца, уже не раз встречавшегося под Сталинградом в боевых порядках «мессеров».
— Истребитель? — спросил о нем Авдыш.
— Да. Лобастенький, наподобие «ишака»: «Макки-Костольди».
— Еще спутаешь.
— Бей по ближнему, не ошибешься.
— Не скажи! Бахарева на том и погорела!.. А вот слушай: летала Елена с Барановым на Тракторный...
— Она с ним летает?
— Он ее с собой берет.
— Больше некого? Баранову, я думаю, уж могли бы подобрать напарника...
— Сам берет. Не каждый раз, но берет. У нее, знаешь, неплохо получается... Да. Сходили на Тракторный, все хорошо. Баранов ее на посадку первый пропускает...
«Не надо было мне сюда проситься, — понял Павел. — Завтра же улечу...»
— ...он ее первой пропускает...
— Миша — джентльмен.
— На том стоим... Пропускает. Бахарева вниз, перед выравниванием, как у нас заведено, оглядывается... Мишина школа, его выучка: прежде чем сесть, оглянись — нет ли сзади немца. Глядь, а там — лоб! Дистанция метров сто. Вот такой лбище. «Макки-Костольди», все о нем наслышаны... Уходить? Снимет. Она, чтобы скорее быть на земле, ткнулась перед собой... чтобы он на скорости проскочил... да резковато ткнулась. Шасси подломила, сама поранилась... А лоб-то этот — не «Макки»! В том-то и горе, что нет! Лоб — наш «Ла-пятый», «Ла-пятые» только что пришли под Сталинград, их никто не знал. Вот она, голубушка, и пострадала. Отвезли в Эльтон. Миша летал ее проведать...
«Завтра — в полк, — думал Павел, слыша этот разговор. — Делать здесь мне нечего. Свидание не состоится, в полк. И — на задание... Отдохнул!»
— Зашиблась Елена, пока не ходит...
— Жива и ладно. Железа Сибирь наклепает. Перед железом я теперь не преклоняюсь. Нету этого. Прошло.
Возвратился с улицы, занял свое место за столом Баранов.
— Полковник Сиднев подъезжал...
— Он же ранен?
— Контужен. Шеей не ворочает, голову держит, как бегемот... Спрашивает, как сходили полбинцы. Я сказал, что видел... Про тебя ввернул. — Баранов глянул на Гранищева. Павел замер. — Правда, правда, — заверил его Баранов. — К слову пришлось... Полковник мне случай привел, под Валуйками, что ли... Как «мессер» «горбатого» гонял, а Хрюкин с полковником с земли наблюдали. И так он его и эдак, говорит, а «горбатый» не дается, ускользает, огрызается. Горючка, наверно, кончилась, «мессер» умотал домой, «горбатый» сел — и крыло у него отвалилось. Выбирается из кабины летчик, капитан, мокрый как мышь. «Товарищ командующий, разрешите переучиться на истребителя!» — «ИЛ» не нравится?» — «Нравится! Но разрешите, товарищ командующий, я, говорит, с этим гадом поквитаюсь...» Хрюкин понял летчика — так сказал полковник.
— Разрешите, товарищ старший лейтенант, — подхватил интонацию барановского рассказа Авдыш, и впервые за вечер улыбка тронула его безгубый, скорбно очерченный рот. — Разрешите, товарищ старший лейтенант, я вам сыграю... Вам! — развел он мехи баяна и понуро склонил крупную голову...
Венька слушать мастера-исполнителя не стал — ушел из столовой от греха подальше...
Как увязший в распутицу воз собирает доброхотов дернуть, вынести поклажу из трясины, так и «спарка» Гранищева, застрявшая в капонире чужого аэродрома: топчутся возле нее, рассуждают и гомонят любители подать совет... Вот-вот, казалось, дохнут холодные патрубки теплым сизым дымком и забьет хвостом старая.
Но мотор не забирал, число болельщиков шло на убыль, а все вокруг укоряло Павла в медлительности, в задержке. Крылья грохотавших над головой «ИЛов» зияли рваными дырами, от их распущенных зениткой хвостов отлетала и пером кружилась в воздухе щепа; один самолет падал, не дотянув до аэродрома, и долго чадил и постреливал рвавшимися в пламени пожара снарядами, другой достигал посадочной полосы, но грубый удар приземления лишал раненого, как видно, летчика остатка сил, неуправляемая машина угождала в рытвину, вставала свечой. Санитарной машины не было. Молодые пилоты, прибывавшие из училищ и ЗАПов, тут же расхватывались «купцами» и спроваживались в боевые полки. Багрово-желтое к вечеру небо обещало на завтра все то, что происходило сегодня.
Гранищев подал в полк телефонограмму: «Спарка» барахлит, чужих рук не слушает, ждет своего механика»; прощаясь с хозяйкой, вручил ей банку сгущенки из бортового НЗ, а причитания женщины по своему раненому барашку («Не найду бойца с рукой — издохнет») слушал и не слушал... «Кизяк есть, вода натаскана», — говорила хозяйка, вытирая об подол поднесенную ей яркую банку, робкой улыбкой колебля готовность Гранищева к отлету... Дома, когда били скотину, мать приготовляла воду, начищала и крошила приправу, а отец, сняв в катухе с гвоздочка фартук, правил самодельный, хорошей стали нож с упором на рукоятке. Потом, умытый и румяный, как с полка, он подсаживался к кухонному столу, и разговор между отцом и матерью шел не о мясном обеде, смягчавшем своим ароматом стойкий запах избяного жилья, а о том, сколько убоинки положить на холод, как ее растянуть подольше.
Ничего определенного хозяйке не сказав, Павел покинул ее, твердо про себя зная, что больше к ней не вернется.
— Правда — нет, будто ты на «ИЛе» «мессера» замарал? — спросил его сосед — механик самолета.
Павел, поглядывая, не пылит ли полковая полуторка с Шебельниченко, поддакнул.
— А если бы на «ЯКе»? — спросил механик.
— Сперва к нему приноровиться нужно...
— Садись, пока свободен, — в великодушии, с которым предложил механик осмотреть его истребитель-«спарку», было что-то мальчишеское.
В ажурный вырез кабины Павел опустился быстро и легко: здесь все было ему под стать, все отвечало его хозяйскому чувству. Совершенно такие, как на «ИЛе», приборы расположены удобно, в тех же примерно точках панели, где он привык их видеть. Ручка управления, внизу защищенная от пыли брезентом, а вверху оплетенная эластичным шнурком, была прикладистей, чем ручка «ИЛа». Аромат кабины, настоянный на тех же маслах и бензине, показался ему тоньше. Мысленно украшая борт истребителя звездочкой, Павел связал с кабиной «ЯКа», с ее ароматом, с прикладистой ручкой возросшую в нем надежду пройти Сталинград и вдруг почувствовал, как он здесь беззащитен в сравнении с бронированным штурмовиком, с его кабиной, обложенной сталью, — как оголен он под прозрачным колпаком из плексигласа, за обшивкой из листового дюраля...
— Из чужой кабины да в свою? — услыхал он голос подошедшего Баранова.
Гранищев спрыгнул на землю.
— Нравится?
— Парного молочка испил, товарищ старший лейтенант.
— Парного?
— Правду говорю.
— А что твоя лайба, летать устала?
— Мотор не запускается.
— Ахты, старая, — тоном лошадника посочувствовал Баранов «спарке», как будто понимая причину ее непослушания.
Забибикал «ЗИС», и полковник Сиднев, приоткрыв дверцу, пальчиком подозвал к себе Баранова.
— Звонил Хрюкин, — сипло проговорил Сиднев, глядя летчику в ноги; охваченная тугим бинтом шея полковника не разгибалась. — Прибыть для вручения награды не смог. Одна «пешка» удачно отсняла Нижне-Чирскую, другая мост разнесла, тебе и напарнику благодарность.
— Служу Советскому Союзу!
— Новенький? — Сиднев глазами указал на Гранищева.
— Просится на «ЯК», я вам вчера говорил.
— Как это — просится? В баню просятся.
— Плачет: дайте, говорит, провозной, а нет, так вроде того, что он без провозного взлетит и сядет.
— На чем летает?
— Я объяснял вчера. Чугуевец он, товарищ полковник.
— В чем же дело?
— В ЗАПе попал на «ИЛы».
— Воздушный бой со штурмовиками затевать не буду!
— Он «мессера» на «ИЛе» сбил, товарищ полковник.
— Кто?
— Сержант Гранищев, мой однокашник.
— Подтверждения есть?
— Пепелище осматривал с воздуха лично. Закопал сержант «сто девятого».
— Очень просится?
— Житья нет, товарищ полковник.
— Дай ему пару провозных, посмотри сам... Если пойдет, потянет, с Раздаевым переговорю.
Плохо веря в происшедшую с ним перемену, под впечатлением похвалы Баранова: «Так всегда ее притирай, сержант, как в эти два полета, лучше не бывает», не представляя, во что все выльется, когда из госпиталя вернется Лена, — Гранищев почтительно и тихо восседал за ужином в углу столовой. Кроме всего прочего, на нем висела «спарка», необходимая полку. Вместе с неизвестностью, с тревогой в нем сильно было возбуждение от сделанного шага.
— Никто не знает, что происходит, — говорил капитан Авдыш, сидя над пустой тарелкой против Павла. — Ни Баранов, ни майор этот, который всех учит, ни Сиднев,.. Никто! — Голос его, не в пример вчерашнему, был тверд, даже резок, подбородок выставлялся победительно. — Никто, — продолжал Авдыш. — Всех разметало. С вынужденной шел, трех солдат встретил. Как в той песне: «Шли три солдата с немецкого плена...», потому все одной компании держались... Три солдата на пятачке, и все из разных пехотных дивизий, такой разгон... Других, напротив, сводит. Нахожу полк, являюсь в штаб — лейтенант Кулев, собственной персоной. Однокашник по финской. «Здорово!» — «Здравия желаю, товарищ капитан, — официально так, натянуто. — Представьте рапорт, изложите обстоятельства...» Ах ты, думаю, Кулев... хотел ему напомнить, как он с перепугу медаль «За отвагу» подцепил да еще кубарь в петлицу... Плюнул. Потом его смыло, Кулева. Куда-то исчез... Егошин мнит из себя вершителя судеб, а того не знает, что ты от него улепетнул.
— Майора видели?
— Хорошо сделал, — Авдыш пропустил вопрос мимо ушей. — Показал Егошину шиш. Все от него бегут.
— Не все, — заикнулся Павел.
— А не знаешь, так молчи! «Одесса» еще когда предлагал, давай, говорит, ко мне, штурманом полка. Да ловчила он, «Одесса», кому хочешь уши зальет. Я согласия не дал, Егошин и воспользовался...
— Майор — методист, — вставил сержант, чтобы быть справедливым.
— Методу знает, — кивнул крупной головой Авдыш, перекладывая планшет с левой стороны скамьи на правую. — Это — да. Мастер! Любого за пояс заткнет... Помнишь, по танкам били? Ты ходил или нет?
— Как же... мой первый вылет! В грозу врезались.
— Да. А вести группу должен был Егошин.
— Точно! Я его ждал...
— А я не ждал!.. Егошина еще с вечера назначили, а утром у него, видишь ты, живот, в кустах засел. Ракета, он за штаны держится... Меня на группу поставили. Друг дружку в строю не знали, не поняли... не шибко, я скажу, получилось... Цель незнакомая, разведданные отсутствуют. Как зенитка забарабанила! Черно... Егошин на моем месте не лучше бы сработал... И потом: летчик бьет машину не потому, что зазнался. Глупость это. Я так майору и заявил. Он на дыбки: «Ты мне базу под аварийность не подводи!» При чем тут база? Летчик контроль упускает, потому самолет и бьется, а почему, на то миллион причин, зазнайство — одна из миллиона. «Гнилых настроений не потерплю!..» Такая у него метода, видишь... все связал в одно с этим случаем на взлете, — Авдыш провел ладонью по стриженой голове. — Других винить не хочу, да лететь-то должен был не я... Как получилось, если помнишь? Серогодский повел — не вернулся. Агеев повел — не вернулся... Егошину лететь, он опять в кустах, опять у него живот... ну? В тот-то раз по танкам, если бы, к примеру, он повел, так, наверно, я бы тогда его место занял... Авдыш бы Егошиным распоряжался, а не Егошин — Авдышем..-A тут он мной, и опять на чужом хребте в рай метит... По-людски это? Не обидно, сержант, скажи?.. Все тихой сапой, за спиной, под ростовский приказ меня и упек. Чем больше других под приказ подведет, тем для него лучше. Требовательный командир, служит Родине... И Авдыша сплавил, чтобы глаза ему не мозолил, и капиталец нажил, да промашка получилась! — Неожиданно и с мрачным торжеством Авдыш прихлопнул по своему планшету.
— Закрыли дело?
— Живой остался!.. Девять вылетов оттарабанил, из них пять — на «Питомник»... А на «Питомник» продраться, на танковый резерв противника, надо весь город пройти, море огня... Капитан Филипченко один раз стаскал туда-обратно и говорит: «Я-то не штрафник, с меня достаточно, теперь впрягайся сам...» И вот пять вылетов на «Питомник», кому скажешь — не верят, — он приподнял планшет перед собой обеими руками, как икону. — Я, конечно, варьировал, заходил то с севера, то с юга... Разбазаривать такие кадры, как Авдыш, никому не позволено. — Он бережно опустил планшет на место. — Из партии меня выставить и у Егошина язык не повернулся. Руки коротки. Я был и остаюсь коммунистом. Жаль, Баранов не внял моей песне без слов...
— Почему? Он слушал. Такая хорошая музыка...
— Спасибо... Я душу обнажил, раскрылся.:.
— Нехватка нежности?.. Без нее мы тут дичаем, так?
— И это... Каждому свое... Да Баранов-то, оказывается, глухарь, лишен слуха начисто... Ты какого года?
— Двадцать второго...
— Ты, сержант, еще был с горошину, когда я уже летал по-хорошему... Я двадцать второго июня, кстати, два вылета сделал, понял? С утра-то еще раскумекивали, что за тревога, боевая или учебная, а как «юнкерсы» вдоль полосы да по стоянке серийно жахнули, — расчухались, сами поднялись, кто уцелел... Два, на другой день два... полсотни боевых вылетов, если на круг брать, имею. Такими летчиками, как Авдыш, сорить — шиш ему, Егошину! Штаб армии телеграмму дал. — Не раскрывая планшета, капитан стал цитировать на память, щуря глаз: — «Капитан Авдыш обязан был явиться в штрафную эскадрилью со своим самолетом...» — вот как постановлено! Со своим! Куркуль Егошин разве самолет отдаст? У него снега зимой не выпросишь!
Мне побитый от раненого достался, между прочим, тоже члена партии. Парня в госпиталь, меня в его кабину. Три «ЯКа», два «ЛАГГа» да мой «горбатый», такой джазбанд «Смерть Гитлеру» под управлением капитана Филипченко... Дальше я дословно списал: «Откомандировать капитана Авдыша обратно в полк Егошина для продолжения боевой работы. Начальник штаба полковник Селезнев». Селезнев Эн Гэ, с инициалами... Так умные люди вопрос решают... Выпроваживать меня без техники у него права не было!..
— Вы тот вылет помянули, в грозу...
— Теперь попляшет, почему так с Авдышем поступил...
— Я действительно не все знаю. В тот-то раз гроза кончилась, никто не ждал... я, например. Почему вы вправо взяли,товарищ капитан?
— Он все быстренько, на скоростях. Знал, поди, что пустым отправлять не положено?.. «Давай-давай», только бы галочку за кампанию получить, тертый кампанейщик, не сразу включился. Осматривался, выжидал. А как понял, что его за шкирку возьмут, если мер не примет, рвения не выкажет, так на мне и высыпался... Вправо, говоришь? Я же объяснил: я других на танки готовил, летчиков братского полка, без ведущих остались. Все продумал, с ними проиграл, чтобы не шаблонно, а меня оттуда сняли, к вам поставили. Настроился, знаешь, как бывает, настропалился, от бешеной зенитки туда, вправо, и рванул. Так получилось... Завтра в полк возвращаюсь.
— На чем?
— Что подвернется.
— Товарищ капитан, вы мою «спарку» возьмите. На ней возвращайтесь. Они «спарку» ждут...
— Меня не ждут, «спарку»... А что? Ушел пустой, вернулся с лошадью... Ты останешься, значит? Правильно. Солдат. Встречу Егошина, скажу: избегай, скажу, товарищ майор, излюбленных удовольствий, обращайся к неприятным обязанностям.
Дня через три, ночью, Баранов появился в мазанке, крытой соломой, где на приземистых нарах, застланных парусиной, вповалку спали летчики; чиркая спичкой, он поднимал своих тихонько и не подряд, а выборочно, но голос командира в поздний час по привычке воспринимался как «Тревога!», и пробудились все.
Посматривая на одевавшихся летчиков, Баранов медлил, как бы сомневаясь в новости, только что им полученной, но и сдерживаться ему было трудно.
— Перегонка! — выпалил он и просиял, освещая поднятым вверх огоньком свои влажные десны.
Командарм Хрюкин в частых разговорах с Москвой по прямому проводу прежде всего информировал Генеральный штаб о численном составе армии, а заканчивал свои доводы Однообразно и требовательно: «Для восполнения убыли в живой силе и технике армии необходимо...» Тридцать маршевых полков, направленных под Сталинград в августе, вобрали в себя все, почти все, что могли поставить фронту эвакуированные на восток авиационные заводы, только-только набиравшие производственную мощность. Сентябрь требовал больше, чем дал август. «От истребителей сейчас зависит наша победа в воздухе», — настаивал Хрюкин в приказах. «Перегонка» силами самих фронтовиков позволяла поднять с заводского двора еще не просохшую от покраски продукцию и тут же бросить самолеты в сражение.
Впервые такое дело поручалось Баранову.
«Перегонка» — не бой с вечной тайной его исхода, но выбор, который сейчас сделает отец-командир, не менее важен, чем выбор перед боевым заданием на КП; он может одарить фронтовика великой милостью передышки, а может и лишить его этого счастья.
Поднимая своих летчиков, Баранов Ваньку Лубка обошел: так случай помог ему распорядиться старшиной, наказать его своей властью.
И о чем же они загудели, не замечая пластом лежавшего на нарах Веньки, отворачиваясь от него?
Об экипировке!
Как будто не под Сталинградом они.
Как будто курсанты-первогодки увольняются в город...
Авиация выходит на люди, авиация не должна ударить в грязь лицом!
Однако выбора в гардеробе молодых военных не было.
Облачались кто во что горазд.
На Пинавте кроме шлема, сдвинутого застежкой к носу, болталась куртка с чужого плеча. Гранищев перепоясал брезентовым ремнем свою курсантскую шинельку. Сам Баранов, правда, пребывал на высоте: его длиннополый кожан оставался гвоздем переменчивой авиационной моды. Как искушенный предводитель, он обдумывал и решал перед марш-броском проблемы капитального свойства: а) продовольствие, б) финансы.
Продаттестат выправил групповой, денег же на командировку в наличии не оказалось. «Зачем вам деньги? — ворчал поднятый Барановым с постели начфин. — В тылу все по карточкам. Сколько вы там пробудете?» — «В кино сходить, пивка попить, — настаивал Баранов на «всеобщем эквиваленте», как, в память о курсе социально-экономических дисциплин, называл он деньги. — Мало ли... В бане помыться. Не помню, когда последний раз в бане был...» — «Пустой сейф, — вздыхал начфин. — Ничем не могу...»
Тогда Баранов пустил по кругу шапку, поручив Пинавту составить поименный список и в «день авиации», то есть в очередную получку, копейка в копейку рассчитаться со всеми, кто выручил отбывающих на завод летчиков. «Мелочиться-то, старший лейтенант... Дайте там жизни за наше здоровье!»
Глубокой ночью вошли они с парашютами в транспортно-десантный «дуглас», ревевший прогретыми моторами, изрыгавший пламя готовности к резвому старту. «Бьет копытами Конек-Горбунок!» — гоготал «Пинавт», усевшись прямо на покатом дюралюминиевом полу, мелко дрожавшем, подпрыгивая на нем и съезжая в хвост набиравшего скорость «дугласа». Нутром чуя, как споро выбирается на благодатный курс разгрузившаяся под Сталинградом машина, Коньком-Горбунком унося их из адова пекла, летчики вповалку же, как на приземистых нарах, пристраивались досыпать. Гранищев ворочался долго. Как бы он ни укладывался, старший лейтенант Баранов был перед его глазами. Павел никого ни о чем не спрашивал, знал об отношениях командира и Лены только то, что услыхал в столовой: он берет ее с собой на задания, летал проведать в Эльтон... Сделать ясный, безбоязненный вывод: что между ними? — Павел не отважился. Не мог. Окопчик, укрывший их с Леной, стал сокровенным его достоянием, врачующим и саднящим, их достоянием, — хотел он и не смел, не решался так думать... Конечно, как говорит Егошин, Баранов есть Баранов, но окопчик, мелькнув, когда над ними измывался «мессер», придал ему силы, он помнит это всегда, будет помнить вечно...
Несколько часов спустя в ходуном ходившем трамвайном вагончике сталинградцы катили с одной окраины города на другую, застроенную поднявшимся за год войны авиационным заводом.
Щурясь на мягком осеннем солнышке, провожали они береты, косынки, юбки и туфельки, мимикой показывая их друг другу и так же мимикой говоря: хороши, правда? Слушали забытые трамвайные трели, специально для них выбивавшиеся вожатым-подростком, вслух читали надписи «Гастроном», «Аптека», нанесенные на гигантские, во всю длину фасада, стекла, покрытые пылью, омытые дождями, отчего впечатление извечного покоя, царящее в этом воздухе, еще больше усиливалось; делали ручкой милиционеру в белых перчатках, с металлическим свистком на тонком шнурке, пропускавшему вагон с фронтовиками по зеленой улице, и снова, однообразно водя головами, взирали на милых горожанок.
В конце маршрута старенький вагон проскрежетал колесами на трамвайной петле, пробуждая эхо пышной, в раннем золоте рощи. Какая-то тетка торговала на остановке маковками. Баранов, помянув недобрым словом начфина («Зачем вам деньги?»), закупил теткин товар оптом и распорядился, чтобы Гранищев раздал его летчикам. «За адъютанта держит, — подумал Павел. — За водкой пошлет...»
Маковки поделили быстро, весело, смачный хруст, с которым они уничтожались, напоминал о детстве, а заводской двор, словно бы угадывая чаяния фронтовиков, встретил их распоряжением: «Ждите!»
«Ждите!» — сказали Баранову возле сошедших с конвейера «ЯКов». «Сталинград не ждет, — строго возразил отец-командир. — Сняты спецрейсом с боевой работы. Где директор?» — «Неувязка, — объяснили летчику, — смежник не дослал заводу монтажные комплекты. Нет, в частности, ерунды — дюритов, резиновых трубочек. С резиной всегда туго. А на моторах обнаружена течь». — «Нас с фронта сняли, Сталинград не ждет, — повторил Баранов, — Где начальство?» Его стали успокаивать, говоря, что самолеты получил для них загодя прибывший с фронта полковник Дарьюшкин. «Знаю Дарьюшкина. Полковник, командир дивизии...» — «Говорят, уже не командир... неважно... Полковник шуровал здесь — пыль столбом! Беспорядки, конечно, имеются... Какой-то охламон вздумал покатать на «кукурузнике» свою квартирную хозяйку, финал таких прогулок известен; другой прилетел с фронта на боевой машине с женой-официанткой, да и загулял. Полковник Дарьюшкин всех их железной рукой — под Сталинград. Капитан с ЛИСа сунулся к нему насчет снабжения, дескать, с харчами плохо. Дарьюшкин его послушал, послушал да и сказал: «На фронт — готовы?» — «Как прикажет Родина...» Он и капитана прибрал. Короче, сегодня полковник и этот капитан с ЛИСа вылетели к смежнику. Рассчитывали в обед вернуться, пока их нет». — «На чем полетели?» — спросил Баранов. «О, транспорт современный: На «ПЕ-два» — «Откуда у вас «ПЕ-два»?» — «Какой-то экипаж по дороге в Сталинград отбился от полка. Дарьюшкин его тоже прищучил. Летчик после ранения, видать, не долечился, открылась рана, угодил в госпиталь. Вот эту «пешку» и взяли... «Летаю на всех типах, — сказал капитан. — На «пешках» же поведу истребителей в качестве лидера...» Он себя уже лидером видит».
Ни к обеду, ни после обеда «ПЕ-2» с дюритами не возвратился.
В распоряжении сталинградцов, весь день толкавшихся на заводе, оказался вечер.
Вольный вечер в тылу, где благоухает осень, где парки, танцплощадки, возможность непредвиденных, по-военному коротких встреч. Немного их на памяти каждого; воздух тревоги и неизвестности, повсеместно разлитый, создавал предрасположенность к ним, этим встречам, ни к чему ни мужчин, ни женщин не обязывающим, а может быть, и не последним...
— Пройдемся по городу, — решил Баранов. — Где у вас клуб?
Дело молодое — конечно, в клуб.
Лица окончивших смену женщин были не так свежи, как утром, но несли в себе заряд привлекательности и надежд. В этом потоке, ко всему готовые, ни с кем в отдельности не заговаривая, все замечая, продвигались летчики вдоль забора, оклеенного рекламой фильмов «Три мушкетера» и «Джордж из Динки-джаза», вдоль метровых имен столичных знаменитостей на афишах, — в указанном им направлении. А в центре города, в старинном здании с порталами и глухими стенами, — областной театр, где лицедействует эвакуированная из Ленинграда труппа.
Ах, театр!
Не сцена, не холодок, набегающий в зал при открытии занавеса, чтобы смениться затем жаром страстей, — нет: пять ступенек с перильцами и плотная, дерматином обитая дверь «Служебного входа» — вот что отвлекло Баранова от фронтовых забот. Анатолий Серов, без ума влюбившийся в актрису, Иван Клещев, сталинградский герой, у которого, по слухам, роман с кинозвездой... Двадцать лет прошло после гражданской войны, другая в разгаре, но что бы в мире ни происходило, личная жизнь вознесшихся к славе привлекает внимание... Он, год тому назад безвестный лейтенант, ныне вроде бы тоже знаменитость, избранник судьбы. Почему не рискнуть? Не завести знакомство? Он обвел глазами летчиков: они-то в нем уверены? Летчики, скорее, выжидали. Некоторый опыт, распалявший воображение, Баранов приобрел... Почему бы все же не рискнуть? Она — Лиза. Или Софья... Нет, не Софья... Чацкий, шустрый малый, остряк, что он в ней нашел, в Софье? Она ж его вокруг пальца обвела и дураком выставила... А что, как она и в жизни хвостом крутит? Водит за нос? «Грех не беда, молва нехороша...»
Так или примерно так размышлял Баранов, задержавшись возле щербатых ступенек «Служебного входа» старинного, дореволюционной кладки здания. Летчики тоже остановились... Что удивительного, если подумать: и авиация и театр в какой-то мере отвечают жажде зрелищ, и авиация и театр не чужды шумному успеху.
— Что это он вздумал — на «ПЕ-два» лидировать? — вслух спрашивал Баранов о капитане, посланном за дюритами, поглядывая, не догадается ли кто впустить их, пригласить в храм искусств. Нитяные перчатки по локоть, белые платья до пят... Оголенные плечи... Сказочный, волшебный мир — в одном перелете от Сталинграда! Гранищев, неофит среди истребителей, о лидере не слыхивал. Лидер, объясняют ему, это экипаж «ПЕ-2», «пешки», — со штурманом, средствами радионавигации на борту... Капитан с ЛИСа хочет на «ПЕ-2» возглавить возвращение группы Баранова в Сталинград. «А мне-то театр зачем? — думал Павел, выслушивая доводы «за» и «против» лидера. — Там у него — Лена, здесь — артистка, — осуждал он Баранова, как бы уже уличенного в постыдном грехе двоеженства. — Вроде и признал меня Баранов, а как к нему подступиться — не знаю... Не знаю».
Фея участливости и добра на крыльцо не взошла, и робость, робость одолела отца-командира... Потоптавшись у входа, летчики пошли дальше.
В месте, им указанном, — одноэтажное бревенчатое здание: клуб.
Входная дверь в клуб была закрыта.
В театр — сами не осмелились, в клуб — их не пускают.
Смутные надежды фронтовиков не сбывались.
Завтра их здесь не будет.
Кто знает, что с ними будет завтра.
Баранов подергал дверь. Павел, тоже в нее потарабанив, приложился ухом.
— Музыка... патефон, — расслышал он. Глаза летчиков встретились.
Командир, предпринявший этот поход, мог отвалить, мог продолжить осаду.
— «Вальс цветов», — сказал ему Павел.
— На обратной стороне, — стал припоминать Баранов, — «Пламенное сердце»?
— А не «В парке чаир»?
— «В парке чаир распускаются розы»? Ага, не забыл! — вот была радость: не забыл! — - И «Вальс цветов» помню, и в «Парке чаир...». Славная песенка... «Помню разлуку...» — тихонько напел он, отбивая такт носком сапога. — «В даль голубую, в ночь ушли корабли...»
— Прямо про нас: «В даль голубую, в ночь ушли корабли...» — сказал Павел; оба примолкли, заново осознавая свой неправдоподобный, фантастический отлет из Сталинграда.
— Если я когда женюсь, — неожиданно сказал Баранов, — так уж для себя. А то иные, я замечаю, готовы жениться напоказ, пыль в глаза, чтобы вокруг говорили: «Ах, какая интересная пара!..»
— Кто? — спросил женский голос за дверью.
— Летчики! — подобрался Баранов. — Летчики с фронта, — добавил он, подмигивая Павлу.
«Он ничего о нас не знает, — решил Павел. — Лена обо мне ему не говорила. Что, собственно, она могла сказать?..»
Коридор, подсобные комнаты, зрительный зал, куда они, потолкавшись у входа, ввалились, были забиты столами, шкафами, раскладушками эвакуированных контор и трестов, только сцена оставалась свободной — она-то и собрала знакомых с нею десятиклассников прошлого года выпуска. Три мальчика и пять девочек впервые с начала войны встретились здесь, чтобы разузнать о ребятах, друг о друге, впредь держаться поближе... Патефон — клубный, пластинки прихватила Зорька, ленинградка, новенькая в их компании, вместе строчат в пошивочной на ручных машинках солдатское белье для фронта. Мальчишки при виде авиаторов примолкли, девочки, стоя кружком и не зная, чего им ждать, потупились.
Зорька, ленинградка, медленно направилась со сцены, но кто-то из ребят — случайно ли, намеренно ли — пустил пластинку, ее любимую пластинку; зазвучавший напев, так показалось, переменил движение Зорьки: она повернулась к старшему лейтенанту. Остановилась, замерла перед ним. «Углядела! — восхитился Пинавт. — С первого захода!» Он был недалек от истины. Пожалуй, правильней было бы сказать: «Угадала!» Она поняла то, что, конечно, понимали и другие, видя на улицах города неприкаянных, слегка ошалевших от перемены обстановки, разномастно одетых летчиков. Поняла — и отозвалась. Молча, с готовностью к танцу, стояла она перед летчиком, ни о чем его не спрашивая, даже такого банального вопроса, как «с фронта?» или «на фронт?», не задавая. Баранов сбрасывал реглан. Зорька терпеливо, с достоинством его ждала, ободряя своим примером сверстниц. С первым па она овладела собой окончательно. На ее открытом, со вздернутым носиком лице появилась улыбка — улыбка удовольствия от собственной смелости, от кружения, а больше всего от признательности старательного и послушного ей летчика. Что значит находчиво, смело поступить! Ее подружки, игравшие до войны на сцене клуба в «Чужом ребенке», «Альказаре», «Пади Серебряной», других спектаклях драмкружка, готовы были признать в ленинградке, никогда о сцене не помышлявшей, примадонну. Росленькая, в мужском свитере с глухим воротом, она неприметно для окружающих придерживала, поворачивала и направляла русоголового партнера, как было нужно для танца и для них обоих, движение в согласном ритме, полузабытые, оглушительные «Брызги шампанского» не оставляли места Сталинграду, заводу, дюритам... На помягчевшем, исполненном усердия лице Баранова, поросшем за ночь светлой щетиной, проглянула робость, которую он хотел бы скрыть, но которая, вопреки его желанию, выступала всякий раз, когда летчик, не остывший от боя, повиновался голосу сердца, — в Эльтоне, где жар женских рук лег ему на затылок, у ступеней «Служебного входа», здесь, в заводском клубе...
Какой-то малец, взобравшись на сцену, бесцеремонно разбил их пару, сурово прервал Зорьку, открывшую было рот: «Давай помалкивай!»; привстав на цыпочки и конспиративно оглядываясь, шепнул Баранову: «Я с завода... «ПЕ-два» грохнулся, просят позвонить...»
«Баранов! — представился Михаил по телефону отрывисто, как делают старшие начальники, зная, какое впечатление производят их фамилии. «Сел на брюхо, — сказал дежурный, ждавший его звонка. — С дюритами...» Под Сталинградом дня не проходило, чтобы о ком-нибудь из летчиков не разнеслось: «Сел на брюхо!», и это было доброй вестью. Предвоенная песенка еще звучала в нем, падение «пешки» грозило затянуть, сорвать перегонку. «Когда получим дюриты?» — спросил Баранов. «Рассчитываем на завтра». — «Твердо?» — «Снаряжаем грузовик... Осень, какие у нас дороги, известно... Сто тридцать туда, сто тридцать обратно, — рассуждал дежурный. — По трясине...» — «Кукурузник» на заводе есть?» — «Есть». — «Готовьте! На рассвете я сам туда махану...»
Он вернулся в зал.
Гремел патефон, раскрасневшаяся Зорька с неугасавшей улыбкой была нарасхват.
— И зачем ты только сюда меня затащил, сержант? — выговорил Баранов Гранищеву.
...Капитан в старенькой, с треснувшим козырьком авиационной фуражке и в такой же поношенной куртке, обходя распластанную на пахоте тушу бомбардировщика, рассказывал Баранову:
— Посадил, спроси штурмана — как!.. По науке. Комар носа не подточит. Притер ее, милую, и — на тебе: яма!
— Счастливо отделались, — заметил Баранов.
— Штурман шишака набил хорошего, а так... Обрыв шатуна, я думаю... Ее же с воздуха не увидишь, яму...
— На одном моторе «пешка» не тянет?
— Идет со снижением... Тянул, сколько мог, и вот — крах надеждам...
— Спасибо скажи, что не загорелись, сами целы...
— Сто тридцать верст не дотянул... Волчья яма, все к черту! — с горячностью только что потерпевшего аварию причитал капитан. — Но посадил я ее!.. Честно: самому приятно. Такое, знаешь, нежное женское касание. — Баранову надлежало не только воздать должное мастерству, но и пожалеть, что собственными глазами не видел приземления скоростного бомбардировщика на колеса в пустынном осеннем поле...
— Ладно, дюриты перегрузим, через час будем дома...
— Перегрузим! — капитан остановился. — Как же мы их возьмем, если они под брюхом, в бомболюках, вон где. — Он пнул зарывшуюся в землю моторную гондолу. — Прежде надо самолет поднять...
— «Прежде»... Я из Сталинграда!
— Знаю...
— Второго дня прикрывал вокзал.
— Понятно...
— Городской вокзал, недалеко от берега. Чей он сейчас — не скажу.
— Да почему я собственной шеей рисковал, садясь на колеса?! Штурман мне под руку орет: «Сажай на пузо, скапотируем!» А дюриты? Ведь мы их придавим, запрем, садясь на брюхо! — Капитан отступил назад, оглядывая многотонную глыбу, подмявшую под себя монтажные комплекты...
Тут в узости астролюка, что ближе к хвосту «пешки», выставился из самолета штурман. Неумело наложенный, влажный от крови бинт охватывал его голову, как чепчик, сдвинутый набекрень, что придавало штурману некоторую лихость, а свободный от повязки открытый темный глаз, быстро перебегая с Баранова на капитана и вновь на Баранова, сверкал затравленно.
— Память отшибло! — объявил штурман. «Чокнулся!» — решил Баранов, наглядевшийся на товарищей-бедолаг, получавших в воздушных боях или при катастрофах «сдвиг по фазе», как выражались в таких случаях технически изощренные авиаторы.
— Совсем отшибло память, — повторил штурман с улыбкой, отчего Баранову стало совсем нехорошо: он представил себе возвращение на завод с этим малым вместо дюритов... — Ведь я в кабину стрелка, — он показал на астролюк, откуда вылез, — забросил несколько ящиков!
— Так чего же ты стоишь! — закричал капитан. — Перегружать!.. На полусогнутых!..
Штурман исчез в кабине, а оттуда один за другим полетели на землю ящики.
На «кукурузник» запчасти перебрасывали в четыре руки.
— Полковник Дарьюшкин, как прилетел, — рассказывал Баранову капитан, — взял этого Кулева, штурмана, в стос — жуткое дело!.. Вплоть до того, что под трибунал! «Воля ваша, товарищ полковник, а вины моей нет: меняли винты, у летчика рана открылась». — «Твои товарищи кровь проливают, жизни кладут, а ты в тылу целый месяц кантуешься» — «Винты сменили, теперь могу на вас сработать», — это штурман. «Что? Что значит — сработать? Что значит — на меня?» — «У вас, товарищ полковник, чрезвычайные полномочия, а транспорта, чтобы осуществить полномочия, нет. Неувязка военного времени. Вот вам транспорт — исправный самолет «ПЕ-два». — «Я сам решу транспортный вопрос... в вашем участии не нуждаюсь!» — «А вы знаете, кто доставил генерал-майора авиации товарища Новикова из блокадного Ленинграда в Москву? Самолет «ПЕ-два»! Быстро, надежно и вовремя. В результате товарищ Новиков — генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС... под Сталинградом, когда немцы вышли на Рынок, я слышал, как командующий открытым текстом призывал по радио командира бомбардировочной дивизии ударить по немецким танкам «всею наличностью, всею наличностью...». Да... Скорость «ПЕ-два» — до пятисот километров в час. Нынче здесь, завтра там. Размах и деловитость...» Клюнул полковник Дарьюшкин. Спросил: «А летчик?» — «Капитан с ЛИСа, летает на всех типах...» А знаете, почему Дарьюшкин не полетел с нами обратно?.. Любопытная деталь...
— По коням! — прервал его Баранов.
— Штурмана оставляем?
— Брать некуда — в «кукурузнике» места нет... Пусть лом караулит.
Малец, бестрепетно разбивший в клубе танцующую пару, на заводском дворе также выступал в роли Гермеса, задолго до возвращения «кукурузника» прожужжав всем уши, что «товарища Баранова ждут на проходной». «По какому делу?» — поинтерсовался Гранищев. «По личному», — скупо ответил разносчик новостей. Так что прилетевший на «кукурузнике» Баранов прямым ходом проследовал к проходной. «Ленинградка, — понял Павел. — Прискакала прощаться...» У него не было на Баранова зла, он испытывал удивление и горечь, зная, что он бы, Гранищев, оставив в Эльтоне Лену, не стал гоняться за первой попавшейся юбкой. «Ее воля, ей решать, — думал Павел. — Но я ему все-таки выскажу... Баранов есть Баранов, но я скажу...»
Капитан ходил по заводскому двору гоголем, рассказывал, как он наперекор штурману, хватавшему era за руки, приземлил в открытом поле на колеса «пешку», какая замечательная получилась посадка, и если бы не яма... Глядя на подростков из заводской бригады, разбиравших и разносивших дюриты, как муравьи, во все концы стоянки, капитан принялся досказывать возвратившемуся из проходной Баранову «любопытную деталь», относящуюся к полковнику Дарьюшкину:
— В ночь перед возвращением полковнику привиделся дурной сон. «Скверный сон», — сказал он и не полетел. Каков полковник? Лично я его понимаю. В авиации приметы сбываются. Я, например, будучи начлетом, сколько выпусков ни делал, женщин первыми не выпускал. Ни при каких условиях. Какой бы класс подготовки ни проявляли — нет.
И что же? За четыре года работы ни одной аварии. Ни единой! А встречались, могу сказать, незауряд-девицы. Женщины, знаете, по природе своей аккуратистки, любят чистоту во всем, умеют пилотировать на зависть. Помню, сдают мне учлетку Бахареву...
— Елену? — спросил Баранов.
— Елену.
— Дерзкая летчица, — сказал Баранов. — В госпиталь попала. У нас под Сталинградом... Хорошо, сильно пошла, «Дору» сняла...
— «Дору»! Не простое дело, могу сказать, а?
— Да еще одного в группе... На Тракторном...
— Бахарева! Елена!.. Мой кадр!..
— Да! И надо же на посадке...
— Я ее в аэроклуб инструктором взял!.. А что, а что? Баранов кратко рассказал.
— Сильно побилась? — спросил стоявший рядом Павел ровным голосом, придающим иным вопросам больше силы, чем патетика.
— Корсет наложили. Шутит: «Чтобы фигура не испортилась...»
— Фигура у нее... да, — заметил, как знаток, бывший начлет аэроклуба, памятливый Старче. — А на голове обычно, — он описал круг над теменем, — лента. Что также было ей к лицу... Даже очень.
— Вы летали в госпиталь, товарищ старший лейтенант? Спросить, как побилась Лена, стоило Павлу немалого труда, — разговор мог принять рискованный характер; но быстрота, живость отклика, даже, показалось Павлу, желание самого Баранова заговорить о Лене ободрили его. И он задал вопрос, которым мучился больше всего.
Баранов, тут же поворотившись к капитану задом, приобнял сержанта за плечи и повел его подальше от посторонних ушей и глаз.
— Слушай, — сказал он шепотком, глядя вперед весело и беспокойно. — Я полетел к ней. В Эльтон, в госпиталь... Она, конечно, не ждала, обстановку знает. Договоренности об этом не было и быть не могло. Но я-то томился в белых стенах, первая радость в госпитале — когда свои навестят. Лучше всякого лекарства... Да после Ельшанки, после Тракторного... Надежная, все видит, контролирует пространство. Справа встанет — у меня справа никаких забот!.. Такому ведомому, как Бахарева, не то что «Доры», а еще трех «мессеров» в придачу отдать не жалко, что ты! Орлица!.. Короче, под конец дня на «фанерке» вырвался... Побрился, сменил подворотничок, полетел... Достал конфет. По блату, в лавке Военторга... Слипшихся, в газетном кульке. «Вы говорили, генерал меня шоколадкой угостит, — это она смеялась, когда нас генерал строгал. — Хоть бы конфетку дал...» С гостинцем полетел к Елене, — в третий раз начинал и все не трогался с места Баранов, бедово взглядывая на Павла, — а попал к Оксане. В том госпитале лежал, перед выпиской она меня поцеловала... утром, когда градусники ставят. Один раз, больше ничего... Идет с дежурства мне навстречу. «Миша, говорит, ты все это время плакал?» — «Почему?» — «Ты же написал: «Моя душа в слезах». А я и забыл, что написал... На дверке ее тумбочки — мой портрет. «Прочли в газете, что тебе присвоили звание Героя, я и говорю: «Девочки, ведь это наш Миша, он у меня в третьей палате лежал!» — «Что же ты, девонька, такого парня упустила?» — «Не упустила, он мне ответил, вот письмо... А портретик ею да приколола...» Вот такая деваха Ксана, во! — Он выставил вперед большой палец. — Время улетать, она и говорит:
«Ты свою летчицу навести, она в корсете, трещина ребра. Не опасно, но болезненно... Проведай ее, слышишь?» — «Времени нет. В другой раз... Я ей записку оставлю!..» Вот так: конфеты, сладкое, — Ксане, записку — Елене...
Легонько отставив от себя сержанта, он уставился в бетон, на котором они стояли.
— Она тебя помнит, — добавил Баранов.
— Ну да? Как же...
— Помнит, помнит. Говорила.
Излился старший лейтенант, а души не облегчил, оправдания себе не нашел.
Но отношения с Гранищевым — он чувствовал это и по себе, и по тому, как просветлел лицом сержант, — получили ясность и определенность.
...Обговаривая боевой порядок и маршрут на Сталинград, Баранов поставил Гранищева с собой рядом. «Лубок плачется, дескать, Гранищев строя не чувствует, с ним летать трудно. Вот я и посмотрю...»
Во главе группы пошли Баранов и капитан с ЛИСа.
Павел, держась старшего лейтенанта, чувствовал себя на маршруте, определенном жирно прочерченной линией пути, уверенно, даже увлеченно. В темном русле Волги, возникшей под крылом, стояли светлые облака, остро серебрилось солнце, он читал местность, как на штурманском тренажере в классе. Гребнем выставлялся из воды каменистый островок — вот его запятая на карте. Мыс, вставший поперек течения, — вот он, делаем отметку. «Минутка за минуткой», — отсчитывал Павел свое и товарищей продвижение на юг. Отрывисто сказанное командиром «Посмотрю...» звучало у него в ушах, и он старался, замечая в себе то желанное в полете бодрое спокойствие, ту обостренность внимания, когда ни одна соринка на горизонте, ни одно отклонение приборной стрелки на штришок не останется незамеченным.
За Волгой, в степи, горизонт стал холодней, тревожней. В головной паре капитан — Баранов что-то переменилось. В чем перемена, Павел не сразу понял. «Где идем?» — будто спросил его чей-то строгий голос. Курс... время... — собрался, сосредоточился летчик. С курса не сбились. Он видел это по карте, по прямой, которой они оба, Баранов и Гранищев, держались. Капитан от этой прямой отходил, уклонялся... Вот что он уловил и не понял в первый момент! Словно бы подхватил капитана и понес — одного! — ветер-боковик, ветер опасности, боевой угрозы, ветер Сталинграда. Капитан под его порывами заколебался, пошел юзом... все заметнее, все дальше. Покачивая крыльями, призывая летчиков следовать за ним. Павел всматривался в ножницы, разводившие головные экипажи. В них и в карту, в них и в карту... Глубже, настойчивей покачивая крыльями, счет — на секунды, а команды в воздухе повелительны.
Ни славное прошлое начлета, ни должность, ни звание не шли в сравнение с тем, чем был для Гранищева, для всех истребителей Михаил Баранов, — ему верил сержант, за ним шел.
Старший лейтенант качнул крылом, привлекая к себе внимание, сделал в кабине движение рукой от груди — вперед. «Вперед!» — повторил он выразительный жест рукой, поступательный и непреклонный, как начальный ход шатуна, приводящего в движение паровозные колеса. «Выходи вперед, веди группу!» — «Я?!» — изумился Гранищев. Баранов кивком головы подтвердил: «Ты!» — глаза его сверкнули, и он отвалил, чтобы не потерять забравшего в сторону капитана...
...В ушах от долгого гудения мотора — пробки, ноги затекли, треволнения маршрута улягутся нескоро (интересно послушать, что скажет капитан), а фронтовой аэродром — как конвейер, подхватывающий экипажи и направляющий их в бой по сигналу ракеты. И первые на очереди они, пришедшие из тыла; резерв — надежда Сталинграда.
Ракету могут дать с минуты на минуту. Оглушенный перелетом и тишиной, Павел чувствовал усталость. В землянку бы сейчас да лечь, вскинув затекшие ноги...
— Оглох? — кричал выросший перед летчиком Баранов. — Ослеп? — возбужденно укрупнившиеся глаза старшего лейтенанта были белесы — как тогда, на степном аэродроме, когда Павел вмазал в его «ЯК». — Ракета!.. Нам ракета! Пойдешь со мной в.паре, понял?
Рядом с Барановым, вместе с ним — другого места для Павла теперь в жизни не было.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |