"Нефритовый слоненок" - читать интересную книгу автора (Востокова Галина Сергеевна)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Кшесинская накинула на разгоряченные плечи любимый голубой пеньюар и утомленно опустилась в кресло. Прикрыла глаза – снова мельтешение восторженных лиц, прибой цветов, овации…
Горничная захлопотала возле, поправляя распустившиеся локоны.
– Ох, Наташа, осторожнее! – капризно качнула головкой балерина, и каштановая прядь снова упала на плечо.
– Сейчас, Матильда Феликсовна, только шпилькой закреплю…
– Стучат, Наташа. Если с подношениями, пусть оставят в вестибюле. Скажи – устала.
Приглушенные голоса заспорили у двери уборной. Кто же там?
– Матильда Феликсовна, Чакрабон, принц сиамский…
– Проси.
Чакрабон тронул губами тонкие пальцы и вложил в расслабленную длань богини Мариинского театра белую сафьяновую коробочку.
– Презент от королевы… Ты сейчас домой? Очень рад видеть тебя. Соскучился… Я провожу?
– Давно вернулся, Лек?
– Вчера.
– Я обещала вечер князю Андрею. Через двадцать минут меня будут ждать… – Матильда откинула крышечку. – О! Розовый жемчуг! Как мило… Мерси! – Она снисходительно улыбнулась. – Ну, посиди со мной немного. Как я танцевала сегодня?
– Бесподобно! Ты и сама знаешь. Завтра газеты напишут о слиянии виртуозности итальянцев с изяществом французов и славянской негой. Но меня испугала афиша… Почему «прощальный бенефис»? Кшесинская расстается с балетом? Петербург этого не перенесет.
– Застегни колье. – Она подняла волосы с шеи. – Не беспокойся. Танцевать не бросаю. Перехожу на гастрольную систему, прощание с театром чисто символическое. Захотелось встряхнуть нашу чопорную публику и почувствовать, что я все еще всемогущая Кшесинская. Надоело – со всех сторон: «Ах, Анечка Павлова! Ах, гитана, одалиска!» Ей до моей техники тянуться и тянуться. – Она вздохнула, коснулась пуховкой точеного носика и самоуверенно усмехнулась:– «Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» Ворохи цветов и золотые венки видел, Лек?
– Как же, всю сцену затмили.
– А возгласы обожания и восторга? Считал, сколько раз вызывали?
– Потерял счет, божественная…
– Значит, пока еще – я! Тебе понравился сюрприз зрителям?
– На каждом кресле по афишке? Кто придумал? Бакст? Его руку узнать нетрудно.
– Я, конечно! А рисовал и правда Бакст. Ну, пора одеваться. До встречи, принц.
Чакрабон отпустил карету и пошел к Зимнему, прислушиваясь к скрипу февральского снега. Грустно. Но ведь даже в моменты самых теплых отношений он не был уверен в благосклонности Матильды лишь к нему. Это отрезвляло.
Четыре года назад, удивительно вспомнить, ему не было и двадцати, а Кшесинская в сиянии славы отмечала десятилетний юбилей служения Мариинскому. Тоже в феврале. Первый февраль двадцатого века. И Лек был не более чем восторженный зритель. А через несколько дней придворная труппа сиамского балета давала представление на сцене императорского Михайловского, и он испытывал двойственное чувство, глядя на танцовщиц, похожих в своих золотых костюмах на фантастические цветы в резной листве. Монотонные, медлительные всхлипы дудок, позванивание колокольчиков, плавно-однообразные движения рук. Валериан Светлов писал тогда: «Опоэтизированная лень народов Востока».
Лек окунался в прихотливую грацию родных танцев и одновременно ревниво посматривал по сторонам – не видят ли зазнайки-петербуржцы в сиамских балеринах всего лишь диковинных зверьков? Но нет! Восхищение в глазах соседей неподдельно. И принц, забыв про предстоящие занятия, смотры, экзамены, умиротворенно глядел, как на темно-фиолетовом фоне декораций, сплетаясь во всевозможные фигуры, двигались двенадцать танцовщиц, покачивая фонарями на длинных шестах. Прелестна была и последняя сценка, в которой восьмилетние девочки изображали красавицу Вимолаху и оскорбленного ею принца Крайльхонга. По настоянию публики трогательно-комичная сердечная драма началась снова…
После спектакля Чакрабона пригласила к себе госпожа Гним, попечительница сиамской труппы. Он радостно перебирал многочисленные письма, сувениры от родителей, братьев, друзей, наслаждался звучанием родной речи. Вдруг вошла Кшесинская и, восторгаясь искусством гостей, попросила несколько уроков. Похоже, решила обновить свою программу колдовским танцем на темы сиамских сказок.
Ее представили принцу. Кем же он вскоре оказался для Кшесинской?.. Экзотической игрушкой? Другом, которому можно сказать все, что взбредет в голову, не боясь, что вольные фразы, будучи переиначенными, превратятся в крамолу или пошлейшую глупость? Малышом, которому забавно покровительствовать? Дарил драгоценности, если их доводилось получать из дома или приобретать, ограничивая свои и так не очень обильные расходы. Но что ей еще одно кольцо при покровительстве самого императора и двух великих князей? В прошлые именины Матильды Лек из ревности, удивлявшей его самого, не поехал к ней на дачу в Стрельне – не пожелал быть всего лишь одним из тысячи приглашенных. Не пожелал видеть очередной вызов, бросаемый ею графам и герцогам. Королева!.. Умопомрачительные банкеты, роскошный выезд…
Мелькали редкие пушинки. Небо бархатное, звездное. Откуда же снег? Ах, ветер.. Сдувает с веток…
…В особняке мадам Храповицкой готовили бал.
Вдова генерал-майора славилась умением принимать гостей. Бывать в ее доме почитали за честь самые блистательные военные чины.
Ирина Петровна в пене кремовых кружев озабоченно разглаживала морщинки у губ:
– Ох, Катюша, стареть не хочется! Повеселишься сегодня? Ну и правильно! Наконец-то… Мать не вернешь… – Она вздохнула. – Святая была женщина. Но молодость есть молодость. У себя в Киеве ты хоть успела появиться в свете?
– Один бал прошлой зимой. И то директриса гимназии пожурила – рекомендовала в следующий раз время, потраченное на танцы, посвятить истории России. А потом мама уже не вставала, было не до балов…
– Как тебе моя прическа? Аля Вальцева. – Ирина Петровна кокетливо тронула волосы, тщательно уложенные седым валиком. – Тебе не кажется, что моя внешность обязывает к исполнению романса? Ла-ла-ла-ла снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем… Катюша, ты почему не причесываешься? У тебя чудесные русые волосы, – она внимательно посмотрела на девушку, – а легкая рыжинка даже пикантна. Но на бал с гимназической косой?.. Не упрямься! Расплетай. Поднимем их повыше… вот так… а на висках закрутим локоны. И щипцы еще горячие. Даша! Дашка!.. Ах, не докричишься! Ладно, давай сама завью. – Ирина Петровна сжала прядь щипцами и неловко коснулась виска горячим металлом, так что Катя вздрогнула. – Больно? Ох я косорукая. Надо было Дашку дождаться. Зато какой локон! Не плачешь? Умница! Жертва красоты. Ничего. Припудрим – будет незаметно. Даша, ну куда же ты провалилась? Помоги девочке переодеться.
Катя, доверив себя ловким рукам, застегивающим, привязывающим, подкалывающим, прислушивалась к щебету Ирины Петровны, и настроение поднималось. Она привстала на цыпочки, чтобы увидеть себя в зеркале в полный рост, и ноги сами собой переступили на счет «раз-два-три», «раз-два-три»…
– Готова? Ну-ка, повернись. Совсем другое дело! Красавицей тебя не назовешь, но легкая неправильность черт очень мила. Глаза хороши… Синие и разумные. Ты только не теряйся. Когда женщина уверена в своей неотразимости, мужчины чувствуют это за версту.
– Да не теряюсь я. – Перед Катиным взором мелькнуло восторженно-влюбленное лицо Борьки из прошлой зимы, из давней, другой жизни.
– Вот и хорошо! Носик кверху. Удивительно, как тебе в Киеве могли сшить такое милое платье. Надо мне сделать что-нибудь в этом роде. Только у тебя на серебристом платье синяя тюника – под глаза, понимаю, понимаю, а я, наоборот, на синий шелк надену серебристый тюль – под седину. Будет очаровательно, не правда ли, девочка? Можно было бы тебе декольте сделать побольше. А впрочем, и так хороша. Спускаемся. Сейчас я тебя представлю нашим молодцам!
Зала была освещена электричеством. Этот свет после привычных свечей или ламп с белым петролем казался слишком ярким и равнодушным.
На мазурку Екатерину пригласил упитанный молодой человек – его имя она тут же забыла. Он не успевал за мелодией и путал фигуры, но делал это с такой неуклюжей старательностью, что получалось забавно и она не сердилась.
Вдруг свет замигал-замигал и погас.
– Опять неполадки на электрической станции, – послышались недовольные голоса. – Когда только научатся обращаться с машинами? Все не слава богу!..
Но тут же внесли множество свечей, припасенных для такого случая, и лица осветились живыми огоньками. Натертый воском паркет бальной залы отразил яркие дрожащие цепочки. Поблескивали драгоценности, ордена, эполеты, атласные ленты и туфельки. Вальс закручивал каждую пару в маленький двухцветный водоворот – белые мундиры и мерцающий газ тюник.
Лица мелькали одно за другим. Катюша улыбалась всем и устала… скорее улыбаться, чем танцевать. А потом мельтешение как-то само прекратилось и осталось одно лицо: черные внимательные глаза, гладкие темные волосы, не просто черные, а с каким-то оттенком. Она на мгновение задумалась. Вот! Такой оттенок и блеск бывает солнечным днем у шмелиного крыла. Хорошо танцует. Врожденная грация, даже, может, артистизм. Как его зовут? Принц сиамский – это запомнила, а имя… что-то оканчивающееся на «бон», а в середине «р». Карбон? Сорбонна? Придет же такое в голову… Интересно, заметен у нее ожог на виске? Катя поправила завитки, пытаясь прикрыть запудренное пятнышко, но локон все отлетал и отлетал, сдуваемый вальсом.
– Катрин, мадам Храповицкая говорит – вы остановились у нее? Вы давно знакомы? – Медлительный гавот оставлял время для разговора.
– Я – нет, но мой папа служил с ее мужем. И наши семьи издавна дружили.
– А ваши родители?
– Они умерли.
– Ох, простите – Он непроизвольно привлек ее к себе.
– Ничего, я уже привыкла. Папа умер – я еще даже в гимназии не училась. А мама – осенью.
– Ну, не будем о грустном. Смотрите, вон идет фейерверкер.
Свечи почти все задули, а оркестр все играл, и «золотой дождь» призрачно сыпался на танцующих полонез. Дамы пытались уклониться от падающих искр, но они, растворяясь в воздухе, никого не задевали. Принц взял с подноса фейерверкера бальную митральезу, и хлопушка с легким пороховым дымком выстрелила фонтанчиком конфетти. Свечи зажгли снова. В воздухе кружились разноцветные бумажные облака, каждое со своим ароматом. Катино облачко пахло духами «Орор», а рядом – чем-то более сладким. Лакей в расшитой галунами синей униформе и белых перчатках подвез двухъярусную тележку с напитками.
– Катрин, глоток шампанского?..
– Спасибо, ваше высочество, но у меня и так кружится голова. Только воду.
Ананасовая шипучка плеснулась в фужер, и пена вспухла снежным холмиком. Колючие пузырьки сладко лопались на губах.
– Извините, ваше высочество, я не расслышала ваше имя.
– Чакрабон.
– Это фамилия?
– Нет, имя. Возможно, это покажется вам странным, но в Сиаме нет фамилий. Пока нет, хотя разговор об их введении тянется не первый год. Имя важнее для человека. Оно – его, и только его, как личности.
– Но фамилия – это связь с родителями и предками.
– Односторонняя. Женская линия все равно у вас теряется.
– Но все-таки…
– Дело привычки и традиций, Катрин. Но, если хотите, фамилия – Чакри. Это примерно то же, что для вас Романовы. Династия. А еще – Питсанулок, по имени одной северной провинции Сиама. Тогда, на французский лад, будет Чакрабон де Питсанулок. Но близкие друзья и родные зовут меня Лек.
– Это как-нибудь переводится?
– Моего старшего брата, кронпринца, мама звала Той, что значит «большой», а меня – Лек, «малыш». Так и повелось. А вы зовите, как вам будет удобнее.
– «Малыш» – для офицера? Не слишком ли принижающе? – пожала плечами Катя.
– А вы знаете какого-нибудь человека с именем Павел?
– Император. – Катя выжидающе смотрела на улыбающегося Лека.
– Даже император… Ну так знаете ли вы, что Павел в переводе с латинского означает «маленький»? Это принижает его?
– Отнюдь… Сдаюсь, принц, и прошу вашего позволения называть вас Лек.
– Я буду рад. Но пора прощаться. Когда вас можно будет увидеть?
– Утром, до обеда, в любой день. А потом допоздна – курсы.
– Что вы изучаете?
– Курсы сестер милосердия, ваше высочество. – Катины глаза потемнели. – Не успела начаться война, как уже и крейсер «Варяг» потопили, и «Кореец». Я в Петербург специально приехала, чтобы быть поближе к брату и записаться на курсы.
– Не ожидал. Вы – и на поле боя? Но мы продолжим наш разговор, не правда ли?
– А мне было бы очень интересно послушать про вашу страну. Вы расскажете? Я сейчас подумала, и оказалось, что с трудом представляю, где она находится. Где-то на юге. Рядом с Индией?
– Не совсем, Катрин. Завтра мне надо быть в Красном Селе, а по утрам обычно занятия в военной академии. Вы разрешите заехать за вами на курсы послезавтра? Это ведь в Первом госпитале? – Он задержал в руке полудетские пальцы с коротко остриженными ногтями.
– Да! – Катя кивнула, отвечая сразу на оба вопроса.
Через час Ирина Петровна заглянула в ее комнату.
– Ох, устала! Кажется, все распоряжения на сегодня и на завтрашнее утро отдала. Столько хлопот и все на мои плечи. Как тебе бал? И даже неплохо, что электричество отключили. Я вначале расстроилась, а потом смотрю – вроде бы даже неплохо, для разнообразия. – Она шутливо погрозила Кате. – А ты сразу очаровала принца. Не ожидала. Наш китайчик недавно из Бангкока…
– И совсем он не похож на китайца!
– Ну уж..
– Да-да! Он похож скорее на наших осетинов или карачаевцев.
– Может быть, – согласилась Храповицкая, – и по крайней мере умен, порядочен и приближен к императору. Еще в Пажеском корпусе был за блестящие успехи назначен личным пажом императрицы. И, знаешь ли, трудно было предположить, что иноземец, вначале не понимавший ни слова по-русски, может окончить обучение в корпусе лучше наших оболтусов. Он уже бывал у меня в то время – года три назад, мы поздравляли его с зачислением в императорский гусарский полк. Принц пришел в сверкающем белом мундире, – она гордо прошагала к окну, изображая Чакрабона, – шлем снял, а с нагрудником, тяжеловатым для его изящества, так и не расстался весь вечер Умница, конечно, но азиат. Спи спокойно, Катенька Кстати, как твой ожог?
– Я уж и забыла, Ирина Петровна. Спокойной ночи.
Она задула свечку и нырнула в пуховое тепло постели.
Ночь прошла в полусне. То совершенно отчетливо слышалась мазурка Венявского и Катя, глядя на крошечный светлячок лампадки, спросонок думала, почему же не отпускают отдыхать оркестр, то она кружилась в вальсе с Чакрабоном, стараясь держать голову чуть вправо, чтобы он не видел левого, покрасневшего виска. Глубокий сон пришел только ранним утром когда уже были слышны покрики извозчиков и хлюпанье колес по тающему апрельскому снегу.
После завтрака Катя открыла конспект и стала старательно изучать способы наложения жгутов при кровотечениях, но взгляд случайно упал на огромную розовую раковину, и мысли сразу уплыли в другом направлении – к теплым берегам Южной Азии. Она достала географический атлас Петри, толстый, в черном коленкоровом переплете с металлическими угольничками по краям. Вот где, оказывается, Сиам. И правда недалеко от Индии, но все же ближе к Китаю. И глубин памяти всплыло: сиамские коты, голубоглазые а еще сиамские близнецы, девочки Додика-Родика и слоны. Катя вздохнула, вспомнив семь традиционных фарфоровых слоников на маминой этажерке, поднесла раковину к уху – морской прибой шумел в перламутровой глубине, швыряя клочья пены на белые пляжи тропических островов. Йодисто запахло водорослями и мидиями, выброшенными под пальмы бирюзовыми волнами.
А за окном сосульки плакали по ушедшей зиме. Было что-то еще, доставленное из Азии… Брат дарил на прошлые именины бусы из камней «тигровый глаз», а раньше, лет пять назад, играли диковинными китайскими шариками. Бросишь легкий катышек в блюдце с водой, и там сразу распускается зонтик, или странный цветок, или забавный человечек – кругленький узкоглазый болванчик; начинает покачиваться на воде, сложив ручки на мандариновом животе и долго-долго кивая.
Но хватит отвлечений! Так никогда не выучить заданных страниц. А это нужно. Очень.
Следующим вечером девушки, вышедшие из пропахших хлоркой кабинетов, недоверчиво посматривали на сокурсницу:
– Это правда за тобой?
Чуть в стороне от госпитальных дверей стоял сверкающий экипаж. Яркие электрические лампочки с позолоченными венцами освещали императорские вензеля на полированных стенках.
– Здравствуйте, Катрин! – Лек приветливо помахал рукой и, посмотрев на сумрачное небо, с которого то ли падал снег, то ли сыпал дождик, и на стайку девушек, добавил: – Мы можем подвезти еще двоих. Кому по пути с Катей?
– Вот повезло, – сразу откликнулась кудрявая Зоя, – а я сегодня деньги дома забыла и уже настроилась пешком идти. Но такая слякоть! А тут вы… – И она без тени смущения, легко опершись о руку Чакрабона, первой поднялась по резным ступенькам.
– Ну, чему вас сегодня учили?
Катя, не такая бойкая, помалкивала, а Зоя сразу выложила уйму сведений: и что эти курсы ей нужны лишь для проформы, ради бумажки, у нее отец всю жизнь был сельским врачом, и она такого насмотрелась, такого… и что она разбирается в медицине не хуже некоторых фельдшеров, это вон девочкам учиться и учиться, если хоть какую-то пользу хотят принести… Зоя была старше Кати лет на шесть и слегка покровительствовала ей – из симпатии и немножко из сочувствия к сироте. Она снимала комнату недалеко от особняка Храповицких и за несколько дней, во время совместных возвращений, успела рассказать Кате о своем пламенном и не вполне безобидном романе с молодым врачом, два года после университета работавшим хирургом с ее отцом в сельской больничке под Новгородом. «Сереженька, Серж… – с удовольствием повторяла она на все лады. – Как там Сергей в Харбине? Скорее бы разрешили к нему…» Катя все больше молчала. Иногда, растормошенная Зоей, рассказывала что-нибудь о гимназических подругах или учителях. «А мальчики?» – допытывалась неугомонная спутница.
Ну что мальчики? Ну Борька, сбегавший с последнего урока, чтобы успеть к выходу девочек из ворот их Фундуклеевской гимназии и проводить ее до дома. Один раз он попросил Катю прийти на свидание к пятой скамеечке центральной аллеи Купеческого сада и во время недолгого разговора о математике так истерзал свою серую гимназическую фуражку, что ее, со сломанными веточками герба, оставалось только выбросить.
И сейчас Зоя не умолкала. Пожалуй, к лучшему. На балу было проще. Вокруг веселые люди, музыка.
Можно было вообще ни о чем не говорить. А как себя вести наедине с принцем? Как называть? Зоя вон щебечет: «Чакрабон, Чакрабон…» Хорошо еще, что не «Лек». Ей бы такой легкий характер. А то вечно не знаешь, о чем беседовать с незнакомыми людьми, и каждый раз приходится мучительно искать тему для разговора. Не унижаться же до обсуждения погоды! Или с заумным видом рассуждать о туманных строках Бальмонта! Мама сколько раз говорила: «Не стоит ломать над этим голову. Ты достаточно хороша, чтобы поклонники („Ну так уж и поклонники, мама!“) сами стремились развлечь тебя. Слегка улыбайся, и только»
– Спасибо! Приезжайте почаще! – Зоя кошечкой спрыгнула со ступеньки, и карета повезла их дальше.
– Катрин, я обещал быть вечером у Ирины Петровны. Если вы не очень устали, спускайтесь в зеленую гостиную на чашечку кофе.
– Хорошо, ваше высочество.
– Катенька, ради бога, не надо так официально. Мы же договорились – просто Лек.
– Хорошо, Чакрабон.
– Ну хотя бы так! – Он, сойдя на землю, протянул ей руки: – Осторожнее, везде лужи. Давайте я вас перенесу.
– Что вы, я сама. – Она храбро шагнула прямо в глубину и почувствовала, как ледяные струйки потекли через дырочки от шнурков по шерстяным чулкам к пальцам ног.
– Катюша, простудитесь… Я-то в сапогах. Или побоялись, что уроню?
Он рассмеялся и подергал цепочку колокольчика. За дверью весело затренькало.
– Спускайтесь. Я буду ждать, – еще раз напомнил он ей, передавая шинель лакею.
Катя скинула беличью ротонду и капор в своей комнате, осталась в гимназическом платье. Расстегнула две кнопочки на высоком воротнике, обшитом тоненькой полоской кружев, расправив платье, повесила его в шкаф на плечики. Хорошо, что не оставила в Киеве привычную удобную форму, хотя мадам Марго, до последнего дня считавшая себя гувернанткой, собирая Катрин в такой далекий и чужой Петербург, уговаривала не брать лишнего: «Там нашьешь нарядов, милочка». А на курсах форма оказалась более чем кстати. Серьезно, скромно. А то беленькая Леночка пришла с началу занятий в алом тюлевом платье и чувствовала себя ужасно неловко среди строгих госпитальных стен.
Катя надела белую шелковую блузку с черным галстуком-шнурочком и черную юбку, переплела косу, туго закрутив ее на затылке, и, еще раз придирчиво оглядев отраженную зеркалом тонкую фигурку, пошла вниз по удобным мраморным ступенькам, словно созванным для бега по ним через одну. Но длинная юбка обязывала к степенности, и Катя спокойно спускалась, прислушиваясь к разговору. Опять о войне.
В креслах у низкого столика сидели Ирина Петровна, Чакрабон и женщина преклонного возраста, но в пегкомысленных кудряшках и воланчиках. Катя подозрительно глянула на стол. Кажется, на этот раз без сюрпризов: ароматный кофейный дымок, печенье, крошечные бутерброды. А то в первый обед после мясного горячего была подана мятная вода для полоскания рта в высоких с золотым узором бокалах, а она по неопытности взяла и выпила ее, подумав при этом: «Фу! Совсем невкусно» Или вчерашние хитрые пирожные. Катя сначала посмотрела, как их ест хозяйка, и так же целиком положила шарик размером с маленький грецкий орех в рот, а приглашенная к чаю чопорная дама, негнущаяся, как старая трость, надкусила пирожное, и жидкая ананасовая начинка брызнула ей на платье и на скатерть. Прибежала горничная, Ирина Петровна засуетилась, но в глазах ее прыгали бесенята.
– Катюша, кофе, верно, остыл. Сейчас заменят.
– Добрый вечер, – поздоровалась она. – Не беспокойтесь, Ирина Петровна, я не люблю горячий.
– А что у вас говорят о войне?
– Совсем ничего. Девушки беспокоятся, что война слишком быстро кончится и мы не успеем побывать в Китае.
– Дай-то бог! Но не похоже… – Хозяйка озабоченно покачала головой. – Катенька, мы поднимемся в кабинет, а ты не давай гостю скучать, принц не так уж часто балует нас своими визитами. – Многозначительно улыбнувшись, Ирина Петровна увела кудрявую даму, шепча ей что-то на ушко.
– Катрин, если не секрет, почему вы решили стать пестрой милосердия? И почему выбрали курсы именно в Петербурге? Разве в Киеве их нет?
– Это долго объяснять… Петербург, потому что у меня брат здесь, заканчивает университет. Потот он будет служить в каком-нибудь дипломатическом корпусе.
– Как его зовут?
– Иван Лесницкий.
– Кажется, я видел его в министерстве…
– Наверное. Жалко, мы редко встречаемся. О, очень занят. Но все-таки единственный родной человек и здесь, в Петербурге. Я хотела остановиться в его квартире на Мойке, но Ирина Петровна уговорила пожить у нее, чтобы не стеснять брата, а тут мне и правда нравится. Почти как дома. – Она провела ладонью по бархатной зеленой обивке кресла и на минуту задумалась. – А курсы… с курсами сложнее.
Катя заглянула Чакрабону в глаза, решая для себя можно ли говорить ему все, что думается. Принц смотрел внимательно и ласково.
– У меня мама тяжело болела почти полгода, и когда ей стало совсем плохо, она никого не могла выносить рядом, кроме меня. И я была все время с ней кормила с ложечки, переодевала, мыла, меняла белье, причесывала. А потом и кровать свою перенесла в ее спальню, чтобы ночью ей не приходилось поднимав меня звонком. Вы не подумайте, что она из эгоизма. Мама меня жалела, но ей было слишком плохо. У меня в гимназии подруга осталась, Сонечка Гольдер. Так она все удивлялась, как же мне не противно. А я – ничего. Живой же человек, которому больно. Жалко. Палец себе чуть-чуть порежешь, и то слезы на глаза наворачиваются. Как же не помочь тому, у кого рука оторвана, или страдающему от болезней! А мне и правда совсем не противно. Крови не боюсь. Только я мало еще что умею.
– Не беда, Катрин, научитесь.
– Знаю. Я стараюсь. И потом, я выросла в семье офицера. Папа с детства внушал, что служение отечеству – священный долг каждого. Может быть, это слишком высокопарно и не вполне естественно в устах какой-то девчонки, но для меня это не просто набор слов. Если я смогу что-то сделать сейчас, когда русские люди гибнут на войне, если смогу помочь раненым и, значит, России… – Она не закончила, смутившись от пафоса своего монолога.
– Вы ешьте, Катенька, наверное, проголодались. Я хоть тоже гость, но разрешите за вами поухаживать. – Чакрабон пододвинул блюдо ближе к девушке.
– Вот уж от недостатка аппетита никогда не страдала. – Она протянула руку за бутербродами с маслом и паюсной икрой, пояснив: – А это мои любимые.
Чакрабон отпил несколько глотков кофе, но, вспомнив о чем-то, достал из кармана маленький сверток в белой бумаге:
– Это вам. Сувенир из далекого Сиама. Безделушка. Брелок. Европейцы называют такие на японский манер – нэцке.
Катя развернула шуршащую обертку, и на ладони оказался маленький белый слоненок, размером со среднего маминого фарфорового, но совсем другой. Во-первых, он улыбался и хобот его был приветливо поднят, а глаза смотрели немного хитро; во-вторых, он был не холодный и тяжелый, а теплый, и не безразлично белый, а полупрозрачный. Под внешней его гладкостью ощущалась глубина и смешение серо-белых полутонов.
– Ох, какая прелесть!
– Это нефрит.
– А я думала, нефрит бывает только зеленоватым.
– Нет, и белым, но немного реже. Нефрит – удивительный камень. Старики говорят, что тот, кто его носит, становится мудрее, благороднее, сильнее и, кажется, даже красивее, хотя последнее вам ни к чему.
Катя чуть покраснела, поторопилась прервать паузу:
– Спасибо, принц. – И сама себя мысленно отругала: получилось, что поблагодарила за комплимент.
– Белый слон – наше священное животное. Вы видели флаг Сиама?
– Нет, не приходилось.
– А в моей комнате дома такой флаг висел с рождения. Алое полотнище, и в середине вот такой же белый слон.
– У вас они совсем белые? Я только раз видела слона в зоопарке, и он был темно-серый.
– Нет, это только символ. Если у слона есть даже просто белое пятно, то он уже считается священным, а из-за обладания настоящим белым слоном несколько веков тому назад разразилась война между Сиамом и Бирмой. Погибла не одна сотня людей.
– Стоит ли животное войны?
– Наверное, нет, но это вопрос философии, религии и политики. Люди умирали за то, чтобы священное животное принесло благоденствие их стране. А за что умирают ваши солдаты сейчас? Вы не задумывались, Катрин, кому нужна эта война?
– Ну как же… Мы защищаем отечество…
– Все очень неоднозначно, Катюша, и не укладывается в формулу: «Мы – значит хорошие, а они – плохие». Я думаю, у вас будет возможность убедиться в этом.
Ирина Петровна с кудрявой дамой сели в кресла опять, и потекла благодушная беседа про спектакли в императорских театрах. Катя, услышав слово «Мариинский», вспомнила не киевский театр с таким же названием, а Мариинский парк в Липках около дворца, нависающий над Днепром, аллеи, обсаженные лиловой и белой сиренью, которая была так высока, что язык не поворачивался назвать ее кустами, гроздья цветов, покачивающихся от множества пчел, фонтаны среди свежих лужаек. Задумавшись, она только вскользь отметила фамилию – Кшесинская. Это балерина?
– Ах, она зазналась окончательно под покровительством Николая. Но сплетни вовсе не идут ему на пользу. Чего уж достойного – императору вмешиваться в мелочные подробности репертуара ради удовлетворения капризов пусть и примы, но всего лишь балерины. – Ирина Петровна почему-то сурово посмотрела на Чакрабона.
– Я не видел Матильду Феликсовну вечность.
– И прекрасно! Вот уж незавидное знакомство. Хотя, будем справедливы, танцует она превосходно. Принц, не мешало бы вам свозить нас в театр. Я давно собираюсь посмотреть «Эсмеральду».
– Хорошо. Обязательно. А сейчас позвольте откланяться. Я и так вас, наверное, утомил. Катрин, разрешите заезжать за вами иногда на курсы?
– Да, принц, конечно.
Она протянула ему руку, прощаясь. Чакрабон слегка прикоснулся губами к Катиным пальцам и шагнул к хозяйке. Та рассмеялась:
– Целовать наши морщинистые лапки после гладеньких и молодых – какое удовольствие? – Но все же подала ему изящно расслабленную ручку с кокетливо отставленным мизинцем.
– Зачем же так, Ирина Петровна? И с удовольствием, и с уважением. До свидания, – галантно прищелкнул он шпорами.
По календарю давно полагалось быть лету. Но если днем было сравнительно тепло и радовала глаз юная зелень Летнего сада, то вечером, возвращаясь с курсов, девушки еще кутались в пальто, защищаясь от желтого промозглого тумана, который тянулся с невидимой Невы.
– Ты заметила, уже пять человек перестали ходить на занятия, – плотнее завязывая шарфик, сказала Зоя.
– Да. Нелидова тоже… после экскурсии в морг. Как его сторож зовет? «Трупарня». Точно, но страшно. Когда сами по себе микроскоп или препаратор, то все нормально, но мертвенный свет газовых фонарей, цинковый стол с окоченевшим и никому, кроме патологоанатома, не нужным телом…
– Нелидова ушла, когда увидела, как извлекали мозг. Ей стало дурно. А правда он похож на огромный восковой орех?
– Да. И еще запахи… формалина и какой-то специфический сладковатый запашок. Ой, хватит, не могу больше. Давай о чем-нибудь другом!
– Ну хорошо. Ты давно видела принца?
– Дня три назад. Он заехал попрощаться перед отъездом.
– Надолго?
– Не сказал точно, но думаю, что до осени. Император назначил его главным ответственным за рекрутский набор.
– А они его слушаются? Наши детины? Наверное, каждый выше Чакрабона на голову.
– Он все время на своей Ромашке. Белая лошадь, белая форма – красиво. Ты видела?
– Ну откуда? Он же за тобой в экипаже приезжает. – Зоя помолчала. – Я смотрю, что-то ты последние дни грустная ходишь.
– Да нет, тебе показалось. Только прощание поучилось неловким. Но тут не знаю, кто виноват. Может быть, я. – Она посмотрела в ожидающие пояснения Зоины глаза. – Он хотел подарить мне изумрудное ожерелье, а я его не приняла.
– Глупо. Но почему?
– Мы друзья. Ладно. Мне с ним спокойно, и я начинаю скучать, когда долго его не вижу. Но драгоценности… Они слишком ко многому обязывают…
– Ты же не просила, он сам захотел сделать тебе приятное, – перебила ее Зоя.
– Ко многому… – повторила Катя. – И я знаю, что это от души и что нелепо было бы ему уносить ожерелье домой, но, кажется, он меня понял верно.
– Я бы на месте принца тут же прислала его снова с курьером, и никуда бы ты не делась.
– А он поступил немного иначе. Ирина Петровна была свидетелем разговора, и стоило мне отказаться, как он тут же вручил ей коробочку, и она, конечно, приняла ее, переведя все в шутку. Но неловкость осталась. Вечером мадам велела Даше меня позвать, слегка отчитала, а потом сказала: «Может быть, ты и права, Катрин. Я хочу, чтобы ты знала, что эти изумруды – твои, но пусть полежат у меня до поры до времени. Представится случай, и я тебе их верну». Я промолчала, а потом она достала ожерелье, и мы вместе разглядели его как следует. Я такого никогда не видела – это понятно, но даже Ирина Петровна сказала, что это редкостная работа и поистине царский подарок.
– И что теперь? Ты хотела бы стать женой наследника сиамского престола?
– Он не наследник. У Чакрабона еще старший брат есть, кронпринц Вачиравуд. И вообще я сейчас ничего не хочу, кроме того, чтобы поскорее закончить курсы и начать работу в госпитале.
– Одно другому не мешает. Ты просто еще малышка. – Зоя снисходительно похлопала Катю по плечу. – Тебе семнадцать хоть исполнилось?
– Будет. Десятого мая на следующий год.
– И правда ребенок.
В июле им наконец выдали квалификационные свидетельства сестер милосердия. Девушки торжественно отметили это событие посещением кондитерской месье Жака и уничтожением десятка пирожных с сельтерской водой и сиропом ром-ваниль.
Война затягивалась. Все были немного раздражены бесчисленными прогнозами на скорейшее и успешное ее завершение.
На стенах домов и рекламных тумбах болтались лубочные картинки с оптимистическими сюжетами. «Как русские солдаты гонят желтое стадо», – ухмыляясь показывала одна: два дюжих молодца со штыками я замахнулись, а от них кубарем по склону горы катятся крошечные испуганные японцы. «Как русский матрос разбил япошке нос», – хвасталась другая: здоровенный кулак и круглое узкоглазое лицо, заляпанное кровью.
Но люди говорили о тысячах убитых и отрезанном Порт-Артуре.
Врагом была не стая обезьянок, а организованная и хорошо оснащенная армия.
И ежедневно, стоило присмотреться, вокруг вспыхивали трагедии, которые были маленькими для окружающих по сравнению с общей бедой – войной, а для каждого их участника надолго, если не навсегда, заслоняли белый свет.
Любимая горничная Ирины Петровны, Дашенька, неделю ходила заплаканная и разбила не один стакан: забрали ее жениха, служившего в соседнем галантерейном магазинчике. «Его убьют! Он сломает очки, и его сразу убьют. Он беспомощней младенца!» – причитала она.
Уехал повар, а новый никак не мог угодить мадам, и у нее то ли от этого, то ли от враз нахлынувшей жары было постоянно скверное настроение.
Брату Ивану управляющий материнским родовым имением Хижняки писал о брошенных крестьянских хозяйствах, о разладе в усадьбе, с которым все труднее справляться.
Некоторые хорохорились, говоря, что победы японцев на море не удивительны, они, мол, прекрасные моряки, вот кабы на суше, то мы бы им показали…
Назначение в госпиталь почему-то затягивалось, и Катя уехала на дачу Храповицких. Как было бы там чудесно, если бы отдых не отравляло гнетущее ощущение тревоги и ежедневное ожидание призыва.
Когда было жарко, ходили купаться. Кате становилось смешно смотреть на себя в новом модном французском купальнике. Пока сухой, юбочка пышная и кружева топорщатся, а выйдешь из воды – облеплена пестрым шелком как мокрая курица и косы не помещаются под купальный чепчик…
Вместо песчаного пляжа загорали на зеленой лужайке. Здесь расстилали серое шерстяное одеяло, и Катя читала все, что попадалось под руку. Еще раз перечитала «Войну и мир», удивляясь тому, как она изменилась за два года.
Вспоминался Киев, бело-голубая девичья комната на втором этаже особняка Лесницких. Вот теплый ночной ветерок раскачивает лампу, висящую на длинном шелковом шнуре, а в белом стеклянном шаре колышется белый петроль и кажутся ожившими голубые рыбки, нарисованные на внутренней стенке; пламя горелки освещает два круга от абажура: четкий маленький белый с фарфоровым блюдечком, откуда вытекает шнур, – на потолке и размытый голубой – на бархатной скатерти стола. Катя гасила лампу, и сразу становилось очень темно. Потом проявлялся еле тлеющий огонек лампадки у лика богоматери. «А почему масло, от которого огонек горит, называют деревянным? – спрашивала когда-то маленькая Катенька. – Его из какого дерева делают? Из дуба?» А няня Оля, черты которой растворились во времени, оставив память о тепле и покое, отвечала; «Глупышка, его просто не из мякоти маслинок давят, как оливковое, а из самих твердых косточек. Поэтому и копоти от него нету».
Глаза привыкали к темноте и не столько видели, сколько угадывали большой портрет графа Толстого на мелованном паспарту, подаренный в конце года за успехи в русской словесности. Писатель задумчиво смотрел в окно, в никуда, в себя. Может быть, когда его фотографировали, он как раз воображал Наташу Ростову на первом балу, а может, какую-то не до конца еще придуманную женщину, и она сначала представлялась ему отдельными черточками лица и характера, которые менялись, подгоняясь одна к другой, и наконец оживали, становясь Анной Карениной, такой же реальной для всех, как отличница Сонечка Гольдер или горничная Ксюша.
Они думали с графом каждый о своем.
Катя – об этом невыносимом Борьке. Попросил учебник физики Краевича и с едва сдерживаемой гордостью вернул на следующий день весь изрисованный, ожидая восторгов. Безрезультатно. Учебник был испорчен. Катя, особенно вначале, сильно огорчилась. А сейчас смешно вспомнить: на каждом правом уголке внизу листа был нарисован забавный человечек, и, когда книгу пролистывали, он, размахивая руками-палочками бежал с последней страницы к началу учебника, и на середине дистанции в его кулаке возникал цветок, который с каждым мельканием увеличивался, закрывал человечка и в конце концов оказывался ромашкой с ярко-желтой серединкой. Наблюдательная Сонечка сразу заметила, что количество лепестков у нее такое, что по считалочке выпадает – «любит».
Луна висела над высокими кустами персидской сирени подрумяненным дырчатым блинчиком.
Катя садилась на широкий ореховый подоконник, подобрав ноги под батист ночной сорочки, и голос Наташи Ростовой шептал в ее душе: «Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – туже, как можно туже… и полетела бы». Эти слова слышал Андрей Болконский? Увы! Даже Борька давно катался во сне на вожделенном велосипеде «Дукс», сияющем хромированными частями, по бульвару перед Фундуклеевской гимназией. «Но почему лететь на корточках? Неудобно же! – вступал в спор собственный Катин голос. – Нужно лететь свободно, а ногами, как птица хвостом, управлять полетом. И лучше разбежаться и взлететь с обрыва или посильнее оттолкнуться от подоконника и прыгнуть. Нет. Здесь нельзя. Рядом с окном огромный дуб растет. Помешает. Упаду. А из маминой комнаты хорошо. С той стороны широкая лужайка».
Солнышко припекает. Кажется, вздремнула. Она посмотрела на раскрытый том Толстого. Что-то думала и не додумала… Ах, да! Когда читала в прошлый раз, то особенно внимательно изучала странички про любовь и наскоро пролистывала все, что касалось войны. А теперь внимание обращала и на описание военных действий, поля боя. И рассуждала, как и чем могла бы помочь Андрею Болконскому, задетому осколками гранаты. Рана бедра не так страшна. Главное – тщательно обработать, чтобы гангрены не было. А в живот это очень опасно. У него же воспаление кишечника началось. Лихорадка. С тех пор прошло почти сто лет. Может быть, сейчас смогли бы его спасти.
Жалко, конспекты и учебники остались в Петербурге. Перелистать бы еще раз…
В первой половине сентября погода еще оставалась ясной. Прохладно для купания, но превосходно для прогулок по лесу, переходящему из полупрозрачного белоствольного березняка, приукрашенного золотыми монистами, в сумрачную хвойную чащу.
С соседней дачи приходили девочки и звали играть в теннис. Раньше Кате не приходилось держать в руках ракетку, и теперь, летая из края в край корта, загорелая, разгоряченная, с развевающимися косами, не всегда попадая по упрямому белому мячику, она получала истинное наслаждение от самого процесса движения. В Хижняках они если играли, то в крокет или серсо. Катя предпочитала серсо. Легкие желтые кружки взвивались в синеву и потом, устав от полета, опускались, словно притянутые ясеневой палочкой партнера. Но разве сравнить не дающий секунды отдыха теннис с изящно-медлительным серсо?
А к концу месяца начались длинные обложные дожди. Катя и Ирина Петровна перебрались в Петербург. Они недоумевали, почему до сих пор нет назначения на фронт. Может быть, в инспекции думают, что война вот-вот кончится и не стоит везти сестер милосердия через огромные российские просторы к восточным границам? Но хотя сведения в газетах были хвастливо-обнадеживающими, офицеры, приезжавшие в командировки или комиссованные по ранениям, говорили о неразберихе этой войны, о непонятных приказах, отступлениях-наступлениях и переполненных госпиталях.
Чакрабон подавал прошение об отправке на фронт, будучи офицером русской армии, но ему было отказано из-за иноземного происхождения. Он снова стал бывать в особняке мадам Храповицкой, но темы общих разговоров редко выходили за круг салонных бесед этой осени – войны, которая вольно или невольно коснулась каждого, открытия театрального сезона и сплетен, кто с кем и где. Катя не всегда спускалась к гостям. А если и видела принца наедине, то ненадолго. Так и осталась легкая натянутость отношений. Она жалела об утрате дружелюбной искренности вечерних прогулок, когда принц, ссылаясь на волнения в городе – хотя стоило ли оправдываться? – как только позволяла служба, приезжал за ней на курсы, удивляя блеском императорского экипажа работников госпиталя: за что же такая честь пусть милой, но ничем особо не выделяющейся девочке?
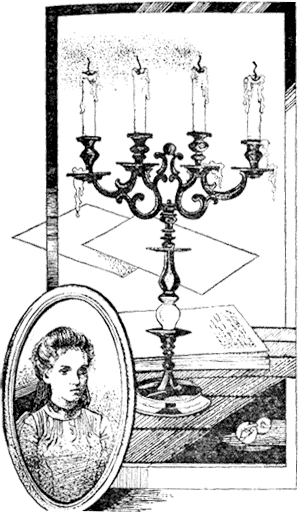 |
Спрашивал чаще Лек, а она рассказывала. Про маму – через полгода после похорон Катя могла говорить о ней почти спокойно, – про свои любимые Хижняки с походами за грибами, про детство, в котором самой большой трагедией была смерть отца, но Катя в это время гостила у бабушки в Вильнюсе, ее не привезли в Киев, и она только помнит, что было очень грустно и боязно чего-то, а плакать – не плакала. Странно! Зато когда приблудная собака задрала ее дымчатую Ласуню, девятилетняя Катя опухла от рева и несколько часов не отходила от распластанной болью кошки. Бинтовала и поила, приговаривая с няниными интонациями: «Ну, потерпи, миленькая, еще немного, и пройдет», – а потом сама завернула ее в кукольную простынку и понесла хоронить под куст сирени, а там земля была каменистая и никак не поддавалась детской лопатке. Тогда на помощь пришел Иван: в несколько взмахов выкопал нужную ямку и принес квадратик дерна, чтобы накрыть сверху.
Но стоило Кате начать спрашивать про Бангкок, как Лек отмахивался: «Ну что Бангкок? Просто столица Сиама! Лучше скажите, почему вы зиму любите больше лета?» И Катя снова рассказывала, что в Киеве зима не такая долгая и холодная, как в Петербурге с его пронизывающими балтийскими ветрами. Она там пушистая, искрящаяся, праздничная. А синие вороненой стали коньки «Галифакс» так плавно скользят по голубому в белых спиралях льду центрального катка! Военный оркестр, чуть притопывая, чтобы согреться, еще и еще раз повторяет модный вальс «Невозвратное лето». Катя сразу представляла сосредоточенное, покрасневшее от холода и внутреннего напряжения – не сбиться бы с такта – Борькино лопоухое лицо и вспоминала ощущение полупадения, когда его серебристые «яхтклубы» все-таки в последний момент запутались и незнакомый кадет, оказавшийся рядом, успел подхватить ее, дохнув крепким табаком, а Борька, царапая лед и размахивая руками, летел, чтобы ткнуться в спину капельмейстера Коваржика и, наконец, свалиться вместе с ним.
– Но почему на льду и летний вальс? – спрашивал Лек.
– Это была самая зимняя мелодия, о тепле и любви, которые давно прошли, и не верится, что возвращение счастья еще возможно, а снег все падает. Сентиментально, да? Но красиво.
А про себя он так ничего и не рассказал.
Двадцать первого октября вызвали в инспекцию, двадцать третьего предстоял отъезд.
Вечером прибежала Зоя, очень деловитая и похорошевшая от предчувствия встречи со своим ненаглядным Сереженькой.
– Ты держись меня, он нас пристроит получше, – тараторила она.
– Да не надо мне получше. Пусть будет обычный полевой госпиталь.
– Ничего ты не понимаешь. Слушай, я узнала, в каком поезде нам предстоит ехать: чья-то заботливая рука внесла наши фамилии в список пассажиров поезда, который подарила фронту княгиня Ольга. Это твой принц или мадам Храповицкая…
– Никакой он не мой, и я бы не хотела, чтобы он хлопотал за нас.
В дверь постучали.
– Здравствуйте, Зоя, Катрин. – Вид у Чакрабона был очень официальный. – Ирина Петровна сказала, что вы собираетесь, и я попросил у нее разрешения попрощаться с вами, так что, если вы не возражаете, я хотел бы пожелать вам дороги без приключений, не очень тяжелой работы, и скорейшего возвращения.
– Спасибо, ваше высочество!
– Ну что вы как на приеме в Зимнем дворце! Давайте чай пить. – Зоя повернулась к Кате. – А правда, можно? Я, когда поднималась к тебе, вдыхала восхитительный аромат ванили и каленых орешков.
– Да конечно, я сейчас попрошу, чтобы сюда подали. – Катя дернула за шнурок колокольчика, отозвавшегося внизу веселым звяканьем. – Киевский торт пекли. Старого повара забрали на фронт, и он уехал, не оставив рецепта, а он наш, мамин. И я вчера целый вспоминала, что и за чем нужно класть и из скольких яиц приготовлять безе. Не знаю, получилось ли. Сейчас попробуем.
– Ничего не забыли, Катрин?
– Кажется. Как начинаю собираться, с каждой вещью проблема – брать или нет. Зоя говорит, что стоит взять и нарядные платья, а я не хочу.
– Обязательно, хоть одно, Катенька. Как же иначе отмечать успехи победоносной русской армии и окончание войны.
Она оглянулась на принца. Не понять, шутит или нет.
– Ладно, возьму.
– И пару книг не забудь в дорогу, – добавила Зоя.
– Я сложила учебники. И вот еще Бунина заберу. Она сняла с полки не разрезанный еще синий томик. Не успела прочитать…
– Катрин, если можно, одна маленькая личная просьба. Захватите с собой почтовую бумагу и конверты, чтобы всегда были под рукой, и пишите мне иногда. Я хочу, чтобы вы знали, что я беспокоюсь, как вы там устроитесь, и вообще… – Он немного замялся. – Вы разрешите вам писать?
– Конечно, принц. Я буду все новости сообщать сразу в трех экземплярах – Ивану, Ирине Петровне и вам.
– Под копирку? Это вовсе не интересно. Пусть меньше, но мне, лично мне и отдельно…
– Обязательно. А вот и чай приехал. – Катя помогла горничной вкатить в комнату столик, уставленный розетками для варенья и тарелочками с воздушным в орешках тортом.
Поезд, подаренный Красному Кресту великой княгиней Ольгой, сиял, как дорогая игрушка. Белоснежные стены и белье. Никелированные ручки и краны, зеркала в серебряных рамах, ванная, вагон-кухня, вагон склад, и все вагоны пульмановской системы – тряски совсем не ощущалось, – в основном приспособленные специально для тяжелораненых: вместо лавок вдоль проходов в два ряда тянулись пружинные подставки, чтобы на них класть носилки.
Одно купе для медперсонала в вагоне заняли Катя с Зоей а во втором разместились два старичка: Степан Петрович, назначенный ординатором, и священник, отец Григорий.
Через пять дней, подъезжая к Уралу, девушки успели в полной мере осознать, как им повезло с одним и не повезло с другим попутчиком. Милейший Степан Петрович, всю жизнь проработавши акушером и гинекологом, был влюблен в свою специальность и сокрушался, как же в клинике обойдутся без него, а его богатейший опыт будет бесполезен при лечении раненых. Едва познакомившись с Катей и Зоей, он стал рассказывать им о последнем принятом младенце:
– …Ах, паршивец, умудрился в конце поперек развернуться, сколько хлопот доставил. – И он, быстро жестикулируя сухими руками в старческих пигментных пятнышках, показывал, как именно поворачивал гадкого мальчишку, и очки подпрыгивали на остром носике, а во взгляде не было никакой утомленности от долгой жизни. – Намучились, ночь не спали, но какого красавца родили, не успел вылупиться – басом закричал. Юные мои коллеги, найдите меня после войны. Приходите к нам работать. Я сделаю из вас первоклассных повитух. Не улыбайтесь. Стоит принять одного ребенка и почувствовать, как из «ничто» получилось «нечто», которое машет руками и вопит, требуя забот и молока, и вы не сможете уйти от этого дела до конца жизни.
Курсы были ориентированы только на уход за ранеными, и ничего, о чем говорил Степан Петрович, они, особенно Катя, не знали. Было интересно каждое слово, во-первых, с профессиональной стороны, во-вторых, из-за удовольствия слушать добрую речь, пересыпанную десятками примеров из богатейшей практики. Катя представляла себя на месте той или иной роженицы и поеживалась в самые ответственные моменты, а Степан Петрович, воодушевленный вниманием, переходил к серьезным лекциям, и девушкам, не всегда все понимавшим, приходилось его перебивать, уточняя то или другое слово.
Священник же, отец Григорий, оказался сущим наказанием. Степан Петрович на второй день перебрался от него к денщику Игнату, оставив попа в желанном одиночестве. Единственное сходство между старичками было в росте. Такой же невысокий, но рыхлый и отечный, священник распространял ощущение нечистоплотности. Слипшиеся седые волосенки, грязная ряса, взгляд, подозревающий каждого во всех смертных грехах, узкий морщинистый лобик. На первой же станции он побежал к главврачу, чтобы тот распорядился не вычитать из его жалованья деньги за довольству с общей кухни, и, не получив разрешения, всю дорогу сокрушался о несправедливости. Даже тогда, когда все припасы были съедены и он, кроме положенного, стал выпрашивать на кухне добавку. До самой Волги, боясь что испортится его многокорзинная провизия, он жевал сутками сначала госпитальный борщ с котлетами, потом что бог послал, озираясь по сторонам и загораживая от претендентов куриные ножки и пироги. Время от времени до девушек доносилось: «Благодарим тя, Христе боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия!» Слова прерывались икотой.
Зоя со скуки, невинно глядя в заплывшие бесцветные глазки, спрашивала:
– Ох, батюшка, любит вас, наверное, попадья-то? Сколько в дорогу наготовила…
И он отвечал, убедившись, что она не посягает на его кулечки:
– Нет попадьи, бог прибрал, царствие ей небесное. Это все прихожане, прихожане, на дорогу, на прощание.
Зоя уходила, хихикая в кулачок:
– Прихожане… С радости, должно быть, что избавились. А жену довел до могилы скупостью своей.
– Отец божий, обиженный богом, – мрачно шутил Степан Петрович.
– А что, если его угостить чем-нибудь? – спросила Катя. – Возьмет или откажется?
– Попробуй, если не противно связываться.
Она взяла малосольные огурчики и пирожки с печенкой, купленные у голосистой тетки на станции, и пошла к попу.
– Батюшка, не хотите ли отведать свеженького?
Он с минуту смотрел на нее и на подношение, видно соображая: «Или девчонка дурочка – свое отдает, или испорченное хотят подсунуть, чтоб не выкидывать», – но огурчики были гладкие, в листиках укропа, а пирожки маслянистые, благоухающие, и попик, остановившись на первой половине своей недлинной мысли, протянул пальцы с каймой на ногтях в цвет рясы и схватил огурчик.
– Благодарствую, дщерь моя!
– А может, вам одежду в стирку отдать?
– Она чиста… – Отец Григорий повернулся спиной, давая понять, что аудиенция окончена.
– Она чиста, как его помыслы, – продолжила вполголоса Зоя, – даже грязь собственную жалко. Степан Петрович, а что ему надо на войне? Сидел бы дома…
– Это же так просто, – ответил доктор. – На войне люди гибнут, и каждому отпустить грехи перед смертью надо, а кого и отпеть. И каждый, по возможностям, живой рублик или хоть пятачок ему в ладонь сунет поверх жалованья, а оно одно побольше, чем у докторов. Так что прямой резон есть попу на войну ехать. Куда ему только потом деньги девать? Ни жены, ни детей. Болезнь это, девочки, и он, пожалуй, жалости достоин, только сложно такого жалеть, да?
За Уфой местность, и до того холмистая, становилась все изрезаннее и около Миасса постепенно переходила в горы. Поезд, извиваясь, полз по ущельям и долинам, поднимаясь все выше и выше. Холод усиливался. Ветер местами оголял землю, местами наносил довольно глубокие сугробы. В вагоне было тепло, уютно и совсем бы хорошо, если б не грязное пятно отца Григория, маячившего по белоснежному коридору, и тихие ругательства денщика, отмывавшего заплеванный попом пол в туалете.
Катя смотрела на припорошенные первым снегом сибирские леса, темно-зеленой с проседью полосой убегавшие на запад, читала Бунина: «Смутно отсвечивают свинцовым блеском стекла. Если даже прильнешь к ним, то разве едва-едва различишь забитый, занесенный сугробами сад… Он… погружается в какое-то бесконечное пространство… И опять чувствует сквозь сон что-то зловещее…» Катя плотнее закуталась в пуховую шаль.
Поезд замедлил ход.
– Что за станция? – спросила Зоя, вглядываясь в темноту за стеклом, изредка пересекаемую снежинками. – Катюша, посмотри, может, из другого окна видно…
Заглянул Игнат:
– Барышни, к Байкалу приехали. Начальник поезда приказал всем покинуть вагоны. Одевайтесь тепло. Деньги возьмите с собой, а я все двери позакрываю, чтоб никто не шастал, и ключи главврачу сдам.
– Но почему?
– Не знаю. Говорят, поезд по озеру поплывет сам по себе, а мы отдельно.
Выяснили. Действительно, порядок был таков, что на ледокол «Байкал» вагоны загружались пустым. Пассажирам обещали каюты.
Девушки, поеживаясь, выбрались из обжитого вагона. Крупинки снега, гонимые резким ветром, колол лицо. Тусклые огоньки станции светились шагах в трехстах. Ворча, они побрели, спотыкаясь, к смутно белеющим в ночи строениям.
Маленький зал ожидания станции был забит солдатами пополнения. Степан Петрович попросил их освободить место для девушек, и они нехотя подвинулись. Катя впервые оказалась среди такой массы людей, которые шли, чтобы, не жалея живота своего, служить во славу отечества. Она жадно вглядывалась в серые измученные лица. Ни воодушевления, ни желания сразиться с врагом не было в них. Рядом сидящий рябой солдат в черной папахе затянул неуверенно:
– Вы, японцы, покоритесь! Эх-ва, эх-ва! Наша матушка Расея всему свету голова…
На него недовольно зашикали:
– Ишь, напился, так распелся. Дай людям отдохнуть…
В зале висел тяжелый дух перегара, махорки, пота. Во взглядах тех, кто не дремал, читался застывший мучительный вопрос – зачем, почему оторвали их с семьи, от родной деревни и везут куда-то далеко за тридевять земель, сражаться с неизвестным японцем?
Перешагивая через ноги, винтовки и вещевые мешки, к девушкам пробрался Игнат:
– В буфете вроде посвободнее и чай обещали согреть. Пойдемте туда.
Отец Григорий уже сидел за непокрытым столом в жирных лужицах, оставшихся, наверное, с обеда, приоткрывая по очереди свои кулечки, откусывал и них что-то невидимое, прихлебывая жиденький станционный чай.
– Ничего хорошего, – скривив губки, протянула Зоя.
– Да уж… – в тон ей ответила Катя, глянув на засиженную мухами витрину («Откуда сейчас мухи? С лета не мыли…») с сухими бутербродами. Скорченные от старости кусочки сыра безнадежно покоились на серых сухариках.
Буфетчица, зевая, вышла.
Степан Петрович, тоже не соблазнившись предложенным ужином, сказал:
– Вы тут прикорните, а я пойду отыщу наше начальство и скажу, что мы в буфете, чтоб не забыли нас ненароком.
Не хотелось ни спать, ни разговаривать. Катя прикрыла глаза и постаралась представить бал в особняке Храповицких. Не получалось. Виделись бородатые, угрюмые лица.
Только задремала, послышался протяжный свисток – ледокол подошел к берегу. Они вышли в морозную тьму. От станции к пристани бесконечными серебристыми стрелками тянулись рельсы. Девушки двинулись за первой партией мрачных людей, обвешанных мешками, тупо и мерно переступавших со шпалы на шпалу.
В ярком электрическом свете на пристани все немного оживились. Какому-то замерзшему солдату надоело притопывать на месте. Он попробовал пойти по кругу вприсядку, подобрав полы шинели. Приклад винтовки гулко стучал по ледяной земле.
Огромный матрос повел всех по переплетениям сходней и мостков. Ледокол слегка вздрагивал, когда паровоз вкатывал несколько очередных вагонов на нижнюю палубу. Обломки серых льдин бились об обшивку «Байкала». Под ними угадывалась черная холодная бездна.
Капитан стоял наверху, сам распределяя врачей и сестер по каютам первого класса, неожиданно теплым и чистым.
– Неужели добрались до постели? – пробормотала Зоя, зевая, и откинула покрывало.
Сильно качало. В коротком сне Катя взлетала на дачных качелях, касаясь протянутыми ладонями желтых липовых соцветий. А потом веревка оборвалась и она чуть не упала – пароход дернулся.
…Тьма за круглым стеклом иллюминатора стала чуть реже. Захотелось вдохнуть свежего воздуха, и Катя, накинув шубку, вышла на палубу. В сумраке она сначала не поняла, что навалено на промерзшие доски но, приглядевшись к изредка шевелящейся и похрапывающей темной массе, узнала в ней солдат. Кому повезло, спали вповалку под брезентом, кому нет прямо так, приткнувшись к едва теплым стенам столовой или к основанию пароходной трубы.
Клубами плавал стойкий запах перегара.
Она увидела знакомую фигуру. Степан Петрович шел от капитанской рубки.
– С добрым утром, Катюша. Как спалось? Сейчас причаливаем. Я вас будить шел.
– Здравствуйте… Хорошо… А отчего они так много пьют? – кивнула девушка в сторону солдат.
– Не от веселья, Катенька, не от праздника. Не околеть бы на морозе. Да и чтобы головы затуманить, а то ведь если задумаешься, совсем тошно будет а сделать ничего нельзя. Ну иди, поднимай подружку а я остальных обойду.
Ледокол точно вписался в дебаркадер. Верхние и нижние части сходней сомкнулись. Не разглядеть где кончались рельсы нижней палубы и начинались пристанские. Катя еще раз с жалостью оглянулась на сизые лица солдат в сизом полумраке и пошла к своему новенькому вагону в белоснежный уют.
За Байкалом поезд стал двигаться томительно медленно. Пропускали воинские эшелоны, ждали встречные составы, часами простаивали на станциях. Отец Григорий доел наконец свою провизию и теперь спал почти все время, оживая лишь тогда, когда Игнат приносил судки с едой госпитальной кухни.
Степан Петрович, иногда спрашивая, не надоел ли он своей старческой болтовней, рассказывал очередной случай из практики:
– А знаете, девочки, когда у меня единственный раз в жизни тряслись руки и я едва не уронил младенца? В первые роды собственной жены. Теперь уже Коляша постарше вас будет…
От Благовещенска до Харбина добирались еще десять дней. Казалось, пешком было бы куда быстрее.
На полустанках ждали встречного, а среди сопок где на много верст вокруг ни одной живой души, – неизвестно чего. Но стало значительно теплее, и в Харбине днем развозило.
Зоя и Степан Петрович оставили Катю караулить вещи, а сами отправились в управление военно-медицинской инспекции.
Зал вокзала был маленьким, битком набитым. Обшарпанные стены, заплеванные полы, бессмысленная толчея. На чемоданы упали куски отсыревшей штукатурки. Катя посмотрела на потолок в грязных потеках и стала перетаскивать вещи в сухой угол. Какой-то заросший мужик тут же взялся подсобить, умильно поглядывая на нее красными глазками. Катя достала гривенник.
– А говорили, здесь новый вокзал построили.
– Построили, милая, построили, вон он стоит. – Мужик показал в окно на новое современное здание, радующее взгляд салатными стенами. – Так туда людей не пущают. Начальство обосновалось… Наместник Алексеев со своим штабом…
Ждать пришлось недолго. Сначала прибежала Зоя.
– Все в порядке. Мы остаемся здесь. Сереженька побеспокоился, чтобы лично мы были затребованы в его госпиталь.
– Видела хоть его?
– Ну когда же? Сейчас вместе и пойдем. Носильщика надо крикнуть…
– Не зовите. Игнат вам поможет, – подошел Степан Петрович. – Он теперь полностью в мое распоряжение перешел, денщиком.
– Спасибо. А вас куда направили?
– В полевой госпиталь двадцатого полка.
– До свиданья. Спасибо вам за все, Степан Петрович. Может, будете в Харбине – заходите.
– Ладно, еще встретимся. Как говорится: все там будем…
– Что за мрачные шутки? Что нужно будет – пишите, пришлем. Здесь как-никак почти столица.
Весь медперсонал размещался в кирпичном одноэтажном доме коридорного типа рядом с госпиталем. Сестра-хозяйка провела девушек в узкую, выбеленную мелом комнату с жестко накрахмаленными занавесками, скатертью и постельным бельем. Сильно пахло дезинфекцией.
– Еще не проветрилось. Анна Захаровна тут жила. Брюшной тиф подхватила. В инфекционном сейчас. И уж сюда не вернется. А соседка ее, кастелянша ближе к складу перебралась. Как специально для вас комнатку освободили. Да вы не бойтесь, здесь все хорошо обработали. Располагайтесь. – Она вышла, бесшумно прикрыв дверь.
– Слышала, Зоя? Брюшной тиф. Не дай бог. Столько мучений, и еще наголо стриженной остаться. – Катя провела рукой по пушистой косе, перекинутой на грудь. – Твоя-то прическа отросла бы за два месяца…
Зоя посмотрела в зеркальце на свои светлые кудри, примятые шапочкой.
– Да ну тебя! Не собираюсь я болеть, и с твоими волосами тоже ничего не случится. Моя кровать вот эта, у двери, чтобы тебя ночью не беспокоить. – Ее личико приняло блаженно-мечтательное выражение. – Пока ты ни с кем не познакомилась, сегодня побудешь с нами. Сереженька приглашает.
– А как его отчество? По имени неудобно.
– Конечно, конечно. Для тебя – Сергей Матвеевич.
Вечером отдохнувшие девушки сидели в такой же комнате у Сергея Савельева. Обжитой, но несколько экзотический вид ей придавали китайские циновки на полу, шелковые полотнища на стенах, расписанные диковинными цветами и птицами, большая резная шкатулка, отделанная слоновой костью.
– Красиво! Но обстановка какая-то будуарная, не мужская. – Зоя кивнула на картины.
– Так это же я для тебя купил, Зоенька. Нравится?
– Ну если так, то да! А где твой сосед?
– Зануда Купревич? Мы с ним дежурим в разные смены, редко встречаемся и очень этим довольны. Он неплохой малый, но скучный до предела.
Савельев достал из шкафа стаканы, хлеб, копченую колбасу, печенье. Зашуршала полупрозрачная бледно-розовая бумага. Из нее вылупилась, блеснув длинным зеленым металлическим колпачком, бутылка португальского «Опорто».
– Рюмок нет, но вы представляйте, что пьете из хрусталя, – сказал он, наливая в простые госпитальные стаканы темно-красный, отсвечивающий золотыми искорками портвейн. – Удивляетесь, откуда бутылка? Здесь и не такое можно достать. Вот побегаете по магазинам… – Он поднял стакан, подумал, глядя на лампочку через рубиновый напиток. – Ну что ж, девочки, выпьем за встречу, за удачу, за победу и чтоб мы подольше без неподъемной работы оставались. Сейчас на фронте затишье. Завтра приступите к дежурству – увидите. Долечиваем раненых, тех, кого решили домой не отправлять, да так больные идут кое с чем… До дна, Зоя, до дна, а Катюша маленькая еще, как хочет.
Сладкая с пряной горчинкой жидкость обожгла горло. Катя, чтобы не закашляться, скорее запила вино чаем из такого же стакана и спросила:
– Много раненых, да? Расскажите, Сергей Матвеевич, про войну, про госпиталь.
Он посерьезнел.
– Когда я начинаю размышлять о нашем положении, у меня настроение портится надолго. Во время работы проще: думай только, чтобы левую руку к правому плечу не пришить. Режешь, зашиваешь, вливаешь. А начнешь говорить с ранеными – ужасаешься: они идут в наступление кто в лаптях, кто в сапогах, а кто и в галошах на босу ногу. Потерял лапоть, пока полз по какой-то грязевой промоине, оставайся вовсе без обувки или снимай с подвернувшегося мертвеца. Кто в папахе, кто в малахае, а кто и просто тряпкой обмотанный. Зато у японцев обмундирование с иголочки. Я здесь почти с самого начала и насмотрелся всяких порядков, вернее, беспорядков. Вообще ко всему, что здесь происходит, лучше всего подходит приставка «без»: бесхозяйственность, бездумность, бездушие, безнаказанность… Хватит? А то у меня таких слов уже с пару десятков набралось: безначалие, безобразие… Кто может – наживается, а к нам везут раненых, по три дня не кормленных. Насмотритесь. Но вот, хотите, несколько цифр. У японцев маршалы и адмиралы получают по шесть тысяч рублей в год в переводе на наши деньги, а русские – по сто двадцать тысяч за тот же год. Теперь солдаты: у японцев – шестьдесят рублей, у нас – шесть. В год, Катюша, в год. У вас вот восемьдесят рублей в месяц и теплая постелька, а у них за полтинник окопная грязь да несколько сухарей в мешке. Уже это о чем-то говорит, да? Хорошо еще, если начальство честное попадется, а то продукты на сторону, обмундирование туда же. Мужики, мол привычные, нечего баловать…
Катя смотрела на Савельева, понимая, отчего Зоя восьмой месяц каждый день повторяет: «Ах, Сереженька!» Он, конечно, хорош собой. Высокий («Верно, на голову выше Лека», – отметила она вскользь), стройный, прямые темные волосы, четко вылепленные черты. Глаза… Если бы эти глаза да на женском лице, их назвали бы русалочьими: длинные, чуть оттянутые к вискам, неопределенного – в свете керосиновой лампы – цвета, – но не было во взоре врача русалочьей томности и загадочности. Трезво и строго смотрел он перед собой, продолжая говорить о солдатах.
– Сережа, ну что ты разволновался? – Зоя перехватила его руку. – Дай-ка пульс посчитаю.
Кате стало неловко смотреть, как она гладила крепкое смуглое запястье и перебирала пальцы, испачканные йодом, которые умели возвращать людям жизнь.
– Ну, спасибо вам. Я пойду к себе. Что-то спать хочется.
– Спокойной ночи.
Прежде чем уснуть, Катя долго ворочалась, укладываясь поудобнее на продавленной койке под тощим байковым одеялом. Потом, замерзнув, поднялась, чтобы снять с вешалки шубку, накинула ее поверх серой байки и погрузилась в сбивчивые сновидения с последней мыслью: «Надо будет завтра выбраться в магазин, купить хорошее одеяло».
Но назавтра оказалось не до прогулок.
Был торжественный день, день Георгия Победоносца. В честь такого события сводный госпиталь должен был посетить главнокомандующий Куропаткин, и Катя сразу включилась в общую суету: поправляла белье лежачих больных, протирала стекла, меняла занавески на окнах.
Куропаткин подъехал к одиннадцати часам, на белом коне, сопровождаемый свитой.
– Как Наполеон, гарцующий перед Москвой, – тихо пробормотал рядом стоящий врач.
«Как Чакрабон на своей Ромашке», – одновременно подумала Катя.
Все раненые, которые могли передвигаться, были собраны в самой большой, стокоечной, палате и разместились кто где сумел, наскоро приведя себя в порядок. Внесли и развернули складной алтарь, установили знамя, зажгли свечи. Начался молебен. Добродушный на вид священник соседней церкви начал почему-то с молитвы Николаю-угоднику.
– А при чем тут Николай? – шепотом спросила Катя сестру-хозяйку.
– Тс-с… – ответила та, но спустя минуту пояснила: – Священник сам Николай, и это его собственный святой, да, кроме того, император – Николай, так что он любую службу одним и тем же начинает.
– «…О всеблагий отче Николае, избавь Христово стадо от волков, губящих его, и страну христианскую сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, трусов, нашествия иноплеменников и междоусобной брани, – монотонно басил поп, – от глада, потопа, огня, меча и напрасной смерти, и яко же помиловал еси трех мужей, в темнице сидящих, и избавил их от посечения мечного, тако помилуй и нас, умом, словом и делом во тьме грехов сущих, и избави нас от гнева божия и вечной казни…»
Катя посмотрела на генерала: «Не удивлен ли он молитвой невпопад?» Черные с сединой волосы, твердый, углубленный в себя взгляд на сумрачном лице без тени бурбонства.
Куропаткину было не до молитв. Катя не знала, что перед его внутренним взором стояли строчки только что полученного письма от Сергея Витте: «Алексей Николаевич, все-таки Вам нужно знать правду. Ведь это война беспричинная и бесцельная. Ее можно и должно было избежать. Никаких результатов, благих для России, мы от нее ждать не могли – никаких результатов от нее не получим. Теперь, дай бог, только уйти без срама… Это род государственной авантюры… Прежде правительство не любили, но с ним считались, а теперь над ним смеются…»
Священник перешел к речи, ближе касающейся темы торжества:
– Георгий Победоносец победил ворога злого – Змия. Тако и вы, воины, поражайте ж врагов и за это отличены будете знаком военного ордена, сиречь Георгиевским крестом.
Куропаткин был немногословен:
– Спасибо за верную службу государю императору и великой нашей отчизне. Ура!
Прокричали трижды «ура», и генерал повернулся к наместнику, стоящему возле него с коробкой солдатских крестов:
– Где списки представленных к награде?
– Сейчас принесут, – засуетился тот, – разыскивают.
– Безобразие, – хмуро выговорил главнокомандующий и после минутного ожидания, бросив: – Мне некогда! Раздадите без меня, – вышел из палаты и вскочил на коня.
Списки так и не нашли, а может, их и не было вовсе.
Далее следовала церемония награждений.
Генерал Алексеев, маленький, кругленький, подвижный, шел по проходу между рядами коек, изредка, не совсем уверенно, останавливался, выбирая, вероятно, самых изможденных солдат.
– А ты, дружок, как ранен был?
– В атаке, ваше превосходительство, высоту брали… – Солдат, мучительно напрягаясь, пытался вспомнить название китайской деревушки между двумя сопками.
– Ну выздоравливай. Чтобы к Новому году в строю был. Вот тебе крест. – И наместник выискивал следующую фигуру, достойную награды и чтоб поближе к широкому проходу: между койками было сложно пробираться.
Некоторые солдаты из честолюбивых всячески старались попасться ему на глаза, преображаясь мгновенно и принимая кто геройски-бравый, кто особенно страдальческий вид:
– Рад стараться, ваше превосходительство, служу царю и отечеству!
Над ухом Катя услышала голос Савельева:
– Смотри, девочка, внимательнее. Видишь, вон Илюшке Петрову крест нацепили? Он еще что-то про штыковой бой на перевале говорил… Так вот этот горе-солдат был как кусок баранины на шампур насажен японцем на штык, улепетывая без оглядки с поля боя, и доставлен с ранением в ягодицу, правда, сильным. А вон у стенки, куда не достал сиятельный перст, лежит другой, с израненными ногами и контузией, вынесший к перевязочному пункту полуживого офицера. Вот тебе и раны. Вот и награды.
Потекли относительно спокойные – затишье на фронтах – госпитальные будни. Самую грязную работу выполняли палатные служители и денщики. Сестрам оставалось перевязывать раны, раздавать лекарства, кормить лежачих больных, делать уколы. «Ох, доченька спасибо, легкая у тебя рука!» Сначала Катю направили в офицерскую палату, но через два дня она попросила перевести ее к солдатам. Слишком много было рук в офицерской палате, которые стремились ее коснуться, слишком много глаз, которые видели в ней не сестру милосердия, исполняющую служебные обязанности, а хорошенькую синеглазую барышню, к тому же, кажется, свободную.
В солдатской палате она сразу выделила несколько симпатичных лиц, таких, как Захар, отказавшийся назвать свое отчество и оставшийся до выписки дядей Захаром. У него была перебита правая рука и обморожена левая. Катя кормила его с ложечки и разговаривала:
– Как же ты, дядя Захар, руку не уберег? Теперь месяц, если не больше, здесь пролежишь.
– А чем тут плохо? Только рот открывай да проглатывать успевай. А руку-то… Это счастье, что руку… Мы же как стреляли? Высунешь одни руки из окопа и палишь в ту сторону, откуда вражьи дети бьют. Авось попадешь в кого-нибудь. Высунул бы голову – давно бы шакалы растерзали.
– А японцев близко видел?
– Живых – нет, а мертвых – полно. Зато письма ихние читал. Ну не сам, правда: печатные буковки еще разбираю, а написанные, да криво, – с трудом. Поручик нам читал.
– Что ж за письма? Листовки, что ли? Или завещания убитых?
– Да нет, сплошные любезности. У нас сопка была сторожевая. Так она две недели на каждую ночь рускими занималась, а утром к японцам отходила, почти без выстрелов. Положит поручик, бывало, конверт, а на том же самом месте вечером ответ лежит. На французском или русском, что, мол, мы молодцы и офицеры у нас молодцы, и фотокарточки оставляли своих красавиц или природы: вулканы там, острова. Ну и наши в том же духе отвечали. Театр, да и только. Мы бы до такого не додумались. Уж дюже вежливый народ – японцы. – И подумав, добавил: – Когда не убивают. Не хочу напраслину возводить, сам не видел, но говорят, они и своих тяжелораненых приканчивают.
– Ну допивай чай. – Катя обтерла его рот салфеткой и перешла к следующему солдату.
Молодым и тем, с которыми устанавливались доверительно-приятельские отношения, Катя говорила «ты». А врачи «тыкали» всем без разбору, и было не по себе иногда слушать, как старший врач, делая обход, пренебрежительно бросал: «А ты еще валяешься? Пора „вышивальную комиссию“ организовывать. Скажи спасибо, что на фронте тихо!» – а пожилой солдат, отец пятерых детей, силясь подняться с кровати, заискивающе улыбался: «Так точно, ваше высокоблагородие! Никак нет, ваше высокоблагородие! Рад стараться!» Савельев тоже называл раненых «ты», «Артем», «Захарка», но, прислушиваясь к его интонациям, Катя улавливала не грубость, а доброжелательное подтрунивание. И забитые русские мужики – «пушечное мясо», – про которых он говорил, что нельзя выиграть войну, если солдаты не могут пользоваться картой и компасом и держат книгу вверх ногами, останавливали его, спрашивали про положение на фронте, а кто посмелее, те и на совсем отвлеченные темы старались поговорить.
– Вот, Сергей Матвеич, проходили мы старинным кладбищем под Мукденом, – заговаривал Захар, – так там, на ихних могилах, идешь и о гробы деревянные, торчащие из-под земли, спотыкаешься. Как же так?
– У нас одни обычаи, а у китайцев другие, – терпеливо, но на ходу, торопясь в операционную, отвечал Савельев. – Ты дома в деревне хоронишь – могилу поглубже копаешь, а они гробы прямо на землю ставят, а сверху холмик насыпают, ну его ветром и разносит потом.
– Вот нехристи дурные, – сокрушенно качал головой Захар, – ведь любой раскроет и осквернит останки. Вот манзы! Едят нечисть, поклоняются идолам.
– Нельзя так говорить, – хмурился Савельев. – Для них мы странны и непонятны, а вообще это древний и очень культурный, только по-своему, народ. Я спешу. Освобожусь – расскажу что-нибудь еще.
А вечером не забывал подойти к Захару, и с соседних коек на него, ожидая добрых слов, смотрели солдаты.
– Сколько вы фанз беззащитных разгромили, сколько полей рисовых перетоптали, а заметили хоть, как чисто в их домишках, как тщательно обработаны эти поля? И стожки сложены колосок к колоску. А видели хоть одну брошенную палку или никчемную поломанную вещь на дороге? Или беспризорную кучку гаоляна? Не видели? То-то. Все обдумано и применено к делу. Пусть бедно, но на своих местах. Везде порядок. Послушайте, разве зверюшки, мартышки безмозглые могут написать такие стихи?
Или вот еще:
А было это написано пятнадцать веков назад, – продолжал он. – Представляете, за пятнадцать столетий до нас с вами!
И это «нас с вами» поднимало солдат в собственных глазах.
Катя, если случалась свободная минутка, норовила оказаться поближе к Савельеву, поначалу убеждая себя, что она перенимает профессиональный опыт и набирается ума. А когда стала давать себе отчет, что не все так однозначно, было уже поздно.
Если поворошить небогатый ее опыт общения с мужчинами, обнаруживалось лишь слегка снисходительное принятие Борькиной влюбленности – но какой же он мужчина? – и дружеское тепло Чакрабона – надо ему ответить на последнее письмо… Была еще только одна мимолетная встреча, про которую Катя никому не говорила, сама не зная, как к ней отнестись. В августе она возвращалась с соседского корта на дачу Храповицких и вдруг почувствовала, как чья-то мужская рука ласково, но крепко сжала локоть, поворачивая ее к себе и обнимая. «Иван?» – сразу подумала Катя, но увидела близко-близко чужие серые глаза. Незнакомец, не сказав ни слова и не оглядываясь, пошел назад по березовой аллее, а она своей дорогой, оправдывая его «Обознался, наверное». Но до сих пор сохранилось странно-приятное – это при независимом-то Катино, характере! – ощущение подчиненности ласковой мужской силе. Вот, пожалуй, и все.
А сейчас, когда она видела Сергея, даже мысленно опасаясь назвать его, как Зоя, Сереженькой, в душе сталкивались и рассыпались черно-белые вихри смятения. Она завидовала раненым, которых касались его бережные и умные руки. И не завидовала Зое. Вообще не думала о них вместе, словно подруга приходила ночью не от Савельева, а с дежурства в палатах, благо дверь открывалась бесшумно и свет не надо было зажигать: под окнами, покачиваясь на зимнем ветру, горел голубоватый газовый фонарь.
«Интересно, у всех так? И у Зойки так было?» – думала она, чувствуя непреодолимое желание дотронуться до его рук, для которых, кажется, не было ни чего невозможного.
– Сергей Матвеевич, а где можно плотника найти? Рамы бы подогнать на окне… Сквозняки по комнате гуляют.
– Бесполезно, Катенька, не найдешь. Я сегодня свободен, сам заделаю. Нарежь только бумаги – щели заклеить.
Она пошла домой, достала клей. Подержала в раздумье тюбик универсального «синдетикона». Он противно пахнет и вытягивается желтыми липкими нитями. Катя положила его обратно в шкафчик и придвинула поближе треугольный флакон гуммиарабика с удобной кисточкой, торчащей из оловянной крышки. Открыла ящик, чтобы взять ножницы, и рука коснулась прохладной округлости. Слоненок. Как он хорош все-таки! Голова, хобот немного прозрачнее, чем туловище, – она посмотрела через него на свет – и даже кажутся голубоватыми. Камень сразу согрелся от тепла ладони «Леку я так и не ответила. А что писать? Кормлю, пою, перевязываю. В город еще толком не выбралась. Вот схожу и напишу большое письмо. Он пишет каждые день – маленькие, а я собираюсь-собираюсь, но зато сразу полтетради испишу. Какая я ветреная, должно быть! Чакрабон, Савельев… Что для меня сейчас Лек? Дружеское участие, добегающее с письмами издалека. Спокойствие. Уверенность в своей нужности этому человеку. А что такое Савельев? Странно: знакома с ним две недели, а кажется, знаю вечность. Ах да, Зоенька же с весны только о нем и говорит. Сергей, принадлежащий другой женщине и удаленный ею в безнадежность, – вот что такое Сергей. Но что же делать с сердцем, которое при звуке его голоса начинает так стучать, что рука сама тянется к груди, чтобы его прижать, утихомирить?»
– Тук-тук-тук, – сказали, открывая дверь, – плотники нужны?
– Заходите, Сергей Матвеевич. Сейчас я кровать от окна отодвину.
– Давайте вместе. И правда, дует сильно. Что же вы раньше молчали?
– А я на ночь щели у подоконника шалью закладывала.
Споро застучал молоток, поправляя и забивая реечками рассохшиеся, перекошенные рамы.
– Сергей Матвеевич, а отчего вы вчера хмурый весь день ходили и, когда вышли от главврача, он долго кричал на каптенармуса?
Сергей посмотрел на нее внимательнее, словно проверяя, действительно ли интересно это девочке.
– Не хочу я наживаться на больных и не могу видеть, как это делают другие. Я никогда не буду заниматься политикой и примыкать к каким-нибудь партиям. Я только врач и стараюсь по мере сил делать все, чтобы считать себя честным человеком. Иногда идешь себе на уступки, но редко. «Опорто» в день приезда пили? Это с вашего же поезда, в числе подарков раненым от великой княгини. Нашему госпиталю перепало по два ящика вина и шоколада. Куда что делось – не знаю. Не видел, чтобы раненые шоколад жевали. Мне старший ординатор месяц назад в «макашку» бутылку шампанского проиграл, а принес, извинившись, портвейн. Я, ожидая вас, не стал отказываться. Да, – помолчав, продолжал он, – просто хочется быть элементарно честным человеком. И жалованья мне вполне хватает. Мать обеспечена – деревушка под Москвой небольшая, но хозяйство налаженное. А своей семьи нет и вряд ли скоро появится…
– Как же так? Отчего? – не зная, радоваться за себя или огорчаться за Зою, удивилась Катя.
– Да характер у меня не для семейной жизни. В самые лирические моменты начинаю думать о предстоящей операции. Представляешь? Целуешь женщин и думаешь о том, как бы избежать спаек на кишечнике… Но мы отвлеклись, – усмехнулся Савельев, от проблемы борьбы с наживателями. При тебе вчера рикшу с улицы привели, и он в кабинете главврача сидел.
– Ну и что? – спросила Катя, вспомнив маленького испуганного китайца в белом халате из-под которого выглядывали синие хлопчатобумажные штаны «Шанго, шанго[1]…» – быстро кивая головой, говорил он.
– Так вот, начальство сфабриковало счета на покупку постельного белья в китайской мануфактуре и с их стороны должен был расписаться какой-нибудь Ну Лик. А кто будет это делать? Липа же. Вот начальники поймают первого попавшегося на улице, благо почти все китайцы грамотные, и ставит он на счетах свой иероглиф. А нет, так и ладно, они сами закорючку позатейливее изобразят.
– Но разве можно так? И не проверяют?
– Если их уличат в подлоге, они поделятся, но никому нет дела, кроме таких ненормальных, как я а их мало. Начинаю искать концы, восстанавливаю справедливость… Очень давно я заметил, что когда все законное закрывается на защелку, то незаконное лезет в распахнутые рядом двери. Похоже, дело идет к тому, что я слишком мешаю главврачу и он хочет от меня избавиться. Мошенник на мошеннике сидит и бюрократом погоняет.
Вошла Зоя, пристально посмотрела на них.
– Ты все о том же, Савельев. Не надоело? Лучик бы нас в город свозил. Давно обещаешь же…
– Обязательно! Сейчас окно приведем в порядок. Давай клей, Катерина.
Он вдохнул фруктовый запах гуммиарабика, посмотрел на застывшие белые капли вокруг плоской кисточки и улыбнулся:
– Этим окна заклеивать? Ну, детский сад!
– Это Катя, – поспешила отгородиться от нее Зоя. – Я прекрасно знаю, что клейстер нужен.
– Да. Тогда окончание операции по утеплению мы отложим до вечера, а сейчас поедем на прогулку.
Катя захлопала в ладоши. Зоя протянула:
– Наконец-то…
– Клейстер возьмете на кухне. Там варили с утра. Если кончился, то и бог с ним. Можно любое мыло положить ненадолго в воду, чтобы размякло, потом им мазать полоски и наклеивать на щели. Даже лучше, весной легко отклеится. Ну собирайтесь, девочки, и я пойду оденусь.
Извозчик в старом армяке вез их в неудобной с потертыми подушками коляске, запряженной парой маньчжурских рыжих лохматых лошадок. Проехали по проспекту мимо деревянного собора, похожего на расписной пряничный домик, к знакомому уже вокзалу, к кремовому двухэтажному зданию с лепными украшениями – Железнодорожному собранию.
– Здесь иногда бывают концерты, а летом в саду уже тенисто от молоденьких вязов и тополей. Но зелени, в общем, мало.
Коляска жестко подскакивала на замерзшей грязи. Широкой муарово-серой равниной раскинулась Сунгари. Солнце висело негреющим оранжевым шаром.
– Там, где госпиталь, это Новый город, он очень быстро растет. Отведены места для парков и аллей. А вы заметили… и вон тоже, смотрите… везде легкие резные балкончики в китайском стиле, и даже в архитектуре обычных казенных зданий некоторое изящество. Плохо только, что дорог хороших мало и на площади перед пристанью в дождь такое болото, что экипажи застревают безнадежно. А пристань – это целый район, самый оживленный, торговый, но неблагоустроенный пока. Еще есть Модягоу и китайская часть Фуцзядянь. Я чувствую, что вы ждете экзотики, поэтому именно в Фуцзядянь мы и направляемся.
Они медленно ехали по узкой улице с низкими, обмазанными глиной домами. Коляску обгоняли разносчики-развозчики. Каждый что-то мелодично тянул на свой мотив.
– Послушайте и отгадайте, что продает вот этот, – показал Савельев на пожилого китайца в синей куртке, еле тащившего большую флягу и не перестающего голосить.
– Не знаю, – пожала плечами Зоя.
– А попробуй повторить, что он поет.
– Малакатанапладавай, – подражая китайцу, напела фразу Катя и, довольная собой, воскликнула: – Молоко продаю!
– Они просто картавят, но по-русски понимают, и, если прислушаться, можно разобрать, что лопочут.
Проплывали медные щиты менял; уличные цирюльники, погромыхивая нехитрым скарбом, подпрыгивали, пытаясь согреться; холодный ветер колебал полотнища с иероглифами – вывески, развешанные на столбах перед дверями. Чем богаче магазин, тем более вычурной была резьба на этих столбах, тем более яркими и игрушечно-устрашающими драконами, разевающими пасти навстречу покупателям, были они обвиты. Савельев открыл перед девушками дверь в магазин с вывеской, покрытой позолотой и стоившей, наверное, не одну сотню рублей.
– В этих иероглифах запечатлена вся история магазина и родословная хозяина, – пояснил Сергей.
Глаза разбежались от обилия товаров. На канах грудами были навалены рулоны расписного шелка. Одеяния, традиционно расшитые цветами и птицами, висели, пестрым ковром закрывая стены. Платки, тончайшие роскошные халаты… Катя, не удержавшись, сразу купила один, синий в белых орхидеях, себе и красный с хризантемами Ирине Петровне.
– Не годишься ты в китаянки, Катенька, – подтрунивал над ней Савельев, пока они ехали к следующему магазину, – Китаянки похозяйственнее. Прежде чем купят дорогую вещь, неделю ходят в один и тот же магазин, разговаривают, торгуются, мужчины табачком друг друга угощают. А выбранный товар им домой приносят, там его еще раз разглядывают и только после этого рассчитываются. А ты сразу – нате вам червонцы.
По углам стояли полицейские в красных куртках с иероглифами на груди и с дубинками в руках.
– Скучно им здесь, наверное, экипажей мало, а китайцы кажутся такими тихими.
– Днем – да, а вечером им работы хватает. Всякий сброд шастает Говорят, несколько лет тому назад кому-то из высших чинов пришла в голову чудная мысль: неплохо бы, мол, очистить город от подозрительных личностей, особенно в районе пристани. Но, к сожалению, от нее пришлось отказаться: при чуть более внимательном взгляде оказалось, что таковых набирается с половину Харбина. Осторожнее по вечерам. Ограбить, а то и убить могут запросто.
– Фу, запугал совсем, – встряхнула кудряшками Зоя и принюхалась: – Чем-то пахнет съедобным, но не пойму, вкусным или противным.
– Просто непривычным, – поправил ее Савельев, остановившись у огромного котла, из которого повар накладывал в протянутые глиняные чашки порции риса с кусочками свинины; люди уходили есть в комнату через настежь распахнутые двери.
Катя заглянула внутрь. Китайцы, быстро и искусно шевеля палочками, съедали снедь. Из первой комнаты был выход во вторую, притемненную. Там словно неряшливой рукой были раскиданы на канах и на полу тела китайцев в самых причудливых позах. Один из них протягивал к маленькой лампочке проволоку с шариком на конце. Катя натолкнулась на неприязненный взгляд и почувствовала, как Савельев потянул ее к коляске:
– Не суй свой нос, куда не следует, Катерина, там же курильня опиума. – И, заглаживая невольную резкость, весело сказал: – Вижу, уличная харчевня вам не по вкусу, но перекусить надо, так как моя программа простирается и на вечер. Раз уж выбрались сюда, поедем в китайский театр, но сделаем передышку от экзотики и поедим русской пищи. Один китаец здесь, рядом, вполне сносно научился жарить блинчики с мясом…
Потом уже он пояснил:
– Шарик видела? Белый? Опиум. Накаляется на лампочке до кипения, кладется в трубку. Две-три затяжки – и человек улетает. Почти на тот свет.
К неизменным драконам у китайского театра их коляска подъехала одновременно с грохочущей фудутункой – двухколесной, как арба, низко крытой повозкой. С наслаждением разгибаясь и вздыхая, из нее вылезли важные китайцы. Пока Савельев расплачивался с извозчиком, дверь перед Зоей галантно распахнул китайский полковник со стеклянной шишкой на шапке. Широко улыбнувшись, как позолоченная маска, висевшая напротив входа, он, мешая русские и французские слова, пожелал им приятно провести время и вошел в зрительный зал.
Катя так старалась все вокруг разглядеть до мелочей, что Зоя прошептала ей на ухо:
– Хватит вертеться, шея заболит.
Сергей провел их в ложу. Европейцев не было видно совсем. Зал понемногу заполнялся. Партера, как такового, не было. Вместо него стояли столики. За ними рассаживались мужчины, заказывая чай и раскуривая трубки. А в ложах, слегка вознесшихся над шумными столиками, расположились вельможные китайцы с женами и дочерьми в великолепных киримонах. Катя переводила взгляд с одного женского лица на другое и не могла уловить разницу, словно одно лицо, набеленное, разрисованное и украшенное причудливой прической, было размножено зеркалами.
Появились музыканты, уселись в глубине сцены, им тотчас же поднесли чай, и в свободные секунды они прихлебывали по два-три глотка из желтых фаянсовых чашек. В зале было жарко натоплено. То тут, то там пробегали служители с подносами, подвешенными к шее, и корзинками под ними. На подносах дымились кипы крошечных разноцветных платочков. Правой рукой служитель выхватывал из кипы тряпочку, а левой ловил использованные, которыми взмокшие от горячего чая и духоты китайцы вытирали потные лбы. Платочки летали над головами яркими птичками. Сергей взмахнул рукой, ловя один из них. Ему достался розовый. Он протянул его Зое, но она недовольно качнула головой.
– Ну тогда ты возьми на память о театре. – Савельев положил Кате на колени кусочек батиста, и она, поднеся его к лицу, вдохнула запах свежескошенной травы.
Ударил гонг, запела флейта, тоненько загнусавила двухструнная скрипочка, и на сцену вышли актеры. Ни занавеса, ни сложных декораций. Катя старалась вникнуть в происходящее на сцене. Вот вышел кто-то, верно изображающий старика, с голубой бумажной бородой, а у его партнера нос почему-то был заклеен белым квадратом. Первый затянул что-то высоким фальцетом, простирая ладони к безносому, и вдруг, разбежавшись в несколько шагов, подпрыгнул нелепо, взмахнув в воздухе руками. Китайцы за столиками одобрительно захлопали. Катя вопросительно посмотрела на Савельева, и он стал давать пояснения, не стараясь говорить шепотом: голоса актеров были так громки, что перекричать их мог разве только мощный голос.
– Чтобы здесь что-нибудь разобрать, надо иметь хорошее воображение. Видела, вон тот, синебородый, прыгнул на ровном месте? Так, значит, там был не просто пол, а широкая канава или, может, забор. Это, только зная текст, можно установить. Преграда. А сейчас, смотри, актер в веселой маске с красными волосами, комик наверное, пел, отвернувшись от других, а теперь, через что-то перешагнув, обращается к рыжебородому. Это он порог дома перешагнул. И наконец увидел хозяев.
Катя вдруг поняла, почему безносый странно прыгает, расставив колесом ноги:
– Сергей Матвеевич, это же он на коне скачет!
– Ну да, умница!
– Я устала, у меня от их мяуканья голова разболелась, – громко сказала Зоя, поднимаясь с кресла.
– Ну подожди еще чуть-чуть, – попробовали ее задержать, но Зоя быстро пошла к выходу, и Кате с Сергеем ничего не оставалось делать, как направиться вслед за ней.
На морозном воздухе Зоя достала белый карандашик мигренина и, со скрипом отвинтив крышечку, стала натирать виски. Катя вдохнула свежий запах камфары.
– Зоенька, ты и вправду бледная. Сейчас приедем домой, и сразу ляжешь спать, – заботливо наклонился к ней Савельев.
Экипажей не было видно, пришлось остановить фудутунку, и девушки, пригнувшись, а Сергей, сложившись в три погибели, втиснулись в нее и под громыхание колес по мерзлой грязи и частые Зоины оханья покатили обратной дорогой.
Дома, едва скинув шубку и мурлыча веселый мотивчик, Катя стала развязывать невесомые пакеты с китайскими халатами. Шурша, упала на пол бумага. Вдруг Катя услышала с Зонной кровати всхлипывания, грозящие перерасти в истерику.
– Ты что, Зоенька? Тебе плохо? Валерьянку накапать? Укол?.. Сейчас я Сережу позову…
– Не смей! Не надо мне ничего.
Катя остановилась возле нее в нерешительности.
– Что-нибудь случилось?
Сквозь Зоины еле сдерживаемые рыдания она едва разобрала:
– Я ехала за тридевять земель… как дура… к нему… Думала, сегодня поедем – он мне подвенечный наряд подарит… А он… краснобородые комики… сам он – синяя борода!
– Зоенька, не плачь! Он мне сказал, что вообще жениться не собирается. Характер у него для семьи не подходящий.
– Очень даже подходящий, уж я-то знаю. – Зоя подняла от подушки лицо, вмиг опухшее от слез, в покрасневших глазах вспыхнула подозрительность. – А почему это он тебе говорил? Кто ты ему? Почему он вообще с тобой больше разговаривает? Почему ему с тобой интереснее? Почему?
– Не знаю, – задумалась Катя. А действительно, если он что-то говорит, то чаще обращается к ней. В гимназии так же было. Соберутся, бывало, несколько девочек, начнут рассказывать истории, придуманные или взаправдашние, обсуждать животрепещущую проблему, и говорящая обязательно к Кате повернется, словно она значила больше других. А почему? Вроде особым остроумием не блистала. И показать, что умна и знает что-то особенное, никогда не стремилась. Может, потому, что ей все было интересно и люди это чувствовали? – Не знаю, – повторила она, – я не специально. Так получается. Ну хочешь, я с ним совсем разговаривать не буду? – И подумала, как это было бы сейчас трудно.
– Я красивее тебя, – вдруг сказала Зоя, видно продолжая какую-то свою мысль, и Катя с удивлением посмотрела на нее:
– Да… – И добавила: – Конечно.
Точеный носик, пухлые губки, светлые пушистые «одуванчиковые» кудряшки – ко всем чертам Зонного лица очень подходили уменьшительно-ласкательные суффиксы.
– И легко со мной, – словно пытаясь доказать Кате очевидность своих преимуществ, продолжала она, – дурацких вопросов не задаю и люблю – на все готова ради него.
– Ну, может, обойдется. – Катя попробовала погладить её по плечу, но Зоя скинула руку. – А хочешь, я чай вскипячу? У нас еще варенье осталось…
Зоя с головой завернулась в одеяло, и молчание стало враждебным. Катя сунула в шкаф, не разглядывая цветистые китайские халаты, задула лампу и легла в постель, подумав: «Занесло же меня именно в этот госпиталь… Но Зоя сама хотела… А если бы не сюда, и я никогда бы не увидела Савельева? Нет, нет. Не хочу так!»
Жизнь в госпитале текла своим чередом. Больших наступлений на фронте не было. Привозили понемногу раненых, а чаще – с воспалением легких и ревматизмом. Инфекционное отделение, где лежали тифозные и дизентерийные больные, было полно, но Кате редко приходилось там бывать. Иногда случались маленькие приятные события. Если у шеф-повара было особенно хорошее настроение, все больные получали по пирожку с вареньем. Или пожилому солдату с осколочной раной живота вдруг передавали из дома письмо. Катя читала о многочисленных деревенских поклонах и приветах, присланных неграмотной крестьянкой через церковного служку, и вся палата радовалась, будто каждый получил долгожданную весточку.
Бывали и неприятные инциденты.
За два дня до рождества проверку состояния госпиталя должен был проводить главный военно-медицинский инспектор. Как водится, все подчистили, отмыли, и главврач ходил по палатам, присматриваясь, на какой непорядок мог бы упасть придирчивый взгляд его превосходительства.
Катя не видела, когда вступил в госпиталь инспектор. В это время она помогала старшему фельдшеру вскрывать фурункулы у одного измученного болезнью и наверное, поэтому слишком вспыльчивого офицера. Уже в конце процедуры он, дернувшись, опрокинул на фартук сестры милосердия пузырек йода. Катя закончила перевязку и направилась сменить фартук. Навстречу ей шел сухощавый рыжебородый генерал, окруженный подобострастно глядящими врачами.
– Что это такое?! – визгливо закричал он. – Что за неряха? Безобразие, позор! Развели грязь, противно войти!
Чувствуя, что оправдываться бесполезно, Катя смотрела на красные отвороты генеральского пальто. Из-за навернувшихся слез они расплывались кровавыми пятнами.
«Сгинь!» – махнул ей рукой главврач. Катя побежала к дверям, а инспектор, оглянувшись по сторонам, спросил злорадным дискантом:
– Где икона?
– Батюшка приносит алтарь во время служб, ваше превосходительство.
– Чтобы сейчас же, немедленно в каждой палате была икона с лампадой!
Последнее, что Катя услышала, был раболепствующий хор:
– Хорошо, ваше превосходительство… извините… не учли… все сделаем…
Странно, но неприятностей не последовало, а вручение наград медперсоналу было…
На рождество погода стояла чудесная – холодная, но ясная. Госпиталь, украшенный елями, принял праздничный вид. Но радости особенной на лицах не было. Все говорили, будто сдан Порт-Артур и Стесселем, вроде бы свихнувшимся, подписана капитуляция. Но точно никто ничего не знал. Катя спрашивала вновь поступивших раненых, как там на фронте. И они рассказывали, что японцы так отгородили себя волчьими ямами, окопами и проволочными заграждениями, что вышибать их с занятых позиций почти невозможно, если не делать дальних обходных маневров, а народу мало, пополнения нет, солдаты на последние гроши ватные китайские халаты покупают, чтобы не померзнуть совсем, или так отбирают их в деревушках.
Размолвка с подругой тоже не улучшала настроение. Зоя старалась не оставаться с Катей наедине и, если та была дома, уходила в город, к какой-нибудь из других сестер, к Савельеву. Возвращаясь поздно вечером или ночью, она, не зажигая лампы, укладывалась спать.
Когда главврач после обедни, прослушанной в нарядном соборе, собрал врачей и сестер в столовой для поздравления, Катя как раз обдумывала, как бы ей помириться с Зоей, хотя, собственно, ссоры не было. Сказать ей: «Да не нужен мне твой Савельев»? Ехидный голосок внутри тут же прошептал: «Ой ли?»
Шпага, притороченная к мундиру главврача, подчеркивала торжественность минуты.
– Мне выпала высокая честь поздравить вас с праздником рождества Христова и вручить заслуженные награды персоналу госпиталя. Ваш исключительный труд по спасению людей от гибели и возвращению их в строй нашей победоносной армии по достоинству оценен командованием от лица государя императора. Сердечное спасибо, и да поможет вам бог служить так же далее отчизне, обожаемому монарху и споспешествовать скорейшей победе наших войск. А сейчас поздравляю с наградами…
По очереди подходили к нему почти все врачи, покрасневшие от гордости, удовлетворения, и громко произносили:
– Рад служить государю императору и отечеству!
Вдруг прозвучало:
– Екатерина Лесницкая. Награждается орденом святого Станислава третьей степени.
Катя с недоумением посмотрела на главврача и перевела взгляд на Савельева. Он, понимающе усмехнувшись, кивнул ей, чтобы шла. За ней вызвали Зою. На этом торжество было закончено.
– Сергей Матвеевич, а мне-то за что? А вам почему не дали? – улучив минутку, закидала его вопросами Катя.
– Политик из тебя, девочка, никудышный. А все ведь так просто! Главврач подает прошение о награждении всех работников, расписывая трудности и тяготы службы медицинской. Но что отсюда следует? А то, что он сам заслуживает самой-самой высокой награды, как руководитель. Он каждую ночь во сне видит орден святого Владимира с мечами. И получит…
– А вы?
– Куда мне до наград! Я как бревно в глазу главврача. Старший ординатор сегодня только предупредил, чтобы я собирался понемногу. Обменивают меня на одного врача полевого госпиталя, чьего-то протеже, ссылаясь, что у того обострение подагры и ему трудно все время передвигаться с госпиталем. Так что радуйся своей награде. – Но, приглядевшись к ней, добавил: – Ты чего побледнела, Катюша? Что-то как врачу мне твой вид не нравится. Ты не больна? Докатишься Катенька. Пойдем в кабинет, я тебя посмотрю.
Тут же Катя почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо.
– Слушай, малышка, ты не влюбилась, случайно? – Он повернул ее к свету и заглянул в глаза. Его внимательный серо-зеленый взгляд встретился с синим Катиным. – Неужели в меня?
Катя, резко повернувшись, пошла по коридору. Савельев постоял несколько секунд, потом кинулся за ней, остановил за руку, встряхнул за плечи;
– Ну нельзя же так! – И, чуть задумавшись, словно прикидывая что-то, добавил: – Если хочешь, приходи сегодня вечером ко мне. Попозже.
Катя ненавидяще сузила глаза:
– Ты смеешься, Сереженька. – Первый раз у нее выговорилось ласковое его имя, но с негодованием в интонации. – Ты смеешься! Как у тебя все просто!
У Кати на языке вертелся пошлейший вопрос: «А когда прийти? До Зои или после?» – но хорошо, что вовремя сдержалась: сама себе никогда бы его не простила.
Катя, чтобы не видеть Зою, до глубокой ночи пробыла в госпитале, бесцельно слоняясь из палаты в ординаторскую и обратно. Очень тяжелых больных не было. Те, кто чувствовал себя похуже, спали. Выздоравливающие раздобыли через палатных служителей китайской водки и были взвинчены – то пели, то матерились на чем свет стоит. Пахло хвоей и дешевой просяной водкой «ханой». Врачи тоже пили, хвастаясь военными, да и любовными подвигами. В углу, свалив кучей на пол папки с анкетами и отчетами, аптекарь, каптенармус и два ординатора с совершенно отрешенными лицами играли в преферанс.
– Что это у тебя вид такой неприкаянный, Катюша? Праздник, а ты ходишь привидением, – остановила ее в коридоре сестра-хозяйка и увела к себе пить чай с пирогами.
На крошечной елочке, стоявшей рядом с самоваром, висели конфеты, заграничные пилюли в нарядных облатках и стеклянные ампулы с лекарствами на разноцветных шелковых шнурках, какими перевязывают пакеты с товаром в китайских магазинчиках.
 |
– Сейчас мы с тобой по рюмочке кагора пропустим. И не отказывайся. Все не пьют. Глоточек в честь праздника?.. Зойку сейчас тоже чаем отпаивала. Савельев уезжает, так она его словно на смерть лютую провожает. Можно подумать, врачи-полевики в наступление ходят. И чего реветь? Мужчина перед суровым, делом должен видеть ласку да заботу, а не истерику со слезами без просыху. С каким чувством ему уезжать?
«А тут еще я со своими претензиями… – сокрушенно подумала Катя. – Сергей-то при чем?»
Они еще с час поговорили о далекой России, о китайских обычаях, и Катя пошла спать.
Первое, что она увидела в своей комнате, был белый с золотом конверт, светлым бликом сияющий на скатерти. Чакрабон! Катя аккуратно отрезала полоску с краешка и вынула хрустящий с перламутровым отливом лист. «С праздником, Катрин… Вы редко пишете. Катенька, я беспокоюсь… Вы так много для меня значите…» Дальше стихи. Лек пишет стихи? Очень мило. Как это все далеко… Яркие люстры Петербурга, мазурка Венявского… Она достала слоненка и положила его под подушку. Пусть хоть сон приснится веселый или спокойный. Но едва легла, мысли опять побежали по проторенной дорожке.
«С Зоей не разговариваю. Теперь еще Сергей будет смотреть как на врага. Мало ему Зойкиных слез? Кто-то в ординаторской говорил про китайского знахаря, который лечит магнитом и молитвами, избавляет от нервных расстройств и дурных мыслей. Может, к нему сходить. И выкинуть Савельева из головы, тем более, что он уедет завтра и не за кем будет ходить тенью и ловит: каждое слово. И не будет унизительного ощущения неуправляемости своими же чувствами, взглядами, словами в Сережином присутствии».
Катя представила, что Савельева не стало вообще. Исчез совсем. И нахлынула такая пустота!.. Стало неуютно, ветрено, как на октябрьских полях, когда по колючей холодной земле прыгают вороны, доклевывают какие-то остатки, и тяжелые тучи низко висят над головой. Нет, нет! Пусть будет как есть, пусть будет безнадежность и тоска, но только чтобы знать, что он ходит хоть далеко, хоть рядом, ругается с начальством, читает классику рязанским мужикам, отчитывает неловких служителей и неумелых сестер милосердия. Достается всем, конечно, но ведь по делу. Она вспомнила, как сама три дня назад напросилась помогать ему при операции. Он согласился. А потом, когда она стала подавать невпопад инструменты, наорал на нее, обозвал балдой и крикнул фельдшера. Катя ушла расстроенная, ругая себя за самонадеянность. Вечером Сергей пришел с книгами.
«Катенька, извини, если обидел…»
«Да что вы, Сергей Матвеевич! Балда и есть балда. Неумеха бездарная».
«Ну не огорчайся. Какие наши годы! Вот тебе учебники. Посиди почитай. Потом я с тобой позанимаюсь. Покажу и объясню кое-что по хирургии».
Теперь уж не объяснит. Катя вздохнула и незаметно задремала.
Утро было такое же ясное, морозное и бесснежное, как накануне. «А в Киеве сейчас сугробы, санки, катки», – думала она, в едва накинутой на плечи шубке перебегая двор к зданию госпиталя. В дверях ее встретил главврач.
– Лесницкая, не раздевайтесь. Сходите за Савельевым. Он еще не все вещи на склад сдал. Укатит – потом ищи-свищи его.
Катя побежала обратно. Вот и хорошо. И повода искать не надо, чтобы подойти и хоть попрощаться по-человечески. Она на минуту задержалась у двери в савельевскую комнату, чтобы успокоить дыхание, и прислушалась. Тихо. Кажется, один.
– Сергей Матвеевич, вас главврач спрашивает. Ой, я не поздоровалась.
– С добрым утром. Заходи, Катюша, гостьей будешь. Правда, я сам уже не хозяин. – Он показал на маленький чемоданчик и свернутую постель.
Катя посмотрела на него, не сердится ли за вчерашнее? Нет. В серо-зеленой глубине только спокойная доброжелательность.
– Может, ненадолго вы туда?.. Дядя Захар говорил вчера, в Кромском полку солдат-провидец объявился и предрек окончание войны двадцать седьмого января. Так это скоро. Месяц всего – и будет мир!
– Ты веришь? Глупенькая. И «Вестнику маньчжурских армий» веришь о каждодневном победоносном наступлении? Если бы мы так успешно наступали, как пишут последние полгода, мы бы уже где-то в районе Австралии топали…
– Нет, «Вестнику» не верю.
Помолчали. Катя думала, что бы еще сказать, и вдруг увидела часы, стрелки которых были развернуты не в полагающуюся утру сторону.
– Сергей Матвеевич, у вас часы стоят.
Он глянул на циферблат.
– Нет, все нормально. – И, поймав Катин вопрошающий взгляд, пояснил: – Я как из Москвы выехал, так и не переводил стрелки. Вот и живу по довоенному времени. У мамы дома два пополудни, и у меня столько же.
– И не мешает? Не путаетесь?
– Ни капельки! И так привык, что просто не вижу разницы. Только давай считать это прихотью, а не пижонством. – Катя согласно кивнула, и он, помолчав, добавил: – А ты, однако, невнимательна. За два месяца знакомства не заметила моих часов. И еще кое-что не замечаешь…
– Да, я знаю, что у меня уйма недостатков. Сейчас все буду вспоминать и начну краснеть.
– Разрешаю не краснеть. Ты хорошая девочка. – Он погладил ее по русым волосам и слегка обнял.
– Дождалась все-таки, – прошептала Катя, но Савельев не расслышал или сделал вид, что не расслышал.
– Мне пора, через два часа поезд на Мукден, а еще дела…
– До свидания, Сергей Матвеевич, всего вам доброго. – Катя с неохотой закрыла дверь и пошла в госпиталь.
Ждали мира, а началась лихорадочная подготовка к зимней кампании. Спешно была создана «вышибальная комиссия». Госпиталь очищали для приема большой партии раненых. Калек – в тыл, подлечившихся – на фронт.
Кате пришлось писать заключения комиссии об отправке в полки солдат, и, зная многих из них, она тихонько возмущалась. Какие же это бойцы? Как дядя Захар сможет стрелять из винтовки, если он едва научился ложку негнущимися пальцами ко рту подносить? Как будет бежать в наступление хромой Максимка с отрезанными пальцами на одной ноге и едва загнувшейся раной? Какой толк от еле ползающих от слабости послетифозных больных? С офицерами были более либеральны: отправляли больше в тыл, даже тех, про которых Савельев говорил, что они больны «тыломанией». Играли определенную роль и взятки. Тут возможности солдат и офицеров слишком разнились. Но были офицеры, рвавшиеся на оставленные позиции, переживавшие за подчиненных. Катя пыталась смотреть на происходящее глазами Сергея, и не просто смотреть, а видеть за поступками людей мотивы, побуждающие их поступать так или иначе.
Едва успели перестелить белье на освободившихся койках, как поступила первая партия раненых. Русские люди погибали, отражая отчаянные атаки у деревень Хейгоутей, Сандепу и Дзинь-у-дзинь («Какое легкомысленно-звонкое название, несовместимое с тысячами смертей», – подумала тогда Катя). И начались дни, которые вспоминались позже как лихорадочный бред.
Стон, неумолкающий стон, тягучий и всхлипывающий, стоял в палатах. Не успевали кипятить воду, чтобы напоить чаем всех раненых.
– Сестричка, пить, – просил солдат ржаво-запекшимися губами.
Катя неслась на кухню, чтобы через минуту вернуться обратно и успокоить хотя бы словом:
– Сейчас, сейчас. Кипятят. Нельзя сырую – дизентерия. Потерпи, миленький.
Приемный покой, вестибюль – все было забито стонущими людьми. Невозможно было помочь всем. Ощущение беспомощности впервые в жизни стало всепоглощающим. Катя металась от одного страдания к другому, едва успевая перебинтовывать, смазывать, поить. И, уже валясь с ног от усталости, чувствуя, что от нее сейчас не будет никакого толка, присела на мгновение в ординаторской, единственном месте, где не было раненых, закрыла глаза и вдруг совершенно отчетливо – вот, оказывается, какими бывают галлюцинации! – услышала голос Савельева: «Стоп, девочка, так дальше не пойдет! Забудь про жалость и эмоции, стань машиной. Быстрой и бесстрастной. Все пройдет. И это тоже. Иначе тебя хватит не надолго. Здесь надо быть или автоматом, или философом. Первое легче. Сейчас отключись – три минуты отдыха… Пора! Тебя ждут люди».
Размылась граница между обязанностями сестер милосердия и палатных служителей. Вместе с санитарами Катя переносила в морг умерших, меняла грязное белье раненым, превратившимся в безвольный ком стонущей плоти. Только однажды она усмехнулась: вспомнила, как отказывалась за обеденным столом Храповицкой полоскать рот мятной водой, считая эту процедуру не особенно приятной для взгляда. Господи, какие условности! Сейчас бы очутиться в спокойной той беззаботности.
Старший ординатор, подагрик, прибывший взамен Савельева вместе с женой, тоже сестрой милосердия, устало подмигнул Кате:
– Упасть бы в постель, да, сестричка? – И даже попытался скаламбурить: – Попасть бы в поспать! Она слабо улыбнулась в ответ, испытывая двойственное чувство. С одной стороны, неприязнь: из-за него ведь отослали Савельева; с другой – сочувствие: ему и правда труднее других, болен, а работает как все, без всяких поблажек.
– Лесницкая! – окликнул главврач. – На улице линейка с ранеными. Поедете с ними на вокзал. Вот списки с диагнозами. Их осмотрели, оказали помощь. Если встретите инспектора, скажете, что у нас больше нет мест. И всех, кто сюда едет, разворачивайте назад.
Катя с радостью вышла на свежий воздух, но, едва глянув на раненых, побежала обратно.
– Как же так, Василий Петрович? Там трое раненых в живот. Их трогать нельзя, им покой – самое главное… Они же умрут, пока я их до вокзала довезу… Хоть этих давайте оставим, Василий Петрович!
– Выполняйте распоряжение без разговоров! Не хотите ехать – других пошлю…
Катя, глотая слезы, залезла в линейку.
– Воды бы, сестричка, – измученно прошептал солдат с бородой, казавшейся иссиня-черной на обескровленном лице.
– Нельзя пить. У вас рана в живот, – страдальчески морщась, физически ощущая чужую боль, проговорила Катя.
– А!.. Все равно помирать!
Тут колесо угодило в рытвину, и солдат потерял сознание. «Хоть на несколько минут ему освобождение от муки», – подумала Катя.
На вокзале она подождала, пока ее подопечных погрузили в грязный, набитый ранеными санитарный поезд, погладила по щеке еще живого чернобородого: «Не умирайте…» – и, передавая списки врачу, спросила, сколько раненых в составе. «Тысяча», – последовал ответ. Она вспомнила свой белоликий поезд, рассчитанный на сто семьдесят человек. Кому повезет возвращаться в роскошных вагонах?..
То, что Катя увидела несколькими минутами позже, ужаснуло ее.
Подошел товарняк. Но вместо грузчиков к нему двинулись санитары. И в раскрытые двери она на голых досках неотапливаемых вагонов увидела множество раненых. Их стали выволакивать наружу и укладывать кого на носилки, кого на замызганные серые одеяла, расстеленные по перрону. У Кати была с собой сумка с медикаментами, и она бросилась помогать фельдшеру. Умерших за время дороги складывали отдельно. Их было больше десятка в каждом вагоне.
Фельдшер, матерясь во всю глотку, кидал распоряжения санитарам. Увидев в стороне двух бесцельно стоящих офицеров, он не терпящим возражений голосом велел им помочь перетащить раненых в здание вокзала:
– Люди вы или не люди?!
– Ишь раскомандовался, – неохотно огрызнулся молоденький поручик, но все-таки направился к носилкам.
– Изверги, что делают! Да почти все умершие от холода околели.
– Но как же так?
– Очень просто, – ответил фельдшер на Катин вопрос, одновременно пытаясь остановить открывшееся при переноске кровотечение у старого солдата-татарина. – Халатность и бездушие.
Перед Катей словно мелькнуло лицо Савельева: «Бездушие, безобразие, беспорядки…»
– Три санитара и один врач на поезд… Без еды и свечей… В январские морозы… Лишь бы телеграфировать: «Все раненые вывезены», – а там все на войну спишется. Отслужат панихиду по убиенным, избавятся от раненых, издадут приказ: «Исключить из всех видов ротного довольствия». – И повторил: – Очень просто все.
– Эй, барышня, назад ехать надо, – позвал Катю госпитальный возчик, и она, передав фельдшеру оставшиеся перевязочные пакеты, поспешила к линейке. Только на минутку задержалась у киоска, чтобы купить номер хабаровского «Вестника».
На обратной дороге, вглядываясь в скачущие буквы, пыталась понять, каково же положение на фронтах. Но там было сказано что-то очень уж чудное, а именно, что наши войска, выполнив возложенную на них задачу, отошли на прежние позиции.
В госпитале Катю ждал выговор главврача:
– Где вы прохлаждаетесь, Лесницкая?
Но, глянув на ее осунувшееся, бледное лицо и чуть смягчившись, он добавил:
– Трудиться надо, Катерина. Идите в палату. Представлю к Георгию за самоотверженный уход за ранеными.
– Можно подумать, если бы мне не посулили награду, я бы спать ушла, – негодующе пробормотала Катя и сразу же откликнулась на первый беспомощный зов: – Сейчас напою…
К десятому дню такой выматывающей работы она почувствовала, что стала гораздо собраннее и сосредоточеннее. Делала все спокойнее, а успевала больше…
Чакрабон в составе свиты вошел за Николаем в торжественную белую залу Царскосельского дворца. Императору подготовили встречу с депутацией петербургских рабочих.
Лек ожидал увидеть людей пусть в чистой, но дешевой и даже заплатанной одежде. Три десятка человек, очутившихся перед ликом императора, никак не подходили под представление о мастеровых. Конторщики, секретари? Очередной спектакль…
С июля он совершенно перестал уважать царя. Никак не в силах было его радушие заменить отсутствие государственного мышления. Не видит и не хочет видеть происходящего вокруг. Летом повелел инспектировать проведение третьей и четвертой частных мобилизаций по Петербургскому военному округу. Лек с воодушевлением взялся за дело, но окунулся в такое взяточничество и неурядицы, что понял – только волею императора можно навести хоть приблизительный порядок.
Он скакал из Красного Села. Недавно прошел дождь. И вдруг в дорожную грязь, на колени, под ноги коню кинулся бородатый мужик. Лек еле успел натянуть поводья: «Чего тебе?» А тот одной рукой на испуганных детей у обочины показывает – мал мала меньше, другой веревку протягивает: «Повесьте или застрелите…» И в глазах не страх – безнадежность, отчаяние. Оказалось, вдовец, пятеро детей, а его – на войну. Чакрабон своим личным распоряжением приказал освободить мужика. Если бы это был единственный случай!.. А лавочники да заводчики откупаются. Праздник для любителей набивать кошельки за чужой счет. Писарь берет трешку за незаконное снятие с учета, врач – по пятерке за признание негодности к воинской службе…
Лек составил докладную на имя императора. Все описал: и мобилизованных, не кормленных по нескольку дней, и грязные помещения, болезни, ропот… Неделю ожидал применения решительных мер. И что ж? Когда царь соизволил его принять, он просто-напросто отмахнулся от деловых разговоров: «Обойдется! Мне подарили байдарку. Пойдем обновим. Ты что-то неважно выглядишь, Лек. Надо больше гулять на воздухе. Отец с меня спросит за твое здоровье…» И Чакрабон, почувствовав себя все тем же пажом, ответил словами столь же малозначительными, но внимание его обострилось, он стал пристальнее смотреть вокруг, подмечал просчеты царя и министров, чтобы потом не допускать ошибок в служении Сиаму.
Две недели назад Николай распорядился, чтобы Лек на время перебрался в Царское Село, и с тех пор держит его здесь, давая незначительные поручения. Не хотел, чтобы принц был очевидцем расстрела безоружных толп? Скорее всего… Но имеющий уши да слышит! Похвальба офицеров, чьи солдаты «с замечательной выдержкой и подъемом духа» убили несколько сот рабочих с женами и детьми, рассказы о лужах крови, следах разрушений, ослепшем Невском, магазинах, разграбленных бандитами «под шумок»…
Теперь вот депутация «рабочих».
Они стояли навытяжку, боясь шелохнуться. В глазах жгучий интерес к обстановке дворца; одни были обескуражены, другие пожирали царя обожающими взорами – сейчас растекутся от счастья его лицезреть… Николай зачитал речь:
– Изменники и враги родины искушают вас… Я знаю, что жизнь рабочих нелегка, и позабочусь ее улучшить… Я выделяю пятьдесят тысяч на семьи жертв беспорядков…
Потом он подошел к одному из депутатов:
– Ты откуда? – Голос царя был благожелателен.
– С патронно-трубочного казенного завода, ваше величество. Унтер-офицер запаса Варламов.
– Ну-ну… – все, что нашел сказать государь этому «рабочему».
На том и кончилась встреча депутатов с императором. Их накормили завтраком и отправили в Петербург. Три десятка людей будут пересказывать детям и внукам, как стояли рядом с самим царем, а кто-то даже беседовал.
Не оттого ли все наперекосяк, что доверяется царь недобросовестным лицам? Он считает, что всегда поступает хорошо. Но ему нельзя верить, ибо одобренное сегодня отвергается завтра. Отсюда непорядки и беспокойство в империи?..
Неуютно, хотя многолюдно, светло и тепло было в Царском Селе. Леку хотелось скорее вернуться в свое отделение Зимнего, где можно было остаться наедине с мыслями. Нет электричества? Жили же раньше при свечах и петролевых лампах. Вот приедет, а там письмо от Катеньки…
Вот размечтался!.. Не пишет. Некогда? Конечно, но… отговорки. Просто не очень хочет. Это он строчит одно за другим. Никак не желает сердце забыть милую синеглазую девочку, искреннюю и серьезную.
А в госпитале к концу января, к китайскому Новому году, жизнь постепенно вошла в прежнее русло. Избыток раненых удалось вывезти. Медперсонал стал отсыпаться за две лихорадочные недели. Зоя, тоже похудевшая, совсем перестала смеяться. Если и говорила что-то, то только тогда, когда молчать было невозможно. Катя спросит – она ответит, глядя равнодушно или неприязненно.
«Словно из-за меня Савельев не хотел на ней жениться… А может, правда из-за меня? Смотрел ласково… Всегда рядом оказывался, если что-то не получалось… Он сказал, что ничего не замечаю. Может, поэтому же? И Зое просто виднее все? Но я же не специально. И уехал он не из-за меня», – оправдывалась перед собой Катя, но выяснять отношения не хотелось ни той, ни другой. Так и жили в одной комнате, разделенные невидимой стеной отчуждения. А потом Зоя соорудила вполне ощутимую стенку – купила нарядную легкую в нестрашных драконах шелковую китайскую ширму и отгородила свою кровать. «Ну и пусть, если ей так легче», – сочувственно согласилась Катя.
Савельев не писал. Впрочем, он и не обещал никому… А заботливые письма-записки от Чакрабона приходили с каждой оказией: «…Может, что-нибудь нужно? Деньги, влияние?..» Стихов больше не было, наверное, потому, что ответы следовали суховато-деловые. Накапливалось несколько его конвертов, Катя спохватывалась, бежала на телеграф и передавала, что «все в порядке, все есть, все хорошо, спасибо». Иван тоже писал редко, но с братом никогда не было у нее потребности в постоянном тесном общении. Просто каждый из них знал, что есть на свете родной человек, который, если нужно, все бросит, прибежит, поможет, и эта кровная связь не нуждалась в каждодневном письменном подтверждении. А по Савельеву Катя тосковала. Она несколько раз видела его во сне. И сны эти были тяжелые. Она просыпалась с ощущением, что ему плохо, незаметно вглядывалась в Зоино лицо: неужели и она испытывает то же? Но, кроме холодной отрешенности, ничего нельзя было прочесть на нем.
Катя, не выдержав, написала Сергею в полевой госпиталь короткое полуофициальное письмо, но на то, что оно найдет адресата при хаотичных частых передвижениях, надежды почти не было. Оставалось ждать, уповая на конец войны. Но прошло двадцать седьмое января, обещанное кромским провидцем, а мира не было и в помине. Раненые поступали постоянно. Большинство из них осматривали и теми же линейками отправляли назад на вокзал, оставляя только самых тяжелых и тех, кого могли скоро вернуть к смертоносному делу. Врачи ворчали, что раненых надо осматривать и распределять прямо в поездах, не возя всех подряд в госпиталь и обратно, но сдвига в этом вопрос не намечалось. Так и сновали туда-сюда стонущие линейки. Крутилась запущенная в начале войны бюрократическая машина. «Был бы Савельев, может, он бы настоял, а остальные возмущаются, но мирятся», – думала Катя.
В феврале, когда китайцы еще праздновали вторую неделю своего Нового года, она увидела во дворе знакомую сухонькую фигурку.
– Степан Петрович, миленький, – по-родственному кинулась Катя к нему, – как вы там, какими судьбами?
Он за чашкой чая рассказал о своих мытарствах в поисках вагонов с медикаментами для полка, бесследно пропавших где-то между Харбином и Мукденом. Теперь вытребовал в инспекции две линейки с лошадьми, купленными взамен павших. Завтра загрузит их перевязочными пакетами, лекарствами и отправится назад. Только вот беда: Игнат, приехавший с ним, подхватил дизентерию и сейчас мучается, бедняга, во Втором госпитале. Кто вместо него поедет? Помощника надо искать.
– Степан Петрович, возьмите меня с собой, я сейчас многое умею, – загорелась Катя. «Там где-то Сережа, может, удастся свидеться». – Я договорюсь с начальством. – Она стала лихорадочно придумывать, как бы это устроить. – Меня отпустят! У нас одна сестра, приехавшая с мужем-врачом, внештатная, так я скажу, чтобы мое жалованье пока ей отдавали. Все будут довольны.
«И Зоя тоже», – добавила она мысленно.
Действительно, никаких осложнений с временным отпуском на «горячий» юг не случилось. Катя побросала в саквояж самые необходимые вещи и через два часа предстала перед доктором:
– Я готова, Степан Петрович.
– Ох какая ты скорая, – усмехнулся тот. – Мне медикаменты со склада только завтра утром отпустят. Но раз ты освободилась, давай по городу проедем. Я в прошлый раз ничего не успел увидеть. И в китайскую аптеку надо заглянуть.
Катя рассказывала ему про Харбин, то и дело ловя себя на савельевских словах и интонациях. В китайском районе почти все магазины в честь Нового года были закрыты. Но фудутунок с разряженными пассажирами попадалось больше. Китайцы степенно вылезали из них у фанз, украшенных бумажными фонариками и неизменными драконами, громко стучали железными дверными кольцами, извещая о приходе гостей.
Аптека была открыта – и в праздничные дни можно заболеть! Внутри она мало чем отличалась от наших. Комнату пополам разделял прилавок. За ним неторопливый китаец приготовлял какую-то микстуру, добавляя капельки из разных колб, и время от времени встряхивал бутылочку с темной жидкостью. Перед ним лежал длинный, свертывающийся в трубочку рецепт – столбики иероглифов на рисовой бумаге. За спиной аптекаря всю стену сверху донизу занимали ящики с травами, полки с баночками и бутылями. Закончив взбалтывать микстуру, китаец вопросительно глянул на вошедших.
– Мне бы женьшень, – сказал врач.
– Шанго, шанго, – залопотал аптекарь, услышав знакомые слова, и разложил несколько корешков, называя цены. – Три… шесть… пять рублей.
Самыми дорогими были крупные корешки, точно воспроизводящие фигуру человека.
– В Мукдене дешевле. Придется там взять, – сказал Степан Петрович и пояснил Кате: – В Москву коллеге обещал выслать.
Чтобы не уходить с пустыми руками, он купил дешевый, всего за рубль, скрюченный корешок-инвалидик об одной руке и одной ноге, но зато с толстеньким туловищем.
На обратном пути они немного задержались у кафешантана «Веселые птички».
– Может, посмотрим, что там, и поужинаем заодно? – предложил Степан Петрович.
Швейцар приоткрыл двери, чтобы выпустить подвыпившую парочку, и кафешантан выдохнул разудалую музыку с клубами теплого душного воздуха.
– Что-то мне не хочется, – засомневалась Катя, но заглянула в окно с отодвинутыми шторами и минуту смотрела, как негр с изящной блондинкой в киримоне и русский офицер с китаянкой в голубом очень узком платье танцевали между столиками кэк-уок. Дамы старательно льнули к партнерам. Кате вдруг стало противно, и она потянула старого врача назад, к коляске. – Пойдемте, в госпитале поедим.
Рано утром Степан Петрович тихонько, чтобы не разбудить Зою, постучал в темное окошко. Катя неслышно выскользнула на улицу. Он придирчиво оглядел девушку:
– Не замерзнешь? Одеяло захвати – ноги укутаешь.
У ворот стояли две линейки. На облучке одной восседал извозчик.
– Забирайся рядом с ним, присматривайся. Он только по городу провезет, а дальше сама.
– Я?..– испугалась Катя. – А смогу? – Но пути назад не было, и она попробовала успокоить сама себя: – Вообще-то я полгода в школу верховой езды ходила…
– Тем более, Катенька… Лошади смирные, дорога ровная. А выедем из Харбина, какого-нибудь попутчика в помощь прихватим.
Попутчиком оказался русский мужик в китайском ватном халате, ковыляющий с палкой по обочине тракта.
– Ты откуда и куда? – спросил Степан Петрович, притормаживая на робко-просительный взмах руки.
– Ваше благородие, из госпиталя я, зовут Ильей, в свой Новочеркасский полк добираюсь. Три дня назад он под Байтану стоял.
– Садись вон к барышне. За извозчика будешь. Править-то хоть сможешь? Руки целы?
– Целы, ваше благородие. Нога только покалеченная.
– Эх, бедолаги. Вояка в халате – смех сквозь слезы.
И линейки тронулись. Катя передала вожжи Илье, лошади почувствовали крепкую мужскую хватку, побежали быстрее, и девушка смогла наконец осмотреться. По обе стороны дороги присыпанные неглубоким снегом поля. Участки отделены друг от друга темными остовами деревьев. Иногда они собирались в небольшой лесок, пытаясь укрыть селение с прямой улицей, аккуратными фанзами и кумирней. По узким дорожкам спешили арбы, запряженные тройками низкорослых крепких лошадок. Чем дальше от Харбина, тем менее оживленными были деревеньки, тем больше испуга и настороженности мелькало в узкоглазых желтых лицах, провожающих взглядами повозки. К вечеру попалась первая полуразрушенная деревня с разбитой кумирней, с раскиданными по снегу, обезображенными идолами. Катя, давно перебравшаяся к Степану Петровичу, спросила:
– Неужели здесь были бои?
– Нет, это работа карательных отрядов, говорят, за укрывание хунхузов. Дальше – больше… Есть деревни, где камня на камне не осталось. Представляешь, Катюша, сколько нужно терпения китайцам, сколько выдержки, чтобы беспрекословно переносить все это и безропотно смотреть, как чужеземцы двух стран варварски распоряжаются на их земле, разбивают фанзы, растаскивают веками скопленное добро.
Илья, всю дорогу певший песни, затянул что-то очень знакомое. Уловив фамилию Куропаткина в его басе, Катя спросила Степана Петровича, о чем поет Илья. Врач притормозил, чтобы вторая линейка догнала их, и прокричал Илье:
– Спой-ка еще разок!
И снова над полями и сопками Китая зазвучали куплеты, ловко слепленные – кем? – из злободневных событий и известных стихов:
– Не без юмора русский народ, однако, – заметил Степан Петрович, – и глаз острый. Вчерашний «Вестник маньчжурских армий» смотрела? «Командир корпуса благодарит войска… японские обозы отступают… музыка полковых оркестров… настроение войск веселое…» Это, видно, в редакции им было весело с ханшина.
– А говорят, госпитальный инспектор Солнцев застрелился…
– Говорят, – согласился врач. – Говорят еще, записку оставил, что считает себя виновным в гибели сотен раненых. Совесть взыграла. А что толку сейчас-то? И в России беспорядки. То забастовки, то демонстрации. Куда катимся?
Так, переговариваясь и останавливаясь перекусить в придорожных харчевнях, они продвигались на юг.
Заночевать пришлось в китайском домишке: гостиница Тьелина была переполнена. И, отдав по рублю с человека, они получили от хозяина фанзы, лысого старика с длинной тощей бороденкой, три ватных одеяла и несколько циновок. Катя устроилась на единственном подобии лавки и, глянув на грязные одеяла в каких-то подозрительных пятнах, обрадовалась, что захватила свое, укуталась в него и сразу погрузилась в сон, где, подскакивая на ухабах, уносились назад сопки, деревья, кумирни…
– Следующей ночью выспишься по-настоящему, – утешал утром Катю Степан Петрович, видя, как она потирает поясницу, ноющую от тряской дороги и непривычно жесткой лежанки. – Во всяком случае, когда я уезжал, госпиталь был хорошо устроен. А сейчас? Ну, доживем – увидим…
И снова побежала дорога.
Но что-то слишком много людей стало попадаться им навстречу. На арбах, волочащих нехитрый скарб, и пешком, семьями и поодиночке, китайцы и русские.
Перестал петь Илья. Хмуро молчал Степан Петрович.
Вот проехал длинный обоз. На ящиках – коричневой краской – «Экономическое общество».
– Что там? – прокричал врач последнему возчику.
– Отступаем… Японцы в Мукдене… – не притормаживая, ответил тот.
– Что будем делать? – повернулся Степан Петрович к Кате. – Где искать своих?
– Попробуем подъехать ближе? Может, город еще свободен? Далеко он?
– Да нет, рукой подать. – Он махнул куда-то вперед.
Но Катя, даже приглядевшись, не смогла ничего разобрать, кроме вихрей снежной пыли, смешанной с песком. Дул пронзительный северный ветер. Над красным кирпичным домом среди кучки строений висел на привязи воздушный шар. Его веревка чернела струной, оттянутой к югу.
Шум, поначалу отдаленно-глухой, усиливался, приближался. Встречный поток людей и повозок не давал двигаться.
– Ох, Катюша, не повезло! Не видать нам Мукдена. Вот что: пересаживайся на свою линейку. Илья, видно, неплохой мужик, но отвечаем за медикаменты мы. Бог его знает, что может случиться. А ля rep ком а ля гер. Будь разумной, девочка. Без паники. Укладочная книжка в нижнем ящике вашей линейки. А я уж сам. – Степан Петрович похлопал ее по плечу и замахал Илье. Но тот и так стоял. Ехать на юг было нельзя.
Потянулись воинские обозы: батареи, понтонные мосты…
Вдруг в полуверсте от дороги разорвалась первая, пущенная с запада шимоза. Еще чуть ближе ухнул тяжелый снаряд… Еще ближе с другой стороны…
Откуда-то появились на сопках орудия и стали засыпать обозы шрапнелью. Били безнаказанно, по ним – ни одного выстрела.
Кольцо заметно суживалось. Вдруг две шимозы одновременно разорвались среди обозов.
И тогда начался хаос, о котором Катя впоследствии не могла связно сказать ничего.
Паника.
Дорога не вмещала обозы, тщетно пытавшиеся вырваться из-под обстрела и лошадей пускали вскачь по пашне.
Повозки наскакивали друг на друга, перевертывались.
Беспорядочно стреляли из ружей близкие к помешательству обозные.
Отваливались колеса двуколок.
Храпели лошади, сломавшие ноги в канавах.
Вопили искалеченные люди.
– Сволочи! Куда?.. Стойте!
Катя оглянулась на отчаянный высокий, почти мальчишеский, голос.
Офицер, размахивая шашкой, пытался остановить обезумевших солдат.
Бесполезно. Лицо его из гневного стало растерянным, и он, уже не сопротивляясь общему потоку, поскакал на север.
В крики, треск, уханья взрывов вплелся истошный визг. Черные китайские свиньи, ошалевшие от грохота, мчались наперерез обозам.
– Спокойно, только спокойно! – как заклинание повторяла Катя, давно потеряв из виду линейку Степана Петровича.
– Чему быть, того не миновать, – успокаивал Катю Илья и, чтобы только не молчать, продолжал, перекрикивая взрывы, раздававшиеся с обеих сторон: – Вы, барышня, как хотите, а я с дороги не сверну! Может, оно и посвободнее было бы по полям-то, так это только дурачью там лучше кажется. Вон сколько поломанных повозок. – И он показал в сторону поручика, пытавшегося с денщиком приладить сломанное колесо.
Вдруг, отчаявшись, поручик взмахом шашки перерезал постромки, вскочил на коня и, оставив солдата, кричавшего: «А я?.. А мне как же?» – унесся вперед. Вперед? Назад? Все сместилось. Совершалось невозможное. Рушились устои.
Полковник с выпученными глазами, спасая живот свой, махал руками, требуя остановиться и подобрать его, но повозки проносились мимо. Тогда он заметил лазаретную линейку, шедшую спокойнее других, ухватился за бортик и, балансируя, двинулся к Илье.
– Осторожнее, вы на лекарства наступаете, – только успела ахнуть Катя.
– Какие, к дьяволу, лекарства! – Он грязно выругался и ударил Илью шашкой плашмя по плечу. – Скорее, выродок! Чего плетешься?
И Илья, который всю свою жизнь считался скотинкой бессловесной, вдруг обернулся к полковнику и, глядя прямо ему в глаза, четко и громко сказал:
– Сам выродок! Хватит, докомандовались. А ну, брысь отсюдова! – И, чуть притормозив, одним движением сильной руки вышвырнул его из повозки.
Опешивший полковник вскочил с земли, едва увернувшись от проносящегося галопом коня без седока, и стал стрелять вслед линейке. Но, видно, здорово тряслись у него руки – одна пуля лишь просвистела где-то рядом.
– И чего торопиться, – продолжал Илья как ни в чем не бывало, – поспешим и угодим прямо под этот самый лихой снаряд. А так он впереди да без нас разорвется. А мне вас, барышня, домой доставить живьем надо. Негоже на добро злом отвечать. И с больной ногой мне обратно не добраться, так что линейку беречь надобно. А чем этого с собой брать, – он кивнул назад, – так лучше людей подвезти, – он сделал особое ударение на слове «людей», – вон сколько пораненных.
Напоминание о раненых кольнуло Катю. «Ох, что ж я о себе только и думаю! Какая же я сестра милосердия? Целый воз медикаментов, а никому не помогла». И она тут же сказала Илье строго, насколько могла, чтобы он свернул на пашню к двум ближе всех лежащим фигурам. Боялась, что не станет слушать, но он сразу выехал на гаоляновое поле, осторожно сдерживая лошадей.
Вот поручик со сломанной голенью. Стонет. В глазах безнадежность. Катя споро наложила лубок, помогла раненому забраться в линейку. Перевязала рваную рану штатскому – служащему банка, отставшему от своего обоза. Наложила жгут и забинтовала руку старухе китаянке. Можно было работать почти спокойно – полоса огня оставалась за спиной, – но быстро темнело. Илья, сам постанывая от боли, когда задевал чем-нибудь незажившую ногу, помогал как мог: нашел и зажег две свечи, успокаивал раненых, подносил перевязочные пакеты, не пускал в линейку тех, кто мог идти самостоятельно.
Женское лицо в трепещущем свете, сосредоточенно склоненное над очередным раненым, было видно издалека, и то тут, то там слышались призывные мольбы: «Сестричка, умираю… помогите…»
Кате было жарко в работе, а раненых знобило от неподвижности, холода, потери крови. Срочно надо было искать ночлег. Слева от дороги в полумраке угадывалась рощица. «Должно быть, и деревенька там», – подумала девушка, но дома оказались разрушенными до основания. Наконец Катя где-то на отшибе нашла маленькую фанзишку с целыми стенами и помогла всем перебраться под крышу. Одного, раненного в живот и часто теряющего сознание, решила оставить в линейке, но натаскала туда груду тряпья – старых ватных одеял и халатов, брошенных хозяевами при уходе. Наскоро сложили очаг, наломали веток, натолкали в котелок снега, смешанного с песком, поставили кипятить воду. Немного провизии было у Кати, плитка шоколада нашлась у поручика, сухари – у китаянки. Катя налила кому было можно по глотку спирта, и лица раненых потеплели, послышалось сонное сопение, перемежаемое всхрапыванием.
Илья задал корм лошадям, благо немного его было приготовлено про запас, и отвел их под укрытие. Катя разобрала очаг, отнесла горячие еще камни в линейку, обложив ими оставшегося там на ночь человека, и тоже прикорнула, свернувшись калачиком на чьей-то шинели.
К утру фанзу выморозило, и раненые стали просыпаться от холода. Пришлось еще раз собрать грязный снег для оттаивания и распределить между всеми крохи, оставшиеся от ужина. Илья запряг лошадей, и линейка в рассветном сумраке выбралась на дорогу. По обочинам попадались трупы людей, лошадей. Даже окостеневший заяц мелькнул у самых колес.
Ехали на юг два дня, а обратно добирались неделю.
Где-то в районе Тьелина нашли эвакуирующийся госпиталь, и Катя наконец смогла передать своих подопечных в руки врачей. Так и добирались до Харбина с мукденским сводным госпиталем. Катю как сестру милосердия и Илью как кучера приняли на временное довольствие. Неспешно, чтобы зря не тревожить раненых, катили лазаретные линейки. На долгих стоянках делали инъекции и перевязки. Катины медикаменты пришлись очень кстати, и, пока добрались до места, в ее багаже не осталось ни одного перевязочного пакета.
Харбин был переполнен людьми. На лицах встречных читались растерянность, недоумение, отчаяние. Катя попросила Илью остановить линейку где-нибудь поближе к своему госпиталю, тепло поблагодарила его за помощь («Не за что, барышня… Это вам спасибо от людей!») и, попрощавшись с ранеными, вошла в знакомые ворота.
Здесь тоже все были взвинчены. Главврач едва глянул в Катину сторону: «Прибыли, ну и ладно, приступайте к работе». Одна сестра опять оказалась сверхштатной. Зоя, воспользовавшись неурядицей, попросила в мединспекции, чтобы ее отправили в Россию с каким-нибудь санитарным поездом, и стала укладывать вещи, упаковывать многочисленные безделушки, отрезы шелка.
Когда Катя зашла попрощаться, Зоя в раздумье глядела на ширму: с собой везти – громоздко, оставить – жалко.
– А ты возьми только шелк… Он легко должен сниматься с перекладинок, а вместо бамбука тебе дома остов из хороших палочек сделают.
Не отвечая, Зоя стала сдирать яркое полотнище.
– Ну что ты на меня сердишься? Давай хоть попрощаемся по-хорошему. Ну что нам делить?
– Теперь уж и правда делить нечего. – Зоины глаза сразу намокли, и губы стали кривиться.
– Что?..– спросила Катя, предчувствуя ответ.
– Нет больше Савельева… Видели его последний раз мертвого где-то у Сифонтая. А так… Разве я бы уехала? – Зоя всхлипнула, едва сдерживая рыдания.
Катя смотрела на нее и думала: «Неужели я так же изменилась? Какая она была? Хорошенькая и веселая. А сейчас? Темные круги под глазами, осунувшееся лицо, глубокие морщинки у губ и скорбь во взгляде… Но Сережа!.. Вот пусть докажут мне, что он умер! Пока не увижу списки погибших – не поверю. Даже в бумагах при нынешней неразберихе и то может быть путаница…»
– Тебя проводить до вокзала? – не зная, что сказать и как утешить Зою, спросила Катя.
– Не надо. За мной обещали двуколку прислать.
И точно, в дверь постучал санитар и забрал сразу большую часть вещей.
Зоя на минутку присела перед дорогой, потом, резко поднявшись, встряхнула головой, словно освобождаясь от всего несчастливого, что было в этом городе, подошла к Кате, чмокнула ее в теплую щеку.
– Бог с тобой! Будь удачливее меня.
У Кати на языке вертелись какие-то плоские фразы вроде: «Ты еще молода. И у тебя еще все образуется» Но зачем? И она произнесла только:
– Счастливого пути. Прощай!..
Она смотрела в окно, как проехала Зоя, не оглядываясь на дом, где были прожиты три месяца, слушала удаляющийся цокот копыт по промерзшей земле и удивлялась самой себе: «Я же не верю, что он погиб, именно поэтому так спокойно слушала Зою. Но почему я ей этого не сказала? Не посоветовала остаться и уточнить все? Проверить списки, спросить не одного, а нескольких свидетелей? Я, наверное, нехороший человек. Эгоистка. Сразу подумала: пускай она уезжает, а я его сама буду искать, и – кто знает? – может, отыщется, пусть раненый… Даже лучше: я его выхожу. Но это же нечестно! Всегда старалась поступать по справедливости… А почему нечестно? Раз уж она его так любит, то пусть бы сама подумала и поискала. Но все равно для себя самой не очень честно». Но что было теперь делать? Документы на отъезд у Зои были оформлены еще вчера. Да и не осталась бы она. А поезд сейчас уже отходит…
Катя окинула взглядом опустевшую комнату: стены, непривычно белые без полотен с цветами и птицами, кровать, неприкаянно чернеющую пружинной сеткой. Даже отсутствие ширмы, вначале воспринимаемой почти как оскорбление, сейчас ощущалось утратой. Катя сложила оголенные бамбуковые перекладины и вынесла их в коридор: может, пригодятся кому-нибудь.
Следующим утром на кухне, где она помогала разливать по мискам жидкую пшенку, ее разыскал Степан Петрович. Он с такой живостью подскочил к ней, чтобы погладить по голове – неужто живая? – заглянуть в глаза – все в порядке? – что Катя от неожиданности плеснула ему на мундир желтую кашу.
– Ох, чепуха все это, – отмахнулся он от ее попыток извиниться, стирая мокрой тряпкой ошметки пшенки. – Как ты добралась?
После сумбурных рассказов и сравнений выяснилось, что происходило с ними одно и то же. Только вместо Ильи Степан Петрович взял в экипаж помощником сноровистого и спокойного солдатика да прямо ночью в набитой людьми фанзе пришлось делать операцию, извлекать осколки.
– А я не знала, куда линейку девать, и оставила ее в госпитале, а медикаменты все использовала.
– Ну и молодец, хоть с толком истратила, не японцам достались. А линейка? Что ж… в одном госпитале или в другом – неважно. Я уже отчитался, что она потеряна при отступлении. Теперь все будет списываться на отступление. Бежали без оглядки, как французы в двенадцатом. Уже и не стрелял никто, а бежали, давили, гибли. Ходит по рукам чей-то стишок в ритме «Бородина». Читала? Нет? Длинный, но конец сейчас вспомню.
Он потер переносицу и выразительно, но тихо, чтобы не услышало начальство – крамола! – продекламировал:
– Степан Петрович, а как можно узнать, погиб или нет человек… врач? Он раньше у нас работал, потом был переведен в полевой госпиталь и, говорят, погиб. Но только говорят…
– Как фамилия? Может, я встречал?
– Савельев. Сергей Матвеевич.
– Фамилия знакома. – Степан Петрович задумался. – Нет, последнее время не слышал. Это раньше кто-то из коллег говорил, что есть такой способный хирург. Но попробовать установить можно…
Раненых постепенно вывозили. Работы с каждым днем становилось меньше. Едва освободившись, Катя начала ходить по инстанциям, выясняя хоть что-нибудь о возможной гибели или ранении, разыскивая свидетелей, пытаясь найти хоть какую-либо зацепочку. Безуспешно! Утешало лишь то, что в списках убитых фамилии Савельева не значилось. Но огорчало, что среди раненых его тоже не было. Некоторые служащие равнодушно перелистывали бумажки и устало бросали: «Нет!» – некоторые придирчиво выспрашивали, кто он ей, прежде чем достать нужную папку. «Никто… коллега, – проговаривала она наспех придуманную легенду. – Он при отъезде вещи у нас оставил. Не знаем, или родным отсылать, или его дожидаться?» В ответ следовало безразличное пожатие плечами: «Как хотите!»
Тем временем потеплело. Коричневые мохнатые гусеницы тополиных соцветий падали под ноги, и Катя машинально переступала через них, чтобы не раздавить. Деревья сначала укутала желто-зеленая дымка пробивающейся листвы. Еще неделя, и в их тени уже можно будет укрыться от по-летнему жаркого солнца. Жалко, мало деревьев в Харбине.
К маю стало ясно, что ожидание и поиски бесполезны.
Неужели чьи-то жадные руки трясущимися от радости пальцами переводили стрелки швейцарских савельевских часов, удивляясь странному времени, ими отсчитываемому?
Весна обещала спокойствие. Согнутые фигурки китайцев копошились на полях: соломенные островерхие шляпы, синие бумажные штаны, закатанные до колен, соломенные башмаки. Восстанавливались разрушенные кумирни; разоренные деревни обретали хозяев; камешек складывался с камешком, и жизнь потихоньку входила в прежнее русло, как Сунгари после половодья. Минул третий месяц, как отгремел последний артиллерийский залп, а мир подписан не был. Японцы, тоже обескровленные изнурительной войной, вовсе не собирались наступать. Неопределенность и двусмысленность положения тягостно отражались на всех: «Что ж правительства тянут?» Не спокойствие, а только жадное ожидание его освещало бездеятельность харбинской весны. Скорее бы домой, к родным, к мирному делу, к своим лесам и пашням… Переполненные поезда один за другим уезжали с вокзала к Сибири, но очередь до госпиталя никак не доходила, хотя раненые почти все были вывезены. Врачи сутками играли в карты и шахматы. Сестры милосердия слонялись без дела.
Только в середине лета Катя получила разрешение уехать в Россию, испытав забытое ощущение свободы и неподчиненности кому бы то ни было. Она оглядела неуютную, с радостью покидаемую комнату – пустые стены, никому больше не пригодившуюся Зоину кровать. Нарядное платье так и не пришлось надеть. Что ж праздновать, коли мир не подписан? Рядом с ним в чемодан уложила китайскую скатерть – не стало единственного яркого пятна в комнате, – шелковые халаты, купленные вместе с Савельевым, портсигар, инкрустированный перламутром, в подарок Ивану, корешки женьшеня – кому-нибудь, розовый батистовый платочек, пойманный Сергеем в китайском театре… Катя вдохнула еле заметный уже запах травы. Рядом с пакетом писем от Лека положила слоненка. Похожего на него, костяного, она однажды увидела в захудалой харбинской лавчонке. Тогда ее кольнуло чувство ревности: неужели кто-то еще станет обладателем такого же? И она купила слоненка. А когда принесла домой и поставила рядом, оказалось, что ни в какое сравнение они не идут. Костяной, местами пожелтевший сильнее, был слишком зримым, четко очерченным, с мелкими деталями. Паутинно-тоненькие выемки забила грязь. Он не притягивал глаз таинственной полупрозрачностью, не просился в ладони ласковой гладкостью. Катя отдала его на прощание сестре-хозяйке. И шубу тоже оставила. За тяжкую неделю отступления беличий мех сильно пообтерся, пятна от крови раненых и грязи, как их ни отчищали, все равно были заметны.
Поезд оказался старым, тряским, дребезжащим, но все пассажиры были рады и ему, были согласны терпеть временные неудобства, лишь бы добраться наконец домой, а он часами стоял на сибирских разъездах. Ветер был свеж и напоен запахами тайги. Бабы на станциях продавали кедровые орешки, грибы – сушеные и жаренные в сметане. Мальчишки в надежде заработать несколько копеек протягивали к раскрытым вагонным окнам букеты полевых цветов, переложенных ажурными листьями папоротника, – Катя поставила в стакан несколько душистых стеблей кипрея.
С попутчицей не повезло. Кате сразу показалось знакомым лицо молодой женщины, раскрашенное ярче, чем следовало бы. Только никак не вспоминалось откуда. А когда познакомились, она представилась: «Изольда» – и замялась, прежде чем сказать, что работала в Харбине служащей банка, не назвав его… Катя сразу узнала в ней дамочку из кафешантана «Веселые птички», расчетливо прильнувшую к негру в танце, и ей стало неприятно это случайное знакомство, а впрочем, попутчица не навязывала свое общество, разве что просила присмотреть за вещами, выходя прогуляться на остановках, да напевала что-то себе под нос.
Катя от нечего делать взялась перечитывать письма, присланные Леком. Одно, другое… Все явственнее ощущала она признательность к этому симпатичному человеку, с которым ее ничто не связывало, кроме дружеского расположения. Вот-вот, это как раз и согревало. Ирина Петровна заботилась о ней прежде всего в память об умерших родителях. Иван? Из чувства ответственности за судьбу сестренки. Раненым и начальству она нужна была очень: первым – как сестра милосердия, вторым – как исполнительный работник. А сама по себе? Со своей душой и собственным внутренним миром, со своими вопросами и фантазиями? Никому. Кроме Чакрабона. «И пожалуй, Сергея», – робко прошептал второй голос. А первый прикрикнул на него: «Нет! Ну нет же его!»
Катя разыскала конверт с рождественским письмом. Вспомнила свое удивление: Лек пишет стихи? Никогда не говорил… Но он вообще мало говорил о себе. Перечитала строки:
Дом… Как он верно написал про него. Сам на столько северных лет оторван от родины. А ее дом? В Харбине был временный приют. В Петербурге ждет гостеприимный, но не свой дом. В Киеве после маминой смерти опустевшие комнаты стали чужими. Сейчас вернуться туда одной, в большой особняк Лесницких? Нет, только не это. Предстояло самой ответить на множество вопросов, главный из которых: чем заняться дальше? Не окончанием же гимназии. Может, музыкой? Или английским? Ладно, успеется… Несколько месяцев отдыха, а потом что-нибудь придумается. Или Ивана попросит взять ее с собой за границу, когда он станет дипломатом. Как секретаря…
А пока единственное горячее желание – иметь свой дом. И для каждой вещи самой выбирать место. Не слишком возвышенные мечты? Ну и пусть. Это же молча, про себя. Мало ли что и кому приходит в голову!
Поезд гулко прогромыхал по железному волжскому мосту.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |